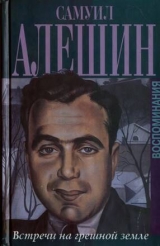
Текст книги "Воспоминания "Встречи на грешной земле""
Автор книги: Самуил Алешин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
Если раздается звонок телефона, она бежит к нему первая и, снявши трубку, кричит: – Вам кого?!.. Пенкину?.. Нету ей!.. Она где-то вышла. – И опять, шаркая ногами, бежит на кухню.
Борис! – раздается ее крик из кухни. – Ты не иди никуда. Сейчас кушать будешь!
Борис – долговязый парень лет семнадцати. Он работает электромонтером в том же клубе, где его мать, Евдокия Борисовна, служит уборщицей. Он тщательно следит за своей наружностью, зализывает волосы на пробор и завязывает галстук широким узлом. Не успевает зайти домой, как его уже зовут к телефону. Разговаривает он тихим голосом, интимно приложив руку горсточкой к трубке.
– Але? – говорит он. – Да, это я... Что?.. Ах, это вы... Зря вы, между прочим, у нас вчера на концерте не были... Мда... Много потеряли, между прочим... А сегодня у нас бал... Мда... Бал с этими, как их... конфетти и серпантин... Мда... А завтра у нас творческий отчет... Мда... Так что же я вас буду приглашать, когда вы, наверное, опять заняты... Ну там в кино с Колей или еще что, я же не знаю...
– Борис! – в это время кричит Евдокия Борисовна. – Хватит разговаривать! Обедать иди!
Мда... Ну так я вам и поверил... А потом вы опять будете, как тогда с Колей...
Борис! Хватит тебе! На работу опоздаешь!
– Мда... Сами на себя пеняйте... Ну, что ж, пожалуйста... Нет, это сегодня... С этими, как его, серпантином и конфетином... До встречи...
Борис! Все стынет!
Ну, пока...
Митя, второй сын Евдокии Борисовны Шитиковой, на три года старше брата. Он глухонемой. Окончив школу глухонемых, он начал работать слесарем. В этой школе его научили разговаривать, правда очень неясно, каким-то утробным голосом, но матери удается его понимать.
Ма-а-а, – мычит он. – А-а у-о-л а уб-о-л.
Опять на футбол, – говорит мать. – Да ты бы посидел дома.
К Мите ходят его товарищи, такие же глухонемые, как и он. Они обычно очень трясут парадную дверь и громко кричат, когда им открывают.
Гдэ Мыта?! – кричат они.
Тут он, – внятно отвечает Евдокия Борисовна и радушно кивает головой. – За-хо-ди-те.
Иногда Митя берет гитару и начинает петь. Странно и немного жутко слушать этот бессмысленный вой под такое же бессвязное бренчание гитары.
Есть у Мити и подруга, тоже глухонемая девушка. Когда они вместе гуляют, то тесно держат друг друга под руки, так и ходят, не глядя по сторонам.
Самый старший сын, Сергей, живет тут же со своей женой Клавой и маленькой дочкой. Их комнатка около кухни.
Сейчас Клава, женщина некрасивая, здоровая и со строгим характером, снова беременна. Но продолжает хозяйствовать ловко и уверенно, то давая шлепка девочке, то посылая мужа за покупками. Она все время в движении, – штопает, чинит, готовит, стирает и вышивает.
Я люблю детей, – говорит она сурово. – По мне пусть хоть десять будет. Вот уже Алечке два года, а тут этот будет. Потом, глядишь, Алечка помогать начнет. Вот это семья. А к старости я и отдохнуть у своих детей смогу.
Кого Клава не любит, так это свою свекровь. Все в квартире и так знают, что Евдокия Борисовна способна украсть то, что плохо лежит. Она ворует из клуба, в котором работает, у соседей и даже у сына, с тех пор как он зажил отдельной семьей. Все в квартире прячут что только можно в комнаты – примусы, посуду, спички, бензин. Клава же просто не позволяет свекрови заходить в свою комнату.
Когда в квартире что-либо пропадает, то жильцы прямо обращаются к Шитиковой.
Евдокия Борисовна, – говорят в таких случаях. – У меня галоши пропали.
А я при чем? Мало ли тут ходит народу.
– Евдокия Борисовна. Никакой народ здесь не ходит. А вот вы, может быть, по ошибке захватили.
– Да на черта мне нужны ваши галоши! Я и не видала их даже.
– Хорошо. Если сегодня же вечером галоши не будут на месте, я приму меры.
И вечером галоши стоят на месте.
Муж Шитиковой – «сам» – Егор Никитич, пожилой и забитый человек. Когда-то он был красивым парнем, но грубая жена совсем загоняла его. Он стал выпивать, потихоньку таскать с швейной фабрики материю на рубашки, на простыни и часто менял службу, чтобы не попасться.
Если приходили гости, то Евдокия Борисовна не давала ему слова сказать.
Ну, чего ты? – говорила она. – Тоже еще сказать хочет. Господи, вот чучело!
– Да что ты, мать... – бормотал он. – Я ведь, да ты...
Я ведь, да ты ведь! – передразнивала она его. – На, выпей лучше. – И она подвигала к нему водку. – Это ты умеешь.
И Шитиков мрачно умолкал. Мрачно и выпивал.
У него был приятель – истопник, который приехал в Москву из той же деревни, что и Шитиков. Евдокия обычно не снисходила до разговора с истопником, а потому два мужика вполне могли наговориться досыта.
У истопника была дочь, но она ушла из деревни давно и, попав в город, сбилась с пути, стала проституткой. Она жила где придется и иногда приходила ночевать к отцу.
Однажды ночью она пришла к Шитиковым. Те не пустили ее в комнату. Однако побоялись выгнать вон, так как она была пьяна и буйно настроена. И дочь истопника расположилась спать в прихожей, на лавке.
Утром ее увидали жильцы. Она валялась, раскинувшись на лавке. Ночью ее рвало, и на полу была большая лужа.
Из комнаты выскочила Евдокия и, увидев лужу, что-то зашептала и стала будить женщину.
– Даша, – говорила она. – Вставай, Даша... Наконец та приподнялась, села и, медленно покачивая ногами, стала глядеть на окружающих.
Идите, идите, – говорили ей.
Но ее еще качало, она была полупьяна и, поводя мутными глазами, бормотала:
– А чего?.. Ведь я разве чего?..
Идите, идите, – повторяли ей. – Идите к себе домой.
– Да разве я чего? – повторяла она. – Веду себя как порядочная, чурка мать... Ведь, как порядочная... Чурка мать...
Но тут она опустила голову и увидела на полу лужу.
И-ишь ты, – пропела она удивленно и шаркнула ногой по луже, словно хотела ее стереть. Затем, заметив, что все на нее смотрят, машинально провела пальцами по кофте на груди – все ли пуговицы застегнуты – и пошла к выходу, невесело усмехаясь.
На всех так подействовало ее отчаянное беззащитное бесстыдство, что никто не сказал ни слова упрека, а Евдокия, также ничего не говоря, стала вытирать пол.
Был у Шитиковых еще один сын – Миша. Второй, после Сергея. Он считался всеобщим любимцем, и его в семье баловали. Миша вырос хоть и добрым парнем, но пустым и капризным. Евдокия Борисовна, такая строгая к остальным детям, все прощала Мише. Однажды он украл у нее деньги. Она долго плакала, и лишь случайно об этом узнали в семье. В другой раз его принесли домой вдребезги пьяным, но мать сказала, что Миша болен, и ходила за ним, пока он не пришел в себя.
Во дворе стоял сарай для дров. Летом этот сарай пустовал и Миша с группой дворовых ребят устроил там небольшой клуб. Они запирались в сарае по вечерам, пели блатные песни и пьянствовали. Бывали в их компании и какие-то девицы.
Однажды милиция устроила облаву. Поздно ночью во дворе раздались стуки. Это милиционеры ломали дверь сарая. Внезапно дверь распахнулась, и из сарая выскочила растрепанная и голая по пояс женщина. В руках она держала комок белья. Воспользовавшись замешательством, она скрылась в темноте двора. Вслед за ней выскочило и несколько парней. Двое удрали, но остальных задержали. Миша был среди тех, кто удрал.
После этой истории он притих, и скоро его взяли в армию.
Евдокия Борисовна сильно тосковала по сыну. Каждую неделю она старалась послать ему какой-нибудь гостинец, то сладости, то папиросы, то деньги. Потом она вдруг уехала, – сказала, что к родным. А когда через неделю вернулась, ее едва можно было узнать, так она постарела, сгорбилась и осунулась.
Оказалось, Миша в армии проворовался и его отдали под суд.
После этого старик Шитиков совсем запил. Возвращаясь с работы, ложился в постель и там каждый день напивался до бесчувствия. Его лицо совсем измялось, выцвело, и руки все время тряслись, а волосы побелели.
Через некоторое время он напился на работе. Ему засчитали это за прогул и сослали. Тогда Евдокия Борисовна также стала немного выпивать.
Один звонок
Бекманов двое – мать и сын. Они живут уединенно, и к ним никто не ходит за исключением жены сына. У нее особый знак: она звонит и несколько раз стучит в дверь. Ее впускает обычно муж – Илья Бекман, так как по вечерам он почти всегда дома.
И мать, и сын работают. Матери, Софье Самойловне, более шестидесяти лет. Она научный сотрудник в Академии наук, а ранее преподавала философию. Он – инженер в научном Автотракторном институте. Утром они уходят, а часам к шести возвращаются. Сын идет за покупками, а мать принимается за готовку. Их достаток мог бы позволить содержать домработницу, но при такой соседке, как Евдокия – это немыслимо.
После обеда мать ложится отдохнуть, а потом садится чинить что-либо себе или сыну. Сын же берется за работу.
Илья женат уже два года, но он с женой Таней все еще живет порознь – обе матери противницы этого брака и не хотят селиться вместе с зятем или невесткой. Но если у Софьи Самойловны с Таней просто не возникло никакой взаимной симпатии, то мать Тани, человек религиозный, не могла простить дочери замужества с евреем.
– Все равно не будет вам житья, – твердила она постоянно Тане. – Разные вы с ним люди.
Все братья Тани отнеслись враждебно к ее браку. Еще до женитьбы, когда Илья только ходил в гости, соседка Тани сказала одному из братьев:
Вот у Тани какой интересный молодой человек появился. Такой складный. Скромный, умница и собой хорош.
– Да, – ответил брат, – но ведь еврей.
Отношения становились все более недружелюбными, и мать Тани убеждала ее:
Брось ты его. Вот увидишь – ты не бросишь, он тебя бросит. Не женится он на тебе. Это только так он с тобой, потому что ты видная, красивая. Даже если ты живешь с ним, все равно брось его!
Женитьба только подлила масла в огонь и превратила недружелюбные отношения во враждебные.
Ты молодая, красивая, ты инженер, самостоятельная, – все время убеждала Таню мать. – Тебе надо разойтись с ним, у тебя еще будет счастье. Все равно, если появится у вас ребенок, я его задушу.
Наконец разразился скандал.
Как-то, провожая Таню из театра домой, Илья обнаружил, что входная дверь ее квартиры заперта изнутри на засов. Им пришлось долго стучать, пока наконец дверь не открыла мать Тани.
Зачем же заперли дверь? Вы же знали, что Таня в театре? – заметил Илья.
– Это, наверное, братья нечаянно, – сказала Таня. – Мама, что же ты не проверила?
Нет, это не братья, а я! И нарочно. А в следующий раз вообще домой не пущу!
Мама, что ты говоришь?
– Я знаю, что и говорю. Ходишь до ночи, черт знает с кем!
Как ты можешь так говорить?
– Вы не смеете так разговаривать со своей дочерью! Я вам запрещаю это! – вмешался Илья.
– Да вы-то кто такой?
А вы будто меня не знаете. Это плохо, что вы не знаете мужа своей дочери.
М-у-уж! – злобно протянула старуха. – Это вы-то муж? Муж объелся груш.
– Таня тут живет, и вы не имеете права ее не пускать. Если еще раз это повторится, я обращусь в суд.
Но и рождение ребенка не изменило отношение старухи к Илье. Внука она, конечно, не задушила, но брак этот вскоре распался.
...Служба отнимала у Ильи первую половину дня. Инженерные дела начинались и кончались у ворот научного института. И хотя через некоторое время Илья стал руководителем лаборатории и защитил диссертацию, весь свой досуг он посвящал литературной работе. Уже садясь в автобус по дороге домой, Илья думал о ней.
Он писал давно и упорно. Сначала его рассказы были длинными, потом он научился писать короче. В течение пяти лет обивал пороги редакции, пока, наконец, рас-
сказы не стали печатать. Под псевдонимом, разумеется, чтобы никто на работе не знал, иначе это неминуемо вызвало бы осложнения. (Как же так – мы рассказы не пишем, а он пишет. Значит, – плохой инженер.)
Поэтому Илье каждый свободный час был важен. Не только по дороге домой, но и стоя в очередях за покупками (а очереди были всегда), он обдумывал свои сюжеты. И после ужина, примерно в девять вечера садился за письменный стол. Писал регулярно до двух часов ночи. В два ложился, в семь вставал. Завтракал, ехал на работу, – и так каждый день в течение 17-ти лет, пока совмещал технику с литературой.
Одно время он попытался изменить распорядок дня. Придя домой со службы и пообедав, Илья ложился и спал до двенадцати ночи. Затем вставал и писал до пяти утра. А с пяти до семи спал. Но такой вариант провалился. На службе сильно клонило ко сну. Не было сил держать глаза открытыми, а голову прямо бросало вниз. Стал пропадать аппетит, чего раньше никогда не было, и ухудшилась память. Бывали случаи, когда он мучительно старался вспомнить содержание разговора, который происходил лишь день назад, и не мог.
Илья сделал перерыв в две недели, отдохнул и затем снова принялся работать по старому режиму: до двух часов ночи.
...Итак, вот уже кончился московский вечер и наступила ночь.
Давно спят дети Шитиковых и Лобзиковых. Рано легли, часов в одиннадцать, и Сергей с Клавой.
Кончила штопать носки Софья Самойловна и готовится ко сну.
Пришла с работы Пенкина, а еще через полчаса, в начале первого – ее дочь Валя. Произошла между ними очередная ссора, которая началась свистящим шепотом у входной двери, прошелестела по коридору и захлопнулась дверью их комнаты. А через несколько минут свет у них погас.
Зашел в ванную комнату Николай Иванович Лобзиков и через минуту, обтирая лицо мохнатым полотенцем, прошел к себе.
В час ночи вернулась из клуба с работы Шитикова, а спустя несколько минут Борис.
В половине второго появился из ночной смены Митя. Он громко захлопнул входную дверь и, как всегда стуча ботинками, прошел в комнату. Слышно было, как ботинки упали на пол и как Митя, сопя и подвывая, раздевался. Затем и он утих.
Еще прошло минут пять, и в квартире стало совсем тихо.
В два часа Илья встал, собрал исписанные листики, тихо закрыл чернильницу и пошел умываться.
Еще не так давно, когда был жив Александр Иванович Лобзиков, в это время на кухне обычно слышался легкий плеск. Это Мария Филипповна стирала белье мужа. Но теперь и она уже спала.
Тихо, на цыпочках, Илья вернулся в комнату и лег спать. Он вытянулся на прохладной разложенной кресле-кровати и уткнулся лицом в подушку. Он слушал, как часы отсчитывают время, словно топча его тоненькими ножками, а потом постепенно эти шажки перестают быть слышными.
Илья думает о том, что прочел недавно: чтобы писать о людях, надо их любить. Любит ли он людей? Ну, скажем своих соседей? Вороватую Евдокию, крикливую Пенкину, Валю, Митю, Бориса, Лобзиковых?..
И сначала он суетливо подумал, что как будто действительно любит их. А потом вдруг решил, что это фальшь, и что он нарочно поторопился так подумать, чтобы оправдать свою литературную деятельность. И что на самом деле он их ненавидит.
А затем вдруг, вселяя ясное спокойствие, пришла мысль, что он их потому и ненавидит, что, наверное, все-таки любит.
То был июнь 1941 года. А через месяц Илья ушел на фронт. Началась война.
Капитан Лопаткин.
Эх, капитан Лопаткин, капитан Лопаткин! Едва ли не одно из самых светлых военных воспоминаний.
Война, Сталинград. 1942 год. 21-й отдельный танковый батальон, размешенный близ тракторного завода. Там ремонтировались танки, а мы на них обкатывали молодых солдатиков, и капитан Лопаткин командовал этим делом.
Жив ли он? Впрочем, раз я жив, почему бы и ему не топтать ногами землю?
Помнишь ли ты меня, своего помощника по техчасти, тоже капитана, этакого интеллигентика, при котором ты своих солдат учил уму-разуму?
А я помню и никогда не забуду твоих правил, достойных того, чтобы их счесть афоризмами. Вот, например:
Главное, слышь ты, в военном деле – подход и отход к начальству!
И показывал, как надо это совершать.
Рршитте войти?! – каркал он и затем шел, что называется, печатая шаг. Потом, щелкнув каблуками, столбенел. Вскидывал откуда-то из-под носа руку к козырьку и рапортовал: – Капитан Лопаткин явился по вашему приказанию!
Затем, сбросив руку плетью вниз, опять каменел. И далее, изобразив начальство, через губу бросил:
– Что же ты, капитан, мать твою так-то, своих... распустил? Чтобы к завтрему они у тебя были как штык, тудыт твою и обратно. – И добавлял: – Это я к примеру.
Затем продолжал: – Рршитте идти? – И, после небрежного кивка, – молниеносный поворот. И, чеканя шаг, отходил.
Совершив это, он делал паузу, во время которой победительно оглядывал нас: оценили ли мы происшедшее?
Или, вот другое его правило:
Если начальство тебя ругает, ешь его глазами. И чтобы с любовью. И молчи, как вкопанный. Когда отматерит, спроси: «Рршитте идти?» Чтобы никаких оправданий, понял? Тогда все.
И еще правило:
Возле начальства не мелькай. Обязательно куда не надо пошлет. Но без спросу – никуда. На военной службе – что? Есть дело, нет – болтайся, как поплавок.
Ну и так далее. Были среди его назиданий и неприличные. (Дам прошу зажмуриться.) Впрочем, где надо, я опять поставлю три точки. Например:
– Что ты все в город просишься, мне мозги крутишь: «зубы пилять»? Вчера «зубы пилять», сегодня «зубы пилять». Скажи прямо: «Рршитте... поточить?» Отпущу. Но – зная меру!
А командир он был умелый. Когда немецкая разведка неожиданно вплотную подошла к Тракторному, то батальон Лопаткина так дал по немцам, что они откатились, решив, что напоролись на серьезное танковое соединение. И долго потом с этой стороны не подходили к Сталинграду.
Вскоре меня перебросили в самый Сталинград, и наши с Лопаткиным пути разошлись. На войне все скоротечно.
Что было дальше с ним, не знаю. А хотелось бы знать. Вот бы выступить по телевидению и обратиться:
Капитан Лопаткин (а может, он теперь уже и генерал?), отзовитесь!
И, если б подал голос, отрапортовал бы ему, как положено:
Рршитте обратиться? Так что, рршитте доложить, хотел бы поприветствовать вас лично.
...Посидели бы, вспомнили б и ту историю с немцами. Кстати, солдатиков своих, после того боевого крещения, он стал отпускать в город щедрее.
Пусть ездят. Дело молодое, нужное. Боевой подготовке не мешает. Даже, полагаю, годится.
...И даже коровы
В начале 60-х годов мои друзья снимали на лето дом в деревне Трусово у Истринского водохранилища. Вот как описывает эти места бывшая дачница:
«Это в районе Солнечногорска. Впервые, когда мы очутились там – не верилось, что относительно недалеко от Москвы существует такая благодать. В деревне, вдоль единственной улицы, сбегавшей вниз к Истринскому водохранилищу, стояло не более полутора десятков домов. Вокруг деревни с двух сторон тянулись леса, грибные и бесконечные. Тишина и полный покой в первое время даже удивляли. Деревенских жителей не было видно и слышно... Если из Москвы случайно забредал кто-либо, ищущий на лето дачу, то он любым путем старался здесь закрепиться. Не нравиться Трусово не могло. Поэтому скоро в деревне появились интеллигентные дачники: художники, писатели, ученые».
Вот тут мы и подошли к сути происшествия.
А суть была в том, что каждое утро старик пастух гнал через деревню стадо коров. Он собирал их сначала в соседней деревне Соколово, а потом хозяйки Трусова выгоняли ему своих подопечных. Вечером же стадо с пастухом возвращалось и каждая корова послушно забредала в свой двор.
И все бы ничего, да старик пастух всегда сопровождал эти шествия и утром и вечером громогласным матом, который особенно был слышен и гремел в благословенной тишине деревни.
Что до коров, то они отлично понимали виртуозную матерщину деда и беспрекословно соответствовали всем ее оборотам, загибам и вариантам. Да, собственно, чему тут удивляться? Ведь они с младенчества, вернее с телячества, это слышали. А потому рулады старика были для них родной музыкой. Да и деревенских жителей, само
собой, эта лексика тоже никак не задевала, ибо и они всю жизнь изъяснялись не только с коровами, но и между собой в том же духе, хоть и без пастушеских изысков.
Итак, повторяю, все бы хорошо, если бы не дачники. И – беда.
В стране в те дни подняли очередную кампанию – на этот раз против сквернословия. И поскольку люди творческих профессий очень отзывчивы на всяческие призывы и движения, то они сразу пожаловались на деда-пастуха в милицию.
Само собой, если б не кампания, милиция положила бы писулю интеллигентов под сукно или еще куда-нибудь. Но тут – сигнал! А на сигнал в духе кампании полагается реагировать, чтобы потом было что доложить. Дескать, не без дела сидим, а чутко прислушиваемся к веяниям времени.
Так что упекли они нашего деда на пятнадцать суток якобы за нарушение общественного порядка. Хотя в душе, наверное, ему сочувствовали. Потому понимали: а как иначе не только с коровами, а и с людьми говорить, чтобы действительно соображали, что к чему? Но – кампания...
А на место деда, к коровам поставили мальца, который хоть и знал многих из них по кличкам, но стариковской лексикой пока еще не владел.
И вот тут началась беда настоящая.
Бабы выгоняют коров на улицу, а те не идут. Не слышат призывного матерка. Да и молодой пастух никак не найдет с коровами взаимного понимания. Так сказать, общего языка. И тех коров, которых все же удалось вытолкнуть со двора, никак не может собрать в стадо. Толкутся они, вроде людей на митингах, воют, мычат, бестолково бодают друг друга, и в результате на дороге стоит такой рев, что по сравнению с ним дедовы загибы – переливы флейты.
Некоторые же наиболее активные коровы даже начали прорываться к окнам дачников и вести себя так, что уже ни о каком творческом процессе не могло быть и речи. А, как известно, интеллигентные люди выше всегда ценят возможность именно творческого процесса. Я уж не говорю об отдыхе.
Короче, не прошло и двух дней, как дачники двинулись опять в милицию, просить за деда, чтобы выпустили. Но уж тут органы порядка были неумолимы, и пришлось старому человеку отсидеть все 15 суток.
После чего все вошло в привычную колею.
Дед, вернувшись к коровам, опять стал гонять их стадом на луга и к водопою. При этом, то ли после отдыха в милиции, то ли по ехидству, начал запускать на улицах такие залпы, что, как говорят, даже окна в избах каждый раз дребезжали.
Коровы – так те просто вздохнули свободно и шествовали за ним на диво послушно.
А дачники смирились. Тем более, что скоро и кампанию в стране свернули. Подошла очередь какой-то другой.
...Ныне же, спустя десятилетия, дедовская лексика, некогда причисляемая к ненормативной, стала настолько привычной, что ее теперь употребляет не только молодое поколение, но и женщины в возрасте, причем весьма образованные, чтобы не сказать интеллигентные. Более того, даже не следы, а, так сказать, открытую поступь упоминаемого ныне частенько можно видеть на страницах художественных произведений. Творческие люди и тут оказались не в хвосте.
Но все же до деда им пока далеко.








