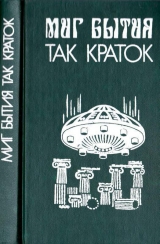
Текст книги "Миг бытия так краток"
Автор книги: Роджер Джозеф Желязны
Соавторы: Кейт Лаумер,Алан Нурс
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Миг бытия так краток

Сборник американской фантастики
Роджер Желязны
Этот бессмертный[1]1
Пер. изд.: Roger Zelazny. This immortal. 1966
[Закрыть]

–  Ты – Калликанзар, – внезапно заявила она.
Ты – Калликанзар, – внезапно заявила она.
Я повернулся на левый бок и улыбнулся в темноте.
– Свои рога и копыта я оставил в Управлении.
– Ты слышал эту историю!
– И все-таки, моя фамилия Номикос, – я протянул к ней руку.
– Ты собираешься уничтожить мир на этот раз?
Я рассмеялся и привлек ее к себе.
– Подумаю об этом. Если Земля так и дальше будет разваливаться потихоньку…
– Ты же знаешь, что в жилах детей, родившихся здесь на Рождество, течет кровь калликанзаров, – сказала она. – А ты однажды сказал мне, что твой день рождения…
– Ладно!
Меня поразило, что она шутила лишь наполовину. Зная о некоторых вещах, которые иной раз встречаются в Древних Местах – Горячих Местах, можно без особых на то усилий поверить в мифы. К примеру, вроде рассказа об этих похожих на Пана созданиях, собирающихся каждую весну, чтобы провести десять дней вместе, подпиливая Древо Мира и лишь в последний миг разбегаясь от перезвона пасхальных колоколов (динь-дон колокола́, хруп-хруп зубы, цок-цок копыта и т. п.)
Вообще-то мы с Кассандрой не имели привычки обсуждать в постели вопросы религии, политики или эгейского фольклора, но во мне, родившемся в этих местах, воспоминания все еще живы.
– Мне больно слышать об этом, – сказал я, тоже лишь наполовину шутливо.
– Ты причиняешь боль и мне тоже…
– Извини, – я вновь расслабился. Спустя немного времени я объяснил: – Когда я был еще мальчишкой, меня шпыняли, обзывая «Константин Калликанзарос». Когда я стал крупнее и безобразнее, они перестали это говорить. По крайней мере мне в лицо.
– Константин? У тебя было такое имя? Интересно…
– Теперь мое имя Конрад, так что забудь об этом.
– А мне оно нравится. Я предпочла бы называть тебя скорей Константином, чем Конрадом.
– Если это сделает тебя счастливой…
Луна явила свой щербатый лик над подоконником, насмехаясь надо мной. Я не мог дотянуться до луны или хотя бы до окна и поэтому отвел взгляд. Ночь была холодной, влажной, туманной, как обычно здесь и бывает.
– Специальный уполномоченный по вопросам художественных произведений, памятников и архивов планеты Земля вряд ли захочет рубить Древо Мира, – проворчал я.
– Мой калликанзар, – слишком быстро отозвалась она. – Я этого и не говорила. Но колоколов с каждым годом все меньше и меньше, и желание – не всегда самое главное. У меня такое ощущение, что ты каким-то образом изменишь-таки положение вещей. Наверно…
– Ты неправа, Кассандра.
– А также напугана и замерзла…
А также и прекрасна в темноте, и поэтому я сжал ее в объятиях, чтобы хоть как-то оградить от тумана и утренней росы.
* * *
Пытаясь восстановить события тех последних шести месяцев, я теперь понимаю, что когда мы возводили стены страсти вокруг нашего октября и острова Кос, Земля уже попала в руки тех сил, которые разносят вдребезги все октябри. Внутренние и внешние силы окончательного распада уже тогда победоносно маршировали гусиным шагом среди развалин – безликие, неотвратимые, с воздетыми руками.
* * *
Корт Миштиго приземлился в Порт-о-Пренсе на древнем «Сол-Бус-9», привезшем его с Титана наряду с грузом рубашек, ботинок, нижнего белья, носков, разных вин, медикаментом и самых последних пленок с записями, присланных цивилизацией. А он был галактожурналист – богатый и влиятельный. Насколько именно богатый, мы не знали еще много недель; насколько именно влиятельный, я выяснил всего лишь пять дней тому назад.
Бродя среди одичавших оливковых рощ, пробираясь через развалины франкского замка или мешая свои следы с похожими на иероглифы отпечатками лап сельдечаек на мокром песке пляжей Коса, мы сжигали время в ожидании выкупа, который не мог прибыть, который никогда не прибудет, да на самом-то деле и не ожидался.
Волосы у Кассандры цвета оливок Катамары и такие же блестящие. Руки у нее мягкие, а пальцы – крохотные, с изящными ноготками. Глаза – очень темные. Она всего на четыре дюйма ниже меня, что делает ее грациозность немалым достоинством, так как я ростом намного выше шести футов. Впрочем, находясь рядом со мной, любая женщина выглядит грациозной, изящной и красивой, потому что во мне ничего этого нет и в помине.
На моей левой щеке тогда было нечто вроде карты Африки разных оттенков пурпурного цвета – из-за мутировавшего грибка, что я подцепил с покрытого древней плесенью полотна, когда вел раскопки Гуггенхеймского музея для туристической компании «Нью-Йорк Тур». Волосы у меня отстоят от бровей на палец, а глаза – разного цвета (я гляжу на людей холодным голубым, с правой стороны, когда хочу припугнуть их, а карий – для Взглядов Искренних и Честных). А из-за того, что правая нога у меня короче, чем левая, я ношу ортопедический сапог.
Однако Кассандре не требуется такого контраста: она прекрасна сама по себе.
Я встретил ее совершенно случайно; отчаянно преследовал и женился на ней вопреки своей воле (последнее – исключительно ее личное мнение). Сам я по-настоящему не думал об этом – даже в тот день, когда привел в порт свою яхту и увидел там на берегу Ее, загорающую, словно наяда, около платана Гиппократа, и решил, что она нужна мне. Вообще-то калликанзары никогда не отличались склонностью к семейной жизни, просто я опять совершил ошибку.
Утро было ясное. Оно начинало третий месяц нашей совместной жизни. Это же был последний день моего пребывания на Косе, а причиной тому послужил раздавшийся предыдущим вечером звонок.
Все по-прежнему оставалось мокрым после ночного дождика, и мы сидели в патио, попивая кофе по-турецки, заедая его апельсинами. День начинал заявлять свои права. Дул порывистый влажный ветер, заставляя нас покрываться мурашками даже под толстыми черными свитерами и унося парок с нашего кофе.
– Вышла из мрака младая с перстами пурпурными Эос, – сказала она.
– Да, – согласился я. – Действительно, именно младая и именно с перстами пурпурными.
– Давай наслаждаться наблюдая.
– Да, конечно.
Мы допили кофе и сидели, покуривая.
– Я чувствую себя мерзавцем, – наконец сказал я.
– Понимаю, – сказала она. – Напрасно.
– Ничего не могу с этим поделать. Мне приходится уезжать и покидать тебя, и это ужасно.
– На это может уйти всего несколько недель. Ты сам так сказал. А потом ты вернешься.
– Надеюсь, – проговорил я. – Однако если это дело займет больше времени, то я пошлю за тобой. Не знаю пока, где я вообще буду.
– А кто такой Корт Миштиго?
– Актер и журналист с Веги. Важная персона. Хочет написать о том, что осталось от Земли. И поэтому должен показать ему все это я. Я! Лично! Проклятье!
– Всякий, кто берет десятимесячные отпуска на морские круизы, не может жаловаться на чрезмерную загруженность работой.
– Я могу жаловаться, и пожалуюсь. Моей работе полагается быть синекурой.
– Почему?
– Главным образом потому, что я устроил ее именно такой. Двадцать лет упорного труда, чтобы Управление по делам Художественных произведений, памятников и архивов стало тем, чем оно является теперь. И десять лет назад я довел его до такого состояния, когда мои сотрудники стали способны разобраться почти со всем. Поэтому я отпустил себя на вольные хлеба, велев себе возвращаться иногда подписать бумаги, а в остальное время делать все, что мне заблагорассудится. И теперь вот этот подхалимский жест! – поручить Уполномоченному свозить веганского щелкопера на экскурсию, с которой мог бы справиться любой штатный гид! Веганцы вовсе не боги!
– Минуточку, пожалуйста, – остановила она меня. – Двадцать лет? Десять лет?
Ощущение погружения в трясину.
– Тебе же нет и тридцати.
Я погрузился еще глубже. Подождал. И снова всплыл.
– Э… я, ну, в силу присущей мне скромности как-то никак не собрался упомянуть тебе о разных мелочах… Сколько тебе, собственно, лет, Кассандра?
– Двадцать.
– Угу. Ну… Мне примерно в четыре раза больше.
– Не понимаю.
– Я тоже… Так же как и врачи. Просто, видишь ли, я остановился в развитии где-то между двадцатью и тридцатью годами и остался таким. Полагаю, это своего рода, ну… часть моей особенной мутации, что ли. Это что-нибудь меняет?
– Не знаю… Да.
– Тебя не смущает ни моя хромота, ни повышенная лохматость, ни даже мое лицо. С чего бы тебе беспокоиться из-за моего возраста? Я-таки молод, во всех отношениях.
– Это далеко не одно и то же, – вынесла она приговор. – Что если ты никогда не состаришься?
Я закусил губу.
– Просто обязан состариться, раньше или позже.
– А если позже? Я люблю тебя. Мне не хотелось бы состариться раньше, чем ты.
– Ты доживешь до ста пятидесяти. Есть ведь курс Спрайта – Сэмсера. Ты его пройдешь.
– Но он не сохранит меня молодой – как тебя.
– На самом-то деле я не молод. Я родился стариком.
Не сработало и это. Она начала плакать.
– До этого еще годы и годы, – попытался утешить я ее. – Кто знает, что может случиться за это время?
Это заставило ее заплакать еще горше.
Я всегда был импульсивным. Соображаю я обычно весьма неплохо, но, кажется, всегда занимаюсь этим после того, как скажу свое, а к этому времени мною обычно бывает уничтожена всякая возможность дальнейшего продолжения разговора.
Это как раз одна из причин того, что я держу штат компетентных сотрудников, хорошую рацию и провожу большую часть времени вдали от дел. Однако некоторые вещи попросту никак нельзя передоверить кому бы то ни было. Поэтому я сказал:
– Слушай, в тебе тоже есть налет Горячего Материала. Мне потребовалось сорок лет, чтобы понять, что я не сорокалетний. Возможно, ты такая же. А я просто соседский парнишка.
– Ты знаешь о каких-нибудь случаях наподобие твоего?
– Ну…
– Нет, не знаешь.
– Да, не знаю.
Помнится, мне тогда больше всего хотелось снова оказаться на борту своего корабля – не большого огнехода, а всего лишь на борту старой калоши «Золотая канитель». Мне хотелось снова войти в порт и увидеть там Кассандру, в тот первый сияющий раз, и иметь возможность начать все заново. И или сразу же рассказать ей обо всем, или опять подойти к моменту расставания, помалкивая о своем возрасте. Это была приятная мечта, но, черт побери, медовый месяц давно уже закончился.
Я ждал, пока она перестанет плакать, и снова почувствовал на себе ее взгляд.
– Ну? – спросил я наконец, выждав еще немного.
– Спасибо, все в порядке.
Я взял ее безвольную ладонь в свою руку и поднес к губам.
– С перстами пурпурными… – выдохнул я, а она сказала:
– Возможно, это и не плохая мысль – твой отъезд. Во всяком случае на время…
Снова налетел несущий влагу холодный бриз, обдавая нас мурашками и заставляя дрожать наши руки – то ли ее, то ли мои – не уверен, чьи именно. Листья он тоже заставил задрожать, и они посыпались нам на головы.
– Не приврал ли ты насчет своего возраста? – спросила она. – Хоть самую капельку?
Судя по ее тону, с моей стороны самым мудрым было согласиться, что я и сделал, совершенно правдиво ответив:
– Да.
Она улыбнулась в ответ, несколько успокоенная насчет моей человеческой природы.
Ха!
Так мы и сидели, держась за руки и наблюдая, как прорастает утро. Через некоторое время она принялась что-то негромко напевать. Пела она печальную песню многовековой давности – балладу, рассказывающую историю молодого борца по имени Фемокл, борца, не побежденного никем и никогда. Однажды он возомнил себя величайшим борцом в мире. И, наконец, принялся вызывать на единоборство соперников, забравшись на вершину горы. А так как вершина находилась в непосредственной близости от обители богов, те среагировали быстро: на следующий же день в город приехал хромоногий мальчик-калека верхом на бронированном огромном диком псе.
Они боролись три дня и три ночи, Фемокл и мальчик, и на четвертый день мальчик переломил ему хребет. И там, где пролилась кровь гордеца, осмелившегося бросить вызов богам, вырос, как называет его Эммет, стрижфлер? – цветок-кровопийца без корней, ползающий по ночам в поисках пропавшей души павшего чемпиона в крови своих жертв. Но душа Фемокла давно оставила Землю, и поэтому цветок обречен вечно ползать и искать ее.
Попроще, чем у Эсхила, но, впрочем, и мы, люди, попроще, чем были когда-то, особенно жители Материка. Ну, а кроме того, на самом деле все произошло не совсем так, вернее – совсем не так.
– Почему ты плачешь? – неожиданно спросила она.
– Я думаю об изображении на щите Ахилла, – ответил я. – И о том, как это ужасно – быть образованным зверем… И я вовсе не плачу. На меня капает с листьев.
– Я сварю еще кофе.
Пока Кассандра этим занималась, я сполоснул чашки и попросил ее позаботиться о «Канители», пока я в отъезде, и отремонтировать судно в сухом доке – на случай, если оно мне вдруг срочно понадобится. Что она и обещала в точности исполнить.
Солнце упрямо карабкалось по небу все выше и выше, и через некоторое время до нас донеслись удары молотка со двора старого Альдониса, гробовщика. Ожили цикламены, и ветер донес их дивный аромат. Высоко в небе, словно мрачное знамение, спланировал в сторону материка пауконетопырь. У меня руки чесались сжать рукоять пистолета 36-го калибра, наделать шума и посмотреть, как тот шмякнется. Однако единственное известное мне поблизости огнестрельное оружие находилось на борту «Канители», и поэтому мне оставалось всего лишь смотреть, как тварь исчезает вдали.
– Говорят, они даже не с Земли, – сказала она, тоже наблюдая за его полетом, – и что их завезли сюда с Титана, для зоопарков и тому подобного…
– Истинно так.
– …И что они вырвались на свободу во время Трех Дней и одичали, и что здесь они прижились и вырастают крупнее, чем даже на своей родной планете.
– Как-то раз мне довелось видеть экземпляр с размахом крыльев тридцать два фута.
– Мой внучатый дядя однажды рассказывал мне историю, слышанную им в Афинах, – вспомнила она, – о человеке, убившем пауконетопыря без всякого оружия. Тот унес его с причала в Пирее, и человек сломал ему шею голыми руками.
Они рухнули в залив с высоты в пятьдесят футов. И этот человек остался жив.
– Это было давным-давно, – припомнил я. – Еще до того, как Управление начало компанию по истреблению этих тварей. В те дни их водилось намного больше, да и вели они себя посмелее. Теперь-то они держатся от городов подальше.
– Насколько я помню ту историю, того человека звали Константином. Уж не ты ли это был?
– Его фамилия была Карагиозис.
– Ты тоже Карагиозис?
– Если тебе так нравится. А что?
– А то, что позже он помог основать в Афинах Возвращенческий Радпол, а у тебя очень сильные руки.
– Ты возвращенка?
– Да. А ты?
– Я работаю на Управление. У меня нет никаких политических пристрастий.
– А вот Карагиозис взрывал веганские курорты.
– Это точно.
– Ты сожалеешь, что он делал это?
– Нет.
– Я действительно знаю о тебе очень немногое, не так ли?
– Ты узнаешь обо мне что угодно. Только спроси. На самом деле я крайне прост… А вот и мое аэротакси.
– Я ничего не слышу.
– Сейчас услышишь.
Миг спустя оно скользнуло с небес к Косу, наводясь на маяк, установленный мной в конце патио. Я встал и помог ей подняться на ноги, когда оно прожужжало, снижаясь, – «Рэдсон Скиммер», прозрачная двадцатифутовая скорлупка, отражающая свет, с плоским брюхом и обтекаемая.
– Ты не хочешь что-нибудь взять с собой? – спросила она.
– Ты же знаешь что, но не могу.
Скиммер приземлился, и его стенка распахнулась. Пилот в очках-поляроидах повернул голову.
– У меня такое ощущение, – сказала она, – что ты летишь навстречу какой-то опасности.
– Сомневаюсь, Кассандра. До свидания.
– До свидания, мой калликанзар.
Я забрался в скиммер и прышул в небо, вознеся молитву Афродите. Внизу махала рукой Кассандра. Позади солнце стягивало свою сеть света. Мы мчались на запад.
В этом месте моего повествования следовало бы сделать плавный переход к другим событиям, но – увы…
От Коса до Порт-о-Пренса было четыре часа лета – четыре часа серой воды, бледных звезд и моей злости. Глядя на разноцветные огоньки…
* * *
Народу в зале было как грязи, большая тропическая луна сияла, готовая лопнуть, а видел я и то и другое, потому что сумел, наконец, выманить Эллен Эммет на балкон, двери которого не закрывались, заклиненные магнитами.
– Снова вернулся из царства мертвых, – приветствовала она меня, слегка улыбаясь. – Исчез почти на год и не прислал даже открытку с Цейлона, типа «добрался хорошо».
– Ты скучала?
– Могла бы и заскучать.
Она была маленькой и, подобно всем, кто ненавидел день, молочно-белой. Мне она напоминала сложную заводную куклу с неисправным механизмом – холодная грация и склонность пинать людей под коленки, когда те меньше всего этого ожидают.
Эллен обладала копной оранжево-шатеновых волос, свитых в гордиев узел прически, который, на вид, невозможно было развязать. Цвет ее глаз, какой бы она ни выбрала, чтобы сделать приятное избранному ею в тот день божеству, я теперь забыл, но где-то глубоко-преглубоко внутри они отливали голубым. Что там она ни носила, оно выглядело коричнево-зеленым, и материи с лихвой хватило, чтобы обернуть ее пару раз, уподобив бесформенной сигаре. Это было либо прихотью костюмера (если у нее когда-либо таковой имелся), либо попыткой скрыть очередную беременность, в чем я весьма сомневался.
– Ну, добрался хорошо, – сказал я, – если тебя это интересует. Правда, не попал на Цейлон. Большую часть времени я провел на Средиземном море.
Из зала донеслись аплодисменты, и я порадовался, что нахожусь снаружи. Исполнители только что закончили «Маску Деметры» Гравера, написанную им пентаметром в честь нашего высокого гостя с Веги, а пьеса, кстати, неудачная, нудно тянулась два часа. Фил – человек образованный и, хотя и плешивый, с виду как нельзя лучше подходил к своей роли – в тот день, когда мы его подцепили, нам позарез требовался лауреат. Он страшно любил Рабиндраната Тагора и Криса Ишервуда, а также писал жутко длинные метафорические эпические поэмы, без конца болтал о Просветлении и совершал ежедневные дыхательные упражнения на пляже. В остальном он был вполне приличным человеком.
Аплодисменты стихли, и до меня вновь донесся стеклянный перезвон фелинстры и накатился гул возобновившихся разговоров.
Эллен облокотилась на перила:
– Я слышала, ты нынче несколько женат?
– Верно, – согласился я. – А также несколько обеспокоен. Зачем меня вообще вызвали?
– Спроси своего босса.
– Спрашивал. Он сказал, что я буду гидом. Но мне хочется знать другое – почему? Истинную причину. Я думал об этом, и чем больше думал, тем менее ясным все становилось.
– Откуда же знать мне?
– Ты все знаешь.
– Ты меня переоцениваешь, дорогой. Какая она?
Я пожал плечами:
– Возможно, русалка. А что?
– Просто любопытно. А что ты говоришь людям обо мне?
– О тебе я сказать ничего не могу.
– Я удивлена, ведь должна же я быть какой-то, если, конечно, я не единственная в своем роде.
– Именно так. Ты единственная в своем роде.
– Тогда почему же ты не взял меня в прошлом году с собой?
– Потому, что тебе требуется постоянное внимание и городское окружение. Ты можешь быть счастлива только здесь, в Порте.
– Но я не счастлива здесь, в Порте.
– Ты менее несчастна здесь, в Порте, чем была бы в любом другом месте на этой планете.
– Мы могли бы попробовать, – она повернулась ко мне спиной и посмотрела вниз, на огни в районе гавани.
– Знаешь, – сказала она через некоторое время, – ты настолько безобразен, что даже привлекателен своим уродством. Должно быть, в этом-то все и дело.
Я замер, не дотянув руки до ее плеча на пару дюймов.
– Знаешь, – продолжала она ровным голосом, лишенным эмоций, – ты просто материализованный кошмар.
Я уронил руку, глухо рассмеявшись, хотя невидимый обруч стянул мне грудь.
– Знаю, – отозвался я. – Приятных сновидений.
Я начал было поворачиваться к двери, но она схватила меня за рукав.
– Подожди!
Я посмотрел на ее руку, пристально глянул в глаза, а затем снова опустил взгляд на руку. Она выпустила рукав.
– Ты же знаешь, что я никогда не говорю правду, – отозвалась она и рассмеялась тихим дробным смехом. – …Я подумала-таки кое о чем, что тебе следует знать об этом путешествии. Здесь находятся Дональд Дос Сантос, и, по-моему, он отправится с вами.
– Дос Сантос? Это просто смешно.
– Он сейчас в библиотеке, с Джорджем и каким-то здоровым арабом.
Я взглянул мимо нее, глядя, как тени, подобно моим мыслям, двигаются по тускло освещенным улицам, темные и неторопливые.
– Здоровым арабом? – переспросил я через некоторое время. – Руки в шрамах? Желтые глаза? И зовут – Хасан?
– Да, совершенно верно. Ты что, его знаешь?
– В прошлом он выполнял для меня кое-какую работу, – признался я, улыбнувшись, хотя у меня и стыла кровь в жилах, потому что я не люблю, когда люди догадываются, о чем я думаю.
– Ты улыбаешься, – заметила она. – О чем ты думаешь?
Она такая.
– О том, что ты воспринимаешь некоторые вещи куда серьезней, чем мне думалось.
– Ерунда. Я часто говорила тебе, что я трусливая лгунья. Фактически соврала всего секунду назад, а говорила только о мелкой стычке в великой войне. И ты прав в том, что я менее несчастлива здесь, чем в любом другом месте на Земле. Поэтому, возможно, тебе удастся поговорить с Джорджем и уломать его согласиться поработать на Тейлере или Бакабе. Сможешь? А?
– Да, – подтвердил я. – Разумеется. Это точно. Только так. После того как ты десять лет пробовала этого добиться. Как поживает нынче его коллекция жуков?
Она в некотором роде улыбнулась.
– Растет, – ответила она. – Прыгает и скачет. Да к тому же жужжит и ползает, и некоторые из этих ползунов радиоактивные. Я ему говорю; «Джордж, почему бы тебе не поразвлечься с другой женщиной, вместо того чтобы проводить все время с этими жуками?». Но он лишь мотает головой, и все его помыслы там – с жуками и работой. Тогда я говорю: «Джордж, в один прекрасный день один из этих уродов укусит тебя и сделает импотентом. Что ты будешь делать тогда?». И тогда он объясняет, что этого никак не может случиться и читает мне лекцию о токсинах насекомых. Возможно, он сам – лишь большой жук, замаскированный под человека. По-моему, он получает определенное сексуальное удовольствие, глядя, как они копошатся в этих банках. Не знаю, что еще…
Тут я отвернулся и посмотрел в зал, потому что ее лицо не было больше ее лицом. Услышав миг спустя ее смех, я повернулся обратно и сжал ей плечо.
– Ладно, теперь я знаю больше, чем знал раньше. Спасибо. Как-нибудь вскоре увидимся.
– Мне ждать?
– Нет. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, Конрад.
И я удалился.
* * *
Пересечь комнату – это может быть занятием трудоемким и занимающим немало времени, особенно, если в ней полно людей; если все эти люди вас знают; если все эти люди, которые вас знают, держат бокалы, и если у вас есть хотя бы легкий намек на хромоту.
Так вот: в ней было, они знали, держали и у меня есть. Поэтому…
Обуреваемый не самыми пристойными мыслями, я прокладывал себе дорогу вдоль стены как раз по периферии людского моря, пока не добрался (преодолев к этому времени уже двадцать футов!) до стайки юных дам, которые всегда вьются вокруг одного моего знакомого старого холостяка.
Сейчас холостяк был почти лишен подбородка, имел нитеобразные бескровные губы и находился на полпути к полной плешивости; ехидное же выражение, которое некогда имела плоть, ныне туго обтягивающая череп, давным-давно отступило во тьму его глаз, и в этих глазах светилось, когда они встретились с моими, – улыбка иронического возмущения.
– Фил, – кивнул я, здороваясь. – Не каждый может написать подобную «Маску», особенно пентаметром. Я слышал, будто это искусство вымерло, но теперь я знаю правду.
– Ты все еще жив, – сказал он голосом лет на семьдесят моложе всего остального в нем. – И снова, как обычно, опоздал.
– Униженно раскаиваюсь, – заверил его я. – Но меня задержали на дне рождения одной семилетней дамы, в доме старого друга (что было совершенной правдой, но не имеет никакого отношения к моему рассказу).
– Все твои друзья – старые друзья, не так ли? – спросил он, и это был удар ниже пояса, так как я некогда знал его родителей и во времена, почти забытые ныне, взял их как-то на южную сторону Эрехтейона показать им Портик Дев и продемонстрировать, что лорд Элгин[2]2
Элгин, лорд (1766–1841) – посланник Великобритании в Турции. В 1799–1803 гг., получив от турецких властей разрешение вывезти из Афин несколько незначительных скульптурных фрагментов, похитил большую часть статуй Парфенона, причем во время снятия их со стен и без тбго уже поврежденного здания часть стены обвалилась. Это событие послужило причиной написания Байроном гневного стихотворения «Проклятье Минервы» (1811). Его отражает также латинская эпиграмма «Quod non fecerunt goti, fecerunt scoti», т. e. «Чего не сделали готы, сделали скоты» (читай: шотландцы, а Элгин как раз был шотландцем). – Здесь и далее прим. пер.
[Закрыть] сделал с остальным. Я нес на плечах их ясноглазых детишек, рассказывая им сказки, считавшиеся древними, еще когда строился этот храм.
– …И мне нужна твоя помощь, – добавил я, пропустив мимо ушей его шпильку, осторожно проталкиваясь сквозь мягкое и пикантное женское окружение. – Мне потребуется вся ночь, чтобы пробраться через этот зал туда, где Сэндс устроил с этим веганцем прием при дворе, – простите, мисс! – а у меня времени гораздо меньше – извините, мэм! – Поэтому я хочу, чтобы ты организовал мне «зеленую волну».
– Вы – Номикос! – выдохнула, уставясь на мою щеку, одна красотка. – Я всегда хотела…
Я подхватил ее руку, прижал к губам и, заметив, что щечки у нее засветились розовым, бросил:
– Не судьба, а? – и уронил руку.
– Так как насчет помощи? – напомнил я Граверу. – Переправь меня отсюда туда, в своей наилучшей придворной манере, ведя при этом разговор, который никто не посмеет прервать. Идет? Побежали.
Он резко кивнул.
– Простите меня, леди. Я скоро вернусь.
Мы двинулись через помещение, прокладывая в толпе тропинку. Высоко над нами плавали, вращаясь, люстры, похожие на фасеточные Ледяные спутники. Фелинстра, подобно разумной эоловой арфе, наигрывала, бросая в воздух обрывки мелодий, словно пригоршни разноцветных бусин. Люди гудели и беспорядочно перемещались, будто какие-то диковинные насекомые Джорджа Эммета, и мы, безостановочно шагая, уклонялись от их роев, сами издавая при этом какие-то звуки, должные, по идее, изображать глубокомысленную беседу. Мы, к счастью, ни на кого не наступили.
Ночь стояла теплая. Большинство мужчин носили черные мундиры из легкого, как пух, материала, которые по велению протокола должны были терпеть в подобных случаях сотрудники Управления. Те, кто их не носил, соответственно не принадлежали к числу сотрудников.
Чувствуя себя неуютно, несмотря на легкость, Черные Мундиры держались по стенам, словно притянутые магнитом, составляя гладкий фасад. Первым делом, на них бросался в глаза зелено-серо-голубой знак Земли, дюйма три диаметром, высоко на левой стороне груди, ниже был символ отделения Мундира, а еще ниже – обозначение его звания. На правой же стороне груди крепилась какая-то дурацкая финтифлюшка, которой можно было, при желании, придумать кучу липовых достоинств, – продукт богатого воображения Отдела Символов, Технических Отличий, Личных Образов и Премий (сокращенно – ОСТОЛОП, его первый директор ценил свой пост). После первых десяти минут ношения мундира воротничок имел свойство превращаться в гарроту, по крайней мере мой собственный.
Дамы были одеты, или зачастую раздеты, в наряды самых разнообразных фасонов, обычно что-нибудь яркое или оттеняемое мягкими тонами (если они не относились к сотрудницам – в каковом случае их аккуратно упаковывали в Черные Мундиры с короткими юбками, но все же сносными воротничками).
– Я слышал, Дос Сантос здесь? – небрежно обронил я.
– Так оно и есть.
– Зачем?
– Я действительно не знаю, да и знать не хочу.
– Ай-яй-яй! Что случилось с твоей чудесной политической сознательностью? Отделение Литературной Критики хвалило тебя именно за нее.
– В любом возрасте запах смерти, знаешь ли, расстраивает, все больше и больше с каждым разом, когда встречаешься с ней.
– А Дос Сантос пахнет смертью?
– От него ею так и прет.
– Я слышал, он нанял одного нашего бывшего помощника – времен Мадагаскарского Дела.
Фил чуть склонил голову набок и бросил на меня вопросительный взгляд:
– Сведения доходят до тебя очень быстро. Но, впрочем, ты же друг Эллен. Да, Хасан здесь. Он наверху с Доном.
– Которому он, вероятно, поможет облегчить бремя кармы?
– Как я уже говорил, мне все это действительно неизвестно; да и неинтересно.
– Не хочешь высказать предположение?
– Не особенно.
Мы вступили в часть зала, поросшую тонкими деревцами, и я остановился хватануть рома-с-чем-то со спуск-подноса, что следовал за нами поверху с самого начала нашего путешествия. Не в силах больше вынести его мук, я нажал, наконец, на желудь, висевший на конце его хвоста. Поднос послушно опустился, распахнулся и явил сокровища, сокрытые в его ледяных внутренностях.
– Прекрасно! Тебе поднести рюмочку, Фил?
– Я думал, ты спешишь.
– Спешу, но хочу немного ознакомиться с положением.
– Ну ладно. Мне пополам с кока-колой.
Я, прищурясь, посмотрел на него и передал заказанное, а когда он отвернулся, проследил за направлением его взгляда – в сторону кресел, стоящих в нише, образованной северо-восточным углом зала и массивным корпусом фелинстры. На фелинстре играла старая дама с мечтательными глазами. Управляющий делами Земли, Лорел Сэндс, курил трубку…
Ну, эта трубка – одна из наиболее выдающихся сторон личности Лорела, настоящая трубка фирмы «Меершаум», а в мире их осталось не слишком много. Что же касается всего остального в Лореле, то его природа чем-то сродни этакому антикомпьютеру: ты вводишь в него всякие тщательно собранные факты, цифры и статистические данные, а он переводит их в груду мусора.
Острые темные глаза и неторопливая размеренная манера говорить; цепкий взгляд, нацеленный на собеседника. К жестам прибегает редко, но в этих исключительных случаях они очень обдуманны. Крайне впечатляет, когда он пилит воздух широкой правой ладонью или тычет трубкой в воображаемых дам. Седые виски, и над ними темные волосы. У него широкие скулы, а загар – в тон твидового костюма (он усердно избегает Черных Мундиров), и постоянное стремление выпятить челюсть на дюйм выше и дальше, чем кажется удобным.
Он политический выдвиженец, назначенный Земным правительством на Тейлере, к своей работе относится совершенно серьезно, демонстрируя преданность делу периодическими приступами язвы желудка. Он не самый умный человек на Земле, но он мой босс. А также один из лучших друзей!
Рядом с ним сидел Корт Миштиго. Я почти физически ощущал, как Фил ненавидит его – от голубых пяток шестипалых ног до окрашенной в розовый цвет пряди волос от виска до виска – знака верховной касты. Ненавидит его не столько за то, что он – это он, сколько за то, и в этом я твердо убежден, что в данный момент он оказался единственным доступным родственником – внуком – Татрама Иштиго, который сорок лет назад убедительно продемонстрировал, что величайший из ныне живущих англоязычных писателей – веганец. Старый джентльмен все еще пописывал, и, по-моему, Фил так никогда и не простил его.
Уголком глаза (голубого) я увидел, как Эллен подымается по широкой парадной лестнице на другой стороне зала, а уголком другого глаза (карего) заметил, что Лорел смотрит в мою сторону.








