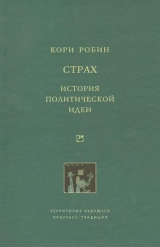
Текст книги "Страх. История политической идеи"
Автор книги: Робин Кори
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
Равенство и секуляризм разорвали эти связи. Уничтожив преемственность иерархии между поколениями, равенство разрушило и ткань времени между прошлым, настоящим и будущим. Оно также перерезало вертикальные связи долга и обязательств, соединяющие «каждого – от крестьянина до короля». Разрушив эти временные и вертикальные связи, равенство уничтожило важнейшую – горизонтальную, связывающую каждого человека с другим. Среди равных граждан, заключал Токвиль, не существует «естественных связей», поскольку равенство «разделило людей, не дав общей, объединяющей их связи». Потеря религиозного авторитета, теснейшим образом связанная с падением старого режима, лишь усилила одиночество. Религия объединяла людей друг с другом при помощи цепи обязательств. Она отрывала человека «время от времени от размышлений о самом себе». В светском обществе, напротив, каждый был «навеки отброшен к самому себе», «заключенный в одиночестве своего сердца»38.
Без общественной иерархии, без подлинных и сущностных связей и привязанностей люди становились неуверенными в себе и своем окружении. «Сомнение покоряет высочайшие способности ума и наполовину парализует все остальные.» Ничто больше не сдерживало их влечений; ничто не подкрепляло их выбор; ничто не приносило содержания, значения и направления их действиям. Вместо этого их встречала обширная открытая поверхность, в которой ничто и все возможно, где ежедневно меняется пейзаж, быстро превращаясь в белый туман. Это отсутствие структуры переходило в отсутствие авторитетов – наиболее стимулирующий тревогу опыт. «Там, где нет авторитета в религии или политике, люди вскоре пугаются безграничной независимости, с которой им приходится столкнуться.» Здесь Токвиль указывал на то, что станет известно как страх свободы, головокружение, поражающего каждого, кто обязан делать выбор без комфорта уже полученных оснований и авторитетов; таким образом, теперь каждый «напуган своей собственной свободой воли», «испуган самим собой»39.
Несмотря на тревогу в связи с отсутствием структуры, авторитетов, традиции, сплоченности и значения, государство было вынуждено вмешаться, чтобы заново установить прочную структуру власти, напомнить людям о том, что они не одиноки. «Когда все в царстве ума в движении», люди чувствуют «неизбежную слабость», постоянная дрожь приводит к параличу, «ослаблению пружин воли». Незадолго до этого люди осознали, что новое установление власти, более твердой, лучшей, должно облегчить их сильную тревогу. Они выбрали бы диктатора или вероятнее всего авторитарное государство всеобщего благосостояния, которое во имя помощи людям получало от них власть. Те, кто хотели «иметь по крайней мере стабильный и прочный материальный порядок», вскоре стали «крепостными». Они не только «позволили отобрать у себя свободу, но часто сами расставались с ней», пишет Токвиль.
«В отчаянии от собственной свободы, в глубине своего сердца они уже поклонялись господину, который вскоре должен был появиться»40. Столетие спустя, когда Ханна Арендт начнет исследование истоков притягательности Гитлера и Сталина, она обратится именно к этой мысли, утверждая, что тревога масс привела этих людей к власти.
От страха и террора к тревоге
В некоторых отношениях во втором томе «Демократии в Америке» Токвиль следовал по пути, избранному Монтескьё в «Духе законов». Как и Монтескьё, в отличие от Гоббса, Токвиль рассматривал страх скорее как чувство растекающейся опасности, чем сконцентрированное предчувствие вреда. Таким образом, Токвиль лишил страх моральных составляющих. В действительности тревогу возможной делало отсутствие какого-либо связного представления или твердого убеждения о благе. Как и Монтескьё, Токвиль, в отличие от Гоббса, полагал, что тревога была связана инверсивным взаимоотношением с личностью. Чем большим самосознанием обладает личность, тем меньше вероятность, что она будет испытывать тревогу; чем меньше самосознания, тем более вероятно, что человек будет чувствовать тревогу. Как Монтескьё по отношению к Гоббсу, Токвиль верил, что тревога вырастает в отсутствие интегрирующих институтов, объединяющих элит и властных структур. Как и Монтескьё, он связывал тревогу с факторами скорее культуры, чем власти и политики, хотя и в гораздо большей степени, чем Монтескьё.
Но Токвиль исходил из предположений о страхе, которые, несмотря на значительные разногласия, разделяли и Гоббс, и Монтескьё. В отличие от Гоббса или Монтескьё, Токвиль представлял, что линии зарождения, развития и передачи тревоги распространялись кверху – от глубочайших тайников души массы к государству. Гоббс и Монтескьё полагали, что государству необходимо было предпринять некоторые действия для пробуждения страха и террора, что инициатива исходит сверху. Токвиль перевернул это предположение, заявляя, что тревога была автоматическим условием жизни одиноких людей, вынуждавших либо содействовавших репрессивным действиям государства до такой степени, что, действуя репрессивно, государство лишь отвечало на требования масс. Так как масса не имела лидера, была лишена руководящей элиты и автономной власти, государственная репрессия была подлинно народным, демократическим делом.
В отличие от Монтескьё или Гоббса, Токвиль предполагал, что отдельные элементы массы, стремившиеся потеряться в репрессивном авторитете, были культурно и психологически склонны к подчинению. Гоббс и Монтескьё полагали, что индивид, который боится и запуган, должен быть создан при помощи политических инструментов – элит, идеологии, институтов у Гоббса и насилия у Монтескьё. Но, по мнению Токвиля, политика тут была ни при чем. Тревожащаяся личность уже имелась. Вне зависимости от формы политики и власти личность была тревожной в силу своей психологии и культуры.
В конечном итоге именно этот образ демократической личности посреди одинокой толпы сделало представление Токвиля о массовой тревоге таким пугающим. Заявляя, что тревогу не нужно было специально создавать, так как она уже была неотъемлемым свойством демократической личности и ее культуры, Токвиль предполагал, что опасность исходит изнутри, что врагом была психологическая пятая колонна, таящаяся в сердце каждого человека. Он писал в записной книжке: «На этот раз варвары придут не с холодного севера; они вырастут в нашей глубинке и в наших городах»41. Гоббс старался обратить страх людей на естественное состояние в будущем и прошлом и на реального правителя в настоящем, Монтескьё – на деспотический террор, ожидающий нас в будущем или в отдаленных странах Азии. Оба философа стремятся сфокусировать страх людей на внешнем объекте, лежащем вне их или за пределами их стран. Токвиль направил внимание людей внутрь, навстречу повседневным предательствам свободы внутри их беспокойных душ.
Если и был какой-либо объект для страха, так это склонность личности к подчинению. Отныне люди должны были караулить самих себя, бдительно охраняя границы, отделяющие их от массы. В разгар холодной войны американские интеллектуалы возродят это направление мысли, утверждая, что величайшей опасностью для американцев было их тревожное эго, всегда готовое передать свою свободу тирану. Предостерегая против «тревог, побуждающих людей в свободных обществах стать предателями свободы», Артур Шлезингер заключал, что в Соединенных Штатах «в душе каждого живет Сталин»42.
Другим объектом страха была эгалитарная культура, от которой произошла демократическая личность43. Токвиль не призывал к отмене демократических завоеваний или отступлению от равенства. Он мыслил слишком реалистично и верил в завоевания революции, чтобы присоединиться к хору роялистской реакции. Но при этом он утверждал: чтобы защитить достижения революции, помочь демократической личности выполнить свое обещание как ее подлинного представителя, ей необходимо оказать поддержку посредством создания прочных властных структур и возрождения чувства местной солидарности, а также поощряя религию и другие источники смысла, помещая личность в гражданские ассоциации, чья функция была скорее психологической и интегрирующей, чем политической. Для противодействия массовой тревоге либералы и сторонники равноправия, демократы и республиканцы должны были прекратить свою атаку на немногие оставшиеся в обществе иерархии. Они не должны участвовать в социалистическом движении по централизации и усилении власти перераспределяющего государства. Вместо этого им необходимо активно поддерживать местные интересы, институты и авторитет элиты; эти остатки старого режима были единственным оплотом против тревоги, грозящей введением худших в истории форм тирании. Другими словами, задача заключалась не в продолжении атак на старый режим, но в их остановке, а также в том, чтобы сосредоточить внимание не на ниспровержении остатков привилегий (местных институтов и элиты, религии, общественных иерархий), а на их укреплении; единственными социальными факторами, стоящими между демократией и деспотизмом, были свобода и тревога. 150 лет спустя интеллигенция Северной Америки и Западной Европы представит сходную аргументацию.
Портрет романтического либерала как контрреволюционера
Как мы увидели, отступление Токвиля от первого ко второму тому «О демократии в Америке» было признаком его закатившейся политической фортуны в течение второй половины 1830-х годов. Потерпев поражение, Токвиль, неспособный противодействовать его политическим причинам, консервативной непримиримости и либеральной робости, обратился к культурному и психологическому объяснению окружавшего его политического затишья. В этом отношении он не так уж отличался от Монтескьё, также находившего объяснение политическим поражениям своего времени в культуре, или от Арендт в 1940-х годах и североамериканских и западноевропейских интеллектуалов 1990-х годов. В момент политического торможения, когда реформа теряла скорость, либеральные и радикальные интеллектуалы часто оставляли политический анализ ради всеобъемлющих интерпретаций психологии и культуры. Потрясенные поражением, от которого, как они полагали, невозможно оправиться, они не могли поверить, что что-то столь случайное и пластичное, как политика, может объяснить их потерю. С их тяжеловесными обращениями к основательному и неподатливому категории психологии и культуры кажутся более созвучными глубоким течениям существования человека и унылому настроению побежденных интеллектуалов.
Но отчаяние Токвиля в 1830-х также представляет собой новую эмоцию, открытую в начале французской революции, которая может быть описана лишь как вид либерального романтизма46. Будучи смесью радикализма и разочарования, романтизм Токвиля передавал одновременную жажду и отвращение к революции, любовь-ненависть свободы и равенства. Токвиля, очарованного теорией либеральной демократии, оттолкнула ее практика. И себя он начал искать в другом – в имперских экспедициях за рубеж и контрреволюционных подвигах дома, чтобы спастись от мучительной скуки. Так как эта эмоция – прототип эмоций многих интеллектуалов, писавших после Токвиля, поскольку она проходит через его концепцию и множество более поздних концепций тревоги, она заслуживает дальнейшего рассмотрения.
Токвиль был младшим атташе этого странного поколения европейских интеллектуалов, пробужденных французской революцией, жестоко разочарованных ее финальным разгромом, когда в 1815 году Наполеон потерпел поражение при Ватерлоо47. Революционная политика высвободила в них желание политической свободы и широкомасштабных общественных действий, которые просто не могли быть осуществлены в период тридцатилетнего затишья постнаполеоновской Европы. С его причудливой смесью тоски, меланхолии и ярости романтизм выражал это настроение остановившегося прогресса. Он подарил язык радикальных суждений и обвинений, порицающий компромиссы и робость первой половины XIX века. Но в отличие от вдохновившего их революционного духа, романтики писали с предчувствием политической неудачи; независимо от того, насколько значительными были их представления, их никогда не покидала аура предвосхищаемого поражения.
Несмотря на то что Токвилю было лишь 10 лет, когда был побежден Наполеон, он плавал в этих смешанных потоках революции и романтизма, демонстрируя своей собственной жизнью тот же баланс энтузиазма и отчаяния, характеризовавших его старших собратьев. Представляя себя на публике законченным реалистом, не терпящим энтузиазм любого сорта, в душе он был Вертером. Он признался брату, что часто разделял «жадное нетерпение» их отца и его «потребность в ярких и частых эмоциях». «Скрежеща зубами за решеткой разума» (который, как он сознавался, «всегда был для меня как клетка»), он жаждал «зрелища сражений»; как он пишет, оно «всегда восхищало меня»48.
Учитывая испытания семьи во время революции, кажется вполне естественным, что Токвиль ненавидел ее и связанные с ней патологии. Часто так и было. Но реакция Токвиля на революцию скорее примечательна его похвалой, чем антипатией. Отчасти его энтузиазм, несомненно, обязан его убеждению в том, что старый режим мертв и что любая жизнеспособная политика должна была признать, что возврата к периоду до 1789 года не было49. И хотя Токвиль публично выступал с предостережениями в целях защиты революции, тайный язык его привязанности был гораздо более страстным. На середине своего пятого десятка Токвиль воспринял дух раннего Вордсворта, заявляя о революции, что «у руля была молодежь, адепты пылкого энтузиазма и гордых и благородных устремлений, чью память, несмотря на крайности революции, люди всегда будут хранить».
1789-й был годом суровым и годом «несравненного величия». Токвиль оплакивал конец правления террора, заявляя, что «люди… так мелки, что не только не способны более к достижению великих добродетелей, но, кажется, стали почти неспособными и на великие преступления». Даже Наполеон, «самый необычный человек, появившейся в мире за многие столетия», заслуживал восхищения. И наоборот, кто найдет вдохновение в парламентском заговоре своей эпохи или там, где политика сведена к тривиальной махинации и беспринципному компромиссу?
По его описанию, политическая сцена была подобна «маленькой демократической и буржуазной кастрюле супа». «Верите ли вы спрашивал он в 1840 году, – что политический мир надолго останется лишенным настоящих страстей, как в данный момент?» Парламенты ничего не требовали от людей – и ничего не получали.
Революции требовали все и получали больше. Так что Токвиль написал: «Я бы мечтал о государстве революции, в тысячу раз лучшей, чем то несчастье, которое окружает нас»50. Почему революции призывают такие удивительные резервы человеческой энергии? Дело в том, что они были новшеством, моментами по-настоящему незаурядными, в которые люди вели себя с беспрецедентной смелостью и находчивостью. Революции навязывали их участникам ответственность или возможность для подлинной политической созидательности. Полагаясь на свои собственные суждения и инстинкты, лидеры и граждане открывали «дух здоровой независимости, больших амбиций, веру в себя и свое дело». Нереволюционные времена требовали от людей следовать условности и обычаю. В компромиссе умеренности не было «поступка», ничего, что могло бы «принести что-либо примечательное». И «что такое политика без действия? Там, где оригинальность была символом свободы, подражание было вестником подчинения». Это было глубоко личным делом Токвиля, поскольку он часто опасался, что он лишь актер от политики, автор, повторяющий строки, написанные для него кем-то другим. На деле он обратился к революционерам 1848 года потому, что относился к ним совсем не как к настоящим революционерам, но, пользуясь словами, нашедшими знаменитое эхо в начальных строках «Восемнадцатого брюмера» Маркса, как к «провинциальным актерам» в «плохой трагедии», эрзац-революционерам, скорее «занятым в театральной постановке французской революции, чем в ее продолжении»51.
На протяжении всей своей карьеры Токвиль искал политического выхода этим романтическим стремлениям, когда рассудительность и согласованные действия могли бы действительно оказаться широкомасштабными. Токвиля не интересовало, как утверждали некоторые, возрождение гражданских республиканских традиций Аристотеля и Макиавелли52. Он надеялся найти в политике измерения эмоциональности и опыта, которые предшествующие теоретики просто не признавали. Политика должна была стать открытой для страсти и своеобразия, активностью, которая предотвратила бы апатию и застой, грозившие поглотить Францию и всю Европу. Она должна была стать сферой индивидуального выражения и творчества, в которой скорее личность, чем община, могла бы возродить свои истощенные способности. В наброске «О демократии в Америке» говорится: «Чтобы сохранить что-либо для независимости [личности], ее силы, ее оригинальности, нужны постоянные усилия всех друзей человечества во времена демократии».
Токвиль не боялся, в отличие от республиканцев прошлого, гражданской коррупции – разрушительных действий времени и судьбы, почти так же, как не боялся скуки, отчаяния, утомленности безопасностью и компромиссом. Если бы политика смогла добавить долю опасности, риска и приключения, она могла бы вывести Европу из бездумного оцепенения и помочь вернуть воодушевление ее революционных лет. Короче, целью была политика, при которой существует «возможность использовать… этот внутренний огонь, что я чувствую в себе и который не знает, где найти то, что питает его»53. И это был голос не Аристотеля или Макиавелли, но Гюго, Стендаля и Ламартина54.
Как признался сам Токвиль, его план объединения романтической страсти с политической умеренностью оказался неудачей, жертвой реакционного отказа и либеральной трусости. Но у его неудачи найти настоящую любовь в парламенте было еще одно измерение: несмотря на свою формальную преданность умеренности, Токвиль чувствовал, что в ней он задыхается. Он мог озвучивать слова парламентской процедуры, но они их не вдохновляли. Без революции политика просто не была великой драмой, которой, как он представлял, она была между 1789 и 1815 годом. «Наши отцы были очевидцами таких необычных вещей, по сравнению с которыми все наши труды кажутся заурядными.» Политика умеренности привела к изобилию умеренности, но не принесла много в смысле политики, по крайней мере так, как Токвиль формулировал этот термин. В течение 1830-х и 1840-х, пишет он, «больше всего не хватало… самой политической жизни». Не было «поля сражения для соперничающих сторон». В итоге политика была лишена «всякой оригинальности, всякой реальности и потому всех подлинных страстей». В усилиях Токвиля по вселению революционной страсти в умеренные реформы было что-то комичное, и он знал это. Поскольку тогда как «революционные времена… не допускают безразличия и эгоизма в политике», нереволюционные времена непременно это делали55.
Не имея реальной возможности создать либерализм из страсти, Токвиль находил удовлетворение в двух типах политики – империализме и контрреволюции, что неслучайно имело мало отношения к духу умеренности, так часто им отстаиваемому. Империализм (Франция только начала свой 130-летний конфликт с Алжиром) затрагивал многие интересы Токвиля: желание народной славы, требования реальной политики (прагматизм, отказ от идеологических догм), борьбу за Африку56. Но он видел в имперской экспансии гораздо больше, чем перспективу предназначения французов или национальное величие. В господстве над чужими землями Токвиль видел возрождение европейской расы, пробуждение континента от бессильного сна, последовавшего за поражением Наполеона. Видя, как европейские армии маршируют по всей земле, Токвиль мыслил в меньшей степени как француз или республиканец, чем как европеец. Его меньше заботило то, какой народ ведет завоевания, чем само осуществление завоевательных действий. Когда британцы готовились к опиумной войне[12]12
Опиумная война 1840–1842 гг. началась со вторжения английской армии в Китай.
[Закрыть], он написал: «Я могу только радоваться при мысли о вторжении в Небесную империю европейской армии. Так, наконец, подвижность Европы разберется с китайской неподвижностью!» Это было «великим событием», «выходом европейской расы из дома» и «подчинением всех остальных рас ее империи или ее влиянию». Споря с теми, кто, как он сам, обычно «порочит наш век» из-за его ничтожной политики, Токвиль настаивал на том, что «незаметно для всех нечто более значительное и необычное, чем создание Римской империи, происходит в наше время; это порабощение четырех сторон света пятой». После заключения Лондонской конвенции, грозившей уменьшением роли Франции на Ближнем Востоке и спровоцировавшей призывы к войне по всей Франции, Токвиль написал Миллю, что хотя он осторожен в отношении стремлений к войне его соотечественников, но полагает «даже более опасным» «соглашаться с теми, кто громко требует мира, любой ценой». Не потому, что мир подрывал национальную безопасность, но потому, что «величайшая болезнь, угрожающая народу, организованному так, как наш, есть постепенное смягчение нравов, умственная деградация, посредственность вкусов»57.
Но за долгую карьеру общественной жизни ничто не вызвало такого энтузиазма Токвиля, как революция 1848 года, когда либералы и радикалы по всему континенту, включая Францию, пытались снова обрушить стойкие старые режимы Европы. Токвиль не поддержал восстания; напротив, он был среди его самых громогласных оппонентов. Он голосовал за полную отмену гражданских свобод, включая отмену свободы собрания и прессы, что, как он с радостью объявил, было сделано «даже с большей энергией, чем при Монархии», и приветствовал слухи о «диктаторстве» для охраны «отчуждаемого права общества на самозащиту»58. Почему он занял такую позицию? Для того, чтобы защитить тот же либерализм и парламентскую политику, в жалобах на которые он провел большую часть двух десятилетий. Защищая либерализм от радикализма, Токвиль получил возможность использовать нелиберальные средства в либеральных интересах; не вполне понятно, средства или цели волновали его больше. Токвиль ясно представлял силу коалиции между либеральным идеалом (или, как он называл его, «республиканской верой») и контрреволюционной волей. Поскольку когда то и другое объединилось, пишет он, либерализм смог найти выход своей самой мощной политической энергии. «Этой отважной профессии антиреволюционера предшествовала профессия республиканской веры; искренность одной, казалось, свидетельствовала об искренности другой»59. Контрреволюция дала Токвилю шанс выказать все качества, которыми он так восхищался в революционерах прошлого, но которых он так и не смог найти в настоящем. В 1848 году ему не было скучно, он чувствовал себя воодушевленным, героическим.
Позвольте же мне сказать, что когда я начал внимательно проникать в глубины своего собственного сердца, я открыл с некоторым удивлением определенное чувство облегчения, вроде радости, смешанной со всеми горестями и страхами, которые разбудила революция. Я страдал за свою страну от этого ужасного события, но точно не за себя; напротив, казалось, что я дышу более свободно, чем перед катастрофой. Я всегда чувствовал, что задыхаюсь в атмосфере парламентского мира, который только что был разрушен: я нашел его полным разочарований в том, что касается остальных и меня самого60.
Он оказался «пойман в течение большинства», а он, вопреки часто высказываемым опасениям по поводу большинства, любил компанию. Самозваный поэт умозрительного, утонченного и сложного, он с вдохновением кипел стремлением открыть простое общество, четко разделенное на два лагеря, и волнением выбора между добром и злом. Там, где робкие парламенты сеяли унылое замешательство, контрреволюция навязывала обществу укрепляющую ясность черного и белого. «Для неуверенности не оставалось места: по эту сторону лежит спасение страны; по ту – ее разрушение. Ошибиться в выборе пути уже было невозможно; нам надо было идти при ясном свете дня, при поддержке и подбадриваниях толпы. Дорога, правда, казалась опасной, но мой ум устроен так, что меньше боится опасности, чем сомнения»61.
Но революции, перефразируя Джефферсона, в лучшем случае приходят каждые двадцать лет, так что труд либерального контрреволюционера всегда будет неустойчивым и непрочным. Без угрозы народного восстания или возможности империалистической авантюры, которые вызвали бы лихорадку либеральных идеалов, романтические стремления Токвиля могли так никогда и не реализоваться в либеральной политике. Так что он погрузился во внутренние дела, атакуя демократическую личность с таким же рвением, с которым он нападал бы на революционеров 1848 года, и с такой же страстью, с которой он предлагал экспедиции в Алжир. Этот поворот внимания внутрь, окончательное сокращение радикального мессианизма нашли место в анализе тревоги Токвиля, сделавшего два тома «О демократии в Америке» общей проекцией революционной надежды и контрреволюционного презрения.
Конформист, запуганный тираническим большинством в первом томе, и изолированная личность, стоящая посреди одинокой толпы в томе втором, были созданием одновременно революционного модерниста и разочарованного романтика. Будучи критической оценкой современной личности, эти образы конформизма и изоляции, тем не менее, несли черты этой самой современной личности, освобожденной революцией.
До революции философы часто превозносили конформистов за проявление здорового уважения к мнению собратьев. В 1757 году Эдмунд Бёрк назвал это уважение к мнению других «имитацией», прославляемой им как «одна из сильнейших связей общества». Хотя Бёрк предупреждал, что слишком много имитации может оказаться губительным для прогресса, он, тем не менее, стремился утвердить ее, как «вид взаимного одобрения, которые все люди оказывали друг другу без какого-либо давления, что чрезвычайно лестно всем»62. До революции изолированная личность, изображаемая во втором томе, снедаемая сомнениями, неуверенная в правде, неспособная к решениям, могла бы стать материалом для трагедии Шекспира, символом человеческого, слишком человеческого существования. Но вследствие революции имитация стала восприниматься как адекватность, гамлетовское сомнение, убивающее тревогу. «То, что является преступлением среди множества», по словам Дизраэли, «лишь порок среди немногих»63. Только тот, кого сначала разбудила, а потом предала революция, мог изобрести подобные трансформации, сделав из конформиста объект романтического разочарования.
Во времена революций, как однажды написал Токвиль, людям в меньшей степени вредят «ошибки и преступления, совершенные ими в пылу страсти либо их политические убеждения», чем «презрение… которое они приобретают к тем самым убеждениям и страстям, которые ими управляли» поначалу. Попытавшись принести в мир свободу и потерпев неудачу, «они оборачиваются против себя и считают свои надежды детскими, а свой энтузиазм и прежде всего преданность – абсурдными»64. Это было бы подходящей эпитафией для себя – и для всех разочаровавшихся либералов и радикалов, ставших затем неотъемлемым элементом XIX и XX столетий.
Токвиль переживал из-за талантов, которые романтики всегда приписывали революционерам. Но он также знал и участь революции – не только то, что она закончилась резней, но и то, что она закончилась. Это знание ставило его в безвыходную ситуацию. Даже если он едва мог дышать сырым летом, окутавшим Францию после 1815 года, он не мог полностью порвать с эпохой антиреволюционных утверждений. Вместо борьбы с этой двойственностью он обратился к исследованию личности. Поскольку определяя личность как важнейший канал современной тревоги, он мог свести счеты с революцией, которая, как он полагал, освободила эту личность, и именно это оставляло либеральную демократию на своем месте, что так сильно удручало его.
Лежащая в основе произведения Токвиля неразрешимая амбивалентность – о революции, демократии, либерализме и личности – долгое время придавала его анализу тревоги огромную экуменическую притягательность. От Милля до Ницше и Арендт, от Ортеги-и-Гассета и Т. С. Элиота до франкфуртской школы и Фуко, от либеральных интеллектуалов, работавших в холодную войну, до общественных интеллектуалов, пишущих ради него, представление Токвиля о колонизации беспокойной личности обществом доминировало на культурном ландшафте, особенно в моменты политического отступления. Оно взывало к консерваторам, либералам и радикалам, находивших в его критике современного общества рецепт локализма или федерализма, сообщества либо иерархии, либеральных институтов или сопротивление государству всеобщего благосостояния. Как бы эти авторы ни уставали от решений Токвиля, сколько бы они ни думали, что его решения не могут освободить их от скуки и отчаяния, они прибегали к его критике современной личности, ее психологии и культуры тревоги. И уставая от его критиков, они находили поддержку в двух других его излюбленных отдушинах – контрреволюции и империализме.








