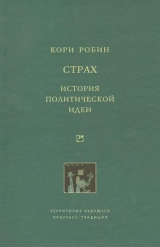
Текст книги "Страх. История политической идеи"
Автор книги: Робин Кори
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
На пространстве всего политического спектра – от предпочтения Джин Киркпатрик авторитарности тоталитарной диктатуре (первой – привычной, патриархальной и знакомой; последней – утопичной, антитрадиционной и идеологической) до административной власти Фуко, никому и ничему не служащей, помимо высвобождения телесного движения и биологической силы, – союз идеологии и террора Арендт стоит в центре современного сознания, зачастую противореча фактам. В самом деле, для некоторых интеллектуалов эмпирические недостатки рассуждений Арендт в «Истоках» свидетельствуют лишь о ее более глубоком и образном понимании зла тоталитаризма. По их словам, Арендт обладала особым даром «метафизического видения», способностью, сходной с талантом писателя – видеть правду или значение под либо позади изучаемого факта. «Для того чтобы проникнуть в душу дьявола, – пишет Ирвин Хоу в 1991 году, – вам нужно прикоснуться к самому дьяволу; чтобы понять внутреннее значение тоталитаризма… вы сами должны поддаться воображаемому»124.
А как же с «Эйхманом в Иерусалиме»? Что с террором карьеризма, коллаборационизма и сотрудничества? с эгоизмом, скрывающимся за идеологическими утверждениями; с амбицией, движущей либо сопровождающей веру? Как с устойчивыми иерархиями и классовыми структурами? Как с жертвами, принимающими выбор, иногда ведущий к выживанию, иногда – нет, зачастую ценой коллаборационизма? Как с туземными элитами, направляющими своих от оппозиции в сторону коллаборационизма? Как с насилием, не разрушающим разум, личность и деятельность, но добивающимся этого? Несмотря на ряд исследований, подтверждающих присутствие этих элементов не только в сталинской России или нацистской Германии, но в Чили Пиночета, в самых грязных войнах Аргентины и Уругвая, в Восточной Европе брежневских лет и позднее125, современные интеллектуалы остаются не заинтересованными в этих категориях. Хотя определенные аргументы из «Эйхмана» продолжают привлекать внимание (банальность зла, например, которую обычно относят к лозунгу, а не к идее), ни один из них не достиг скорости, достаточной, чтобы потеснить позиции глубокого и негласного единодушия в отношении тотального террора, которое помогло создать «Истоки».
Почему так? Потому, что для многих современных интеллектуалов бескорыстный идеолог более полезен, чем амбициозный карьерист. Идеолог предостерегает нас о риске желать слишком многого, в политическом смысле напоминая нам об ужасных вещах, случающихся, когда мы перестаем мыслить близоруко. Как и естественное состояние у Гоббса, идеолог является сжатым предостережением и сигналом тревоги, предупреждающим нас об угрозе скорого нарушения границ полей смерти, к которым мы снова приближаемся. Идет речь о французском фильме 1988 года «Майский процесс», кинематографическом осуждении эксцессов мая 1968 года, с голосами за кадром из якобинского прошлого Франции («Террор ведет свое начало из доблести»), или о критике президентской кампании 2000 года Ральфа Надера, поносившего «фанатизм» и «левый утопизм» третьих партий, чувство смертельной опасности, порождаемое идеологией, ощутимо и полезно126. Карьерист может и не быть самой привлекательной фигурой. Как мы увидим в следующей главе, он может стать источником серьезного разочарования для тайных романтиков, которые ругают политический энтузиазм, но тоскуют по нему, как только он иссякает; но его излюбленным путем является рынок, а не коридоры (государственной) власти. Он заботится о себе – не о великих идеях. Он реалистичен и прагматичен, а не утопичен или фанатичен. Такой карьеризм сам по себе может быть идеологией; такой реализм может быть смертелен как абстракция, а такая амбиция может приводить к сговору со злом; худшие примеры страха являются продуктом обычных пороков, а не необычных идей, – на такие мысли наводил «Эйхман в Иерусалиме». Но они не гармонировали с представлениями того времени о себе, а потому о них забыли.
5. Следы того дняПосле всякой великой битвы наступает великое отчаяние, в особенности когда речь идет о войне гражданской и повстанческой, ведется она словами или силой оружия; обе стороны чувствуют себя опустошенными. В стане побежденных один товарищ обвиняет другого в предательстве или трусости, солдаты упрекают полководцев в том, что те ведут их на безрассудство, и вскоре всех охватывает то, что Токвиль описывал как «презрение», которое разбитые революционеры «обретают в отношении самих убеждений и увлечений, движущих ими». Вынужденные отказаться от дела, которому отдали так много, неудачливые повстанцы «обращаются против себя самих и решают, что их надежды были ребячеством, а их энтузиазм и прежде всего приверженность абсурдны». В отличие от проигравших, чье поражение служит им постоянным напоминанием об их невознагражденной жертве, принесенной в борьбе, победители страдают забывчивостью. Позабыв о тяготах битвы, они тоскуют по ее грому. Мы чувствовали себя живее, вопиют они, чем сейчас, в объятиях комфорта. «И по мне тоже война – лучше; она – ясный день, а мир – это ночь. Война живит, веселит, полна слухов и россказней. А мир – будто сон или паралич: скука, пустота, глухота, вялость. В мирное время побочных детей больше родится, чем на войне людей гибнет», – говорит в «Кориолане» один из слуг Авфидия[20]20
Акт iv, сц. 6 (перевод под редакцией А. Смирнова).
[Закрыть]1. Хотя победители сетуют на торможение после победы, истинный источник их недовольства – разочарование. Победа вынуждает победителей увидеть, что добро, за которое они сражались, оказывается запятнанным и тусклым, что земля обетованная издали кажется лучше, нежели вблизи. Возможно, как раз поэтому Господь не позволил Моисею сойти с горы Нево[21]21
Втор. 34:4.
[Закрыть]: если бы он вошел в Ханаан, там его, может статься, ожидало бы разочарование. Таким образом, и победитель, и побежденный приходят к единству в понимании одного – мы бились за пустоту; ничто в реальном мире не может сравниться с мечтой, пробужденной нашими усилиями изменить его.
В последней трети XX столетия как левые, так и правые знали и победы, и поражения. Левые способствовали прекращению войны во Вьетнаме; это было единственное в истории народное движение, за исключением русской революции, которое заставило правительство покинуть поле брани. Оно положило конец столетней эпохе Джимов Кроу, разбило систему профессиональной дискриминации женщин и ввело в нормальный мир геев и лесбиянок. Но и оно было разгромлено на голосованиях и выплеснулось на улицы. Сегодня идея равенства уже не стимулирует политические дискуссии; идея свободы, некогда бывшая лозунгом левых, сегодня приватизирована правыми. Левые, торжествующие или разбитые, ответили на перемену ситуации унынием, смешанным с волнением. Еще в 1968 году трезво мыслящий Джулиан Бонд почувствовал запах разочарования в победе, отметив раскол в рядах движения за гражданские права в ходе президентской избирательной кампании того года. Когда Бонд и его сподвижники в Джорджии агитировали за Хьюберта Хэмфри и скомпрометированную Демократическую партию, на Севере активисты не смогли примирить убожество их положения с колоссальными жертвами, которые приносило движение. Бонд писал: «Наши братья и сестры на Севере называют нас „дешевками“ и „проститутками“, что, как я убежден, является знаком того, что сегодня сидячие демонстрации и марши мира поблекли и усилия по борьбе за голоса избирателей стали неэффективными… Мы более не вызываем интереса». Разочарование в антивоенном движении было более ощутимым, хотя, наверное, и менее определенным. В 1971 году, когда двигатели радикализма работали на полную мощность, Джерри Рубин заявил о своей готовности спрыгнуть с подножки поезда. «Борьба за мир стала респектабельным занятием», – сетовал он после первомайских призывов к прекращению войны во Вьетнаме, одного из первых признаков нервозности, столь часто порождаемой политическими успехами2.
Тридцать лет спустя сторонники левых морщатся от кислого запаха поражения. Когда большая часть населения мира отвергла то, за что они в свое время боролись, бывшие левые, раскаявшиеся левые и либералы делают самих себя и своих прежних товарищей объектом пристального внимания. Они с горечью говорят о том, что позволили своим экстремистским, равно как и раскольническим (по признакам пола и самоидентификации) сторонникам отвратить от них всю остальную Америку. Забывая, что поражение – это обычный удел носителей протеста из низов, критики представляют левых менее фальшивыми, более умеренными и открытыми, способными совершить то, что никогда не делалось раньше, – изменить мир, не вызвав на себя сокрушительный гнев общества. Они утверждают, что левые, более привлекательные и достойные, могли бы покончить с господством белой расы, остановить войну, преобразовать «государство всеобщего благосостояния» в действующую социальную демократию и при этом каким-то образом избежать политической изоляции, в которой они в конце концов оказались. Не будучи в состоянии смириться с потерями, эти критики ныне находятся в плену стыда и смущения, которые Токвиль подмечал в прежнем поколении побежденных. Один публицист преклоняется перед «мужественной статью» сектантов шестидесятых, их «короткими стрижками» и «вялыми мускулами», их «ровными перекличками с марксизмом», которые так «странно далеки от американского английского». Другой автор отрекается от своего былого восхищения «нравственным абсолютизмом Достоевского времен „Записок из подполья“». Еще кого-то раздражает в левых недостаток патриотического горения и национальной самоидентификации, неприятие всего американского3.
Чтобы у читателя не создалось впечатление, что горечь побед и поражений присуща исключительно левым, обратимся к некоторым недавним разочарованиям правых. Более полувека консерваторы боролись за искоренение коммунизма, за социальную демократию и государство всеобщего благоденствия, и теперь они могут говорить о значительном и ощутимом успехе. Свободный рынок стал в наше время lingua franca[22]22
здесь: универсальный язык (лат.).
[Закрыть]. Берлинская стена более не существует. Религия снова вошла в моду. Но для отцов современного консерватизма, а также их сыновей окончание холодной войны стало несчастливым временем. Ирвинг Кристол[23]23
Кристол – американский журналист неоконсервативного направления, издатель журналов «Национальный интерес» и «Общественный интерес».
[Закрыть] жалуется на то, что крах коммунизма «лишил нас [т. е. консерваторов] врага». И добавляет, что «в политике лишиться врага – это серьезная проблема. Вы успокаиваетесь и теряете боевой дух. Обращаетесь внутрь себя». Консерваторы добились всемирного признания свободного рынка и теперь сознают, что капиталистические общества не суть вместилища всех достоинств, за которые их превозносят. Рынки не нуждаются во флотилиях бесстрашных торговцев, они порождают стремление к комфорту и благополучию, отнюдь не стимулируя динамизм и процветание, которых от них ожидали после краха коммунизма и торжества государства благоденствия. Разочарованный Уильям Ф. Бакли замечает: «Проблема уклона в консервативную политику в отношении рынка заключается в том, что он приедается. Вы слышите о данной идее и усваиваете ее. Перспектива посвятить ей всю жизнь устрашает хотя бы потому, что она столь назойлива. Это как секс»4.
Некоторые консерваторы даже вздыхают по временам идеологического противостояния. Им не хватает левых, поскольку левые, по словам Фрэнсиса Фукуямы, порождают суперменов, «личностей вроде Ленина или Троцкого, стремящихся к чему-то чистому и высокому». Они зовут бойцов за идеи и порождают в них мужество, необходимое для того, чтобы противостоять им. Их поражение не оставляет миру «больших препятствий, которые нужно преодолевать», и люди с радостью «удовлетворяют свои нужды посредством экономической деятельности». Возможно, новый прогрессивный переворот возродит к жизни этих титанов прошлого, поскольку «борьба [левых] против несправедливости вызывает к жизни все самое высокое в человеке». Такой переворот может породить нового Сахарова или Солженицына, т. е. людей, чей отказ от компромиссов сделает их «самыми свободными и потому самыми „человеческими“ из людей». Но когда такие люди, как Солженицын, добиваются успеха, «как это и должно быть в конце концов», когда режимы левого толка, против которых они выступают, рушатся, как это обычно и бывает, «борьба и труд в старом смысле» ослабевают, как и «вероятность того, что они станут такими же свободными и человечными, как и в эпоху их революционных схваток». И останутся только «посудомоечные машины, видеомагнитофоны и личные автомобили», та самая земля обетованная, в которую полвека стремились консерваторы5.
Такие времена, когда движения вперед набирают силу, а затем отступают, охранительные партии защищаются, а затем торжествуют, и те и другие сожалеют об окончании военных действий, весьма пригодны для разговоров, пусть странных и уклончивых, о страхе. Обратимся ли мы к французской революции и последовавшей за ней волне реакции, к дерзкому «Новому курсу», впоследствии подавленному маккартизмом, или о возрождении правых, сведшем на нет достижения движений шестидесятых годов, в каждом случае перед нами предстанет история долгого цикла – активность радикалов и спячка консерваторов. И этот цикл проходит по весьма жесткому сценарию. Принадлежавшие в прошлом к партии движения люди оказываются свидетелями политического умиротворения, неподвижности в общественной сфере, массового ухода в частную жизнь и приходят к заключению, что их прежняя партия напрасно лишила граждан благ, которые предоставлял старый режим, и внушила им гнетущее чувство изоляции и безнадежности. Рассчитывая защитить общество от описанной Токвилем тревоги, эти критики начинают ратовать за возрождение объединяющих институтов. Они не становятся примитивными реакционерами; они стоят за умеренный либерализм, тот, который призывает не столько к повороту законодателя к защите прав или равенства, сколько за укрепление общества во имя уязвимой личности. Однако в той степени, в какой этому либерализму тревоги сопутствует успех, он открывает перед интеллектуалами и элитами обширные запасы нерастраченной политической энергии. Публицистам и общественным деятелям, которые некогда выступали за радикальные реформы в обществе, теперь мало что остается, разве что вставать на защиту местных сообществ и гражданских институтов. Они требуют более воинственного противника либерализму устрашения, который призван дополнять либерализм тревоги, так как при его помощи они могут использовать излишки своих политических ресурсов. Поэтому они перенацеливают свои орудия протеста, которые ранее были направлены против несправедливости внутри страны, на тиранические режимы в далеких странах. Памятуя об удовлетворении Токвиля имперскими амбициями европейских стран, они стремятся распространить за рубежом идеи Просвещения, которые не могут защитить дома.
Мне думается, сказанное отражает состояние политической мысли в Соединенных Штатах и некоторых странах Западной Европы. Начиная с шестидесятых годов и на протяжении семидесятых ученые и интеллектуалы шаг за шагом приближались к либерализму тревоги, отходили от активной либеральной борьбы за права и равенство, высказывались за менее жесткие ценности общежития и гражданского общества. В то же время они приветствуют либерализм запугивания, обращая свою энергию в сторону Боснии и Балкан, а сегодня – на Средний Восток и на исламский мир. При том что у нас на родине свободный рынок стал универсальным языком, не имеющим ничего общего с политическими расчетами – фундаментом крестовых походов, во время оно вдохновлявших Запад, наши интеллектуалы (как левых, так и правых взглядов) смотрят на остальной мир как на арену социальных экспериментов и политических реформ. Они не трогают внутренние установления и в то же самое время выступают в поддержку зарубежных экспедиций во имя идей Просвещения, за которые могут ратовать их былые антагонисты.
Существует множество других причин, по которым современные интеллектуалы выбирают для себя либерализм тревоги и запугивания; не последние из них – природные слабости и неповоротливость наших движений в области внутренних реформ, а также плачевное положение в большей части мира. Я не буду разбирать здесь эти причины: они относятся к чему угодно и, как можно предположить, знакомы большинству читателей. Еще важнее то, что я не хочу затушевывать сущность процессов, в силу которых либерализм тревоги и запугивания отражает те эпизоды прошлого, когда интеллектуалы обращались к страху как к источнику, питающему рефлексию и действия, и, следовательно, скрывали его политические корни и функции. Взглянув на либерализм тревоги и либерализм террора в свете этого прошлого, мы увидим, что эти формы либерализма помимо всего прочего суть окольные пути радикализма и потому, как и любые околичности, прокладывают удобный маршрут к скрытой цели.
Либерализм тревоги
Хотя либерализм тревоги многое позаимствовал у французской контрреволюции конца XVIII века, хотя он направлен против учений таких философов, как Кант и Декарт, его непосредственные корни восходят к 1960-м годам. Встревоженные либералы часто и с горечью говорят о завоеваниях и потерях этого десятилетия и последующих лет: о приверженности благосостоянию в отрыве от сопутствующих обязательств, широких возможностях «делать свое дело» и других, менее масштабных свободах. По мнению Амитаи Этциони, индивидуальная свобода и жизнь внутри сообщества «находятся в дисгармонии после десятилетий, когда превалировали личный интерес и воинствующий индивидуализм». В то время, когда демократы и республиканцы требуют от предполагаемых преступников, чтобы те прошли через процедурные слушания, когда принадлежность кандидата в президенты к Американскому союзу гражданских свобод рассматривается как признак принадлежность к коммунистической партии, когда в Соединенных Штатах аборты разрешены в меньшем числе округов, чем это было в 1973 году, последователей либерализма тревоги беспокоит «атмосфера безоглядной защиты прав в общественном мнении», которая еще не рассеялась6.
Хотя недовольство либералов тревоги направлено непосредственно на 1960-е годы, они не являются простыми оппонентами духа этого десятилетия. Подобно тому как Токвиль двойственно относился к французской революции, приверженцы либерализма тревоги не пришли к единству в отношении революционных перемен во взглядах на права, происшедших сорок лет назад. Вопреки утверждениям своих оппонентов публицисты данного направления не всецело враждебны по отношению к либерализму или же к его последним достижениям7. Они не изъявляют желания возвратиться в Америку времен сегрегации и расизма. Некоторые из них (в частности, Майкл Уолцер) представляют нам наиболее звучные голоса из 1960-х годов и по-прежнему выступают за развитие и распространение достижений этого десятилетия; другие (подобно Этциони) утверждают, что следует поощрять и холить сообщества, но не за счет прав личности. Этциони предупреждает, что большинство может быть тираническим и потому Конституция мудро оставляет гражданам «некоторые возможности» находиться «вне рамок большинства». Не должны мы также отвергать, как пишут Этциони и Майкл Сэндел, общественного мнения в поддержку традиционных канонов или религиозных авторитетов; напротив, нужно приветствовать не подверженный ограничениям либерализм и споры по неясным вопросам, которые либерализм неизменно поддерживает. Уолцер утверждает, что коммунитаризм, важнейший вариант либерализма тревоги, является «отдельной чертой либеральной политики», которая, «как складка на брюках», устремлена не на опрокидывание либерализма, а на то, чтобы придать ему социологическую и нравственную глубину. В попытке включить коммунитаристскую критику в либеральную теорию такие философы, как Уильям Галстон и Уилл Кимличка, доказали правоту Уолцера8.
Двойственность отношения теоретиков либерализма тревоги к шестидесятым годам проникает даже глубже. Хотя они нередко выступают за возрождение сообщества и гражданской доблести, апеллируя к авторитету Аристотеля и Макиавелли, их риторика часто восходит к очень индивидуалистическому характеру, который они подвергают сомнению9. Последователи либерализма тревоги очень интересуются судьбой личности, которую, по их мнению, основанный на идее права либерализм лишает полноты деятельности и силы. Они не ценят сообщество и гражданскую культуру как блага для них; в их глазах, сообщество ценно тем, что оно предоставляет арену для проявления личности. Этциони пишет: «Индивиды, связанные полноценными и стабильными отношениями, входящие в сплоченные группы и сообщества, гораздо лучше приспособлены к тому, чтобы делать разумный выбор, выносить суждения морального характера и быть свободными». Кимличка считает: «Культуры имеют ценность, но не внутри себя и сами по себе, а постольку, поскольку лишь благодаря доступу к общественной культуре люди приобретают доступ к спектру значимых мнений». Принадлежность к общей культуре, в особенности к такой, которая состоит из разнообразных субкультур, позволяет нам выносить «разумные суждения о том, как нам надлежит строить свою жизнь». Без тесно спаянных сообществ, по словам Уолцера, индивид испытывает радикальный «упадок „чувства действенности“»10.
Получается, что приверженцы либерализма тревоги отнюдь не смотрят свысока на индивидуализм шестидесятых; они подвергают сомнению его политическую социологию. В их представлении, общественный порядок на уровне нации, общей культуры, субкультуры, института, добровольной ассоциации или местного сообщества является грядкой, на которой вырастает личность. Он представляет собой глубинную грамматику индивидуализма, питательную почву, на которой личность узнает, кто она есть и во что она верит. Из сформулированных заранее моральных предписаний и социальных связей (это задается заранее, в противоположность тому, что личность выбирает) человек узнает, как выразить себя и свои потребности на понятном для общества языке. Когда личность усваивает названные предписания и связи, она обретает способность мыслить и действовать самостоятельно. Она более не нуждается в авторитетной структуре, которая направляла бы каждый ее шаг. Она делает собственные шаги, даже такие, которые противоречат тому, чего от нее ожидают, так как воистину плюралистический общественный порядок предлагает индивиду выбор из множества ролей: врач, юрист, христианин, мусульманин, демократ, республиканец… Он даже терпимо относится к усилиям личности по пересмотру ее роли или созданию новой11. Подобно родителям или учителям, лица, действующие на сцене общественного порядка, прибегают скорее к своим возможностям направлять, а не подавлять, с тем чтобы ученик или ребенок развился в разумного, автономного взрослого человека12.
Кроме того, либерализму тревоги свойственно и более мрачное, пессимистическое видение общественного порядка. Помня об аргументах, приводившихся всеми теоретиками, от Токвиля до франкфуртской школы[24]24
Франкфуртская школа в немецкой философии и социологии существовала в начале 1930–1970-х гг. В ее рамках была разработана критическая теория общества, в которой критический подход к буржуазной культуре сочетался с идеями диалектики Гегеля и психоанализом. Основные представители – Г. Маркузе, Э. Фромм, Ю. Хабермас.
[Закрыть] и Кристофера Лэша, приверженцы либерализма тревоги неявно представляют общественный порядок как необходимого антагониста личности. Общественный порядок, по их мнению, предъявляет к личности определенные требования; он требует от индивида подчинения, следования устанавливаемым им правилам. Эти ограничения часто становятся причиной появления более дерзкой, беспокойной личности, которая знает, во что она верит, и готова поставить на карту все, чтобы достичь своих целей, – Мартина Лютера и Анны Карениной, исторических и литературных бунтовщиков, которые заявляют: «На том стою и не могу иначе». Восставая против ограничений, личность определяет свои убеждения, формулирует свои принципы гораздо более резко, чем делала бы это под умиротворяющим присмотром исключительно снисходительного родителя. Предпосылка столь глубоко ощущаемой непримиримости – социальная структура, тяжелым бременем лежащая на личности. В отсутствие такой структуры протесты будут поверхностными и банальными, а свобода превратится в пустую видимость. Уолцер говорит: «Радикальная свобода – тонкая материя, если только она не попадает в мир, где имеется возможность значительного сопротивления». Далее он пишет, что «чем легче легкость» освобождения, тем слабее будет индивид. Или, как считает Галстон: «В числе различных образов жизни разумная предусмотрительность является намного более значимой (мне даже хочется сказать: она может быть только значимой), если значимыми являются ставки в игре; иными словами, если освободитель обладает мощными убеждениями, направленными против альтернативных притязаний, которые могут лечь на другую чашу весов»13.
Эти исследователи утверждают: решительное стремление к свободе и сопутствующий ему упадок общественного порядка питают тревогу и увечат личность. Кимличка пишет: «Превознесение „свободной индивидуальности“ приведет не к уверенному утверждению и не к следованию достойным, а скорее к экзистенциальной неуверенности и аномии, к сомнениям в значимости человеческой жизни вообще и в ее целях». И продолжает: «Самоопределение породило больше сомнений в ценности наших проектов, чем их существовало раньше». Оно разрушает индивидуальность и социальную близость, т. е. то, что нам нужно, чтобы стать полноценными индивидами14. А в результате, утверждает Уолцер, возникает индивидуальность «по большей части незаслуженная, лишенная глубины». Это соображение не вызывает ностальгии консервативного толка. Нет, оно побуждает нас извлекать пользу из перспективы появления полной индивидуальности и полновесной деятельности, что должны были нам принести шестидесятые годы. Если бы мы снова стали «участвовать в общей жизни», то могли бы стать свидетелями подлинного расцвета возможностей человека, так как люди «будут более сильными, более уверенными, более сообразительными», когда они «будут нести ответственность перед другими и за других»15.
В 1950-е годы, в период сходного политического отката, американские интеллектуалы сходным же образом реагировали на сворачивание «Нового курса» и разгул маккартизма. Как и современный либерализм тревоги, воззрения времен холодной войны восходят к Токвилю16. Интеллектуалы утверждали, что средний американец чувствует себя изолированным и отчужденным и величайшая угроза индивидуальной деятельности исходит от опасений перед приходом аномии. По словам Дэвида Рисмана, «текучая социальная структура порождает тревогу и замешательство». Выход не в возврате к прошлому, а в том, что Толкотт Парсонс называл «институционализованным индивидуализмом», призванным позиционировать индивида в рамках институтов. Парсонс уверенно утверждал, что «примат свободы и ответственности» требует «рамок нормативного порядка и коллективных организаций»17. В годы холодной войны интеллектуалы не видели в неподвижности 1950-х годов или в маккартизме продукты возрождения влияния Республиканской партии в Конгрессе, подавления активного рабочего движения или капитуляции либеральных демократов перед красным соблазном. Они полагали, что порождает тревогу и сковывает индивидуальную активность сохраняющаяся инерция либерализма. Ведь либерализм, по словам Лайонела Триллинга, был «в это время… не только доминирующей, но и вообще единственной интеллектуальной традицией» в Соединенных Штатах18.
Подобно другим реакциям на неудачи попыток эмансипации (вспоминаются также характеристика демократии, данная Токвилем после французской революции, и размышления Арендт об истощенности современной цивилизации после Второй мировой войны), либерализм тревоги – это глас подавленного бунта. Он несет обещание высвобождение способностей человека и разочарование от нарушения этого обещания. Но либерализм тревоги – это еще и реакция на мятежи 1960-х, а не признак их упадка, в силу того что он обладает своеобразным пониманием угроз для активности личности, пониманием, которое восходит к представленному Токвилем анализу тревоги. Если Гоббс видел четкий контур испуганной личности, которая устрашена угрозами со стороны внешних сил, которые расстраивают ее планы, то либерализм тревоги представляет собой слабую личность, имеющую почти неопределенные очертания. Эта слабая личность рождена не столько внешним насилием или угнетением, сколько троянским конем несвободы. Согласно этому пониманию слабость и тревожность этой личности вызвана как раз отсутствием внешней структуры и порядка, отсутствием принуждения и подавления. Что могло бы сделать эту личность сильной? Возрождение и укрепление объединяющих институтов, таких как церковь и семья; они могли бы снова оказать давление на индивида и побудить его вновь стать полноценной личностью.
Бунтари шестидесятых полагали, что личность есть активный деятель; что она знает свои интересы и убеждения и страстно им привержена. И в самом деле, знание и приверженность побуждали человека атаковать баррикады ограничений – систему Джима Кроу, семейные устои, Пентагон, поскольку он верил: эти преграды препятствуют достижению его целей. Если личность бездействует, то потому, что перед ней стоят барьеры. Брошенный им вызов означает риск и жертвы, что может повлечь потерю карьерных и иных перспектив, а в каких-то случаях – и самой жизни. Опасность пугает людей и порой приводит их к бездействию19. Таким образом, для появления страха требуется реальное присутствие двух субъектов: исполненной решимости личности и сил общественного порядка. Но либерализм тревоги осветил сознание убеждений и интересов личности как проблему, а силы общественного порядка превратил в неосязаемый эфир и обратил, таким образом, страх в тревогу. Поскольку приверженцы либерализма тревоги считают, что современной Америке недостает объединяющих институтов, то личность они представляют себе непрочным объектом, продуктом распада. С другой стороны, так как личность слаба, она не может участвовать в строительстве объединяющих институтов20. На место присутствия явилось отсутствие; на место страха пришла тревога.
Один из самых красноречивых симптомов поворота от страха к тревоге – ведущиеся на протяжении последних двух десятилетий дискуссии по проблеме идентичности. Поводы для этих дискуссий были самыми разными: тщательно спланированные споры на тему политкорректности, научные дебаты о национализме и этнической принадлежности, противопоставление политики признания политике распределения. Но используемая в этих дискуссиях терминология и лежащие в их основе постулаты остаются неизменными. По мнению многих участников дискуссий, наиболее животрепещущие политические вопросы относятся не к распределению властных полномочий или ресурсов и не к ожесточенной борьбе за равенство и экспроприацию. Нет, политика включает насущные вопросы групповой принадлежности и отчуждения (кто принадлежит сообществу, а кто нет, кто я и кто ты) и порождаемое этими вопросами неослабевающее беспокойство относительно границ личности и общества, группы и нации. Дэвид Миллер говорит об этом так: «Представляется, что не так важно, способствует государство развитию свободного рынка, выбирает плановую экономику или предпочитает что-то среднее. Более важно, где проходят границы государственного вмешательства, кто участвует в процессе и кто из него исключается, какой используется язык, какая религия поддерживается, какая культура процветает»21. Сейла Бенхабиб добавляет: «Обсуждение идентичности и различия – это политическая проблема, встающая перед демократиями в мировом масштабе». Она считает, что, в отличие от «борьбы за богатство, политическое влияние и доступ к ресурсам, которая характеризовала политику буржуазии и рабочего класса на протяжении XIX и первой половины xx веков», сегодня баталии ведутся о том, что Юрген Хабермас определил как «грамматику форм жизни». А вот формулировка Сэмюэла Хантингтона: «После холодной войны основные водоразделы между народами не носят идеологический, политический или экономический характер. Они лежат в сфере культур»22.








