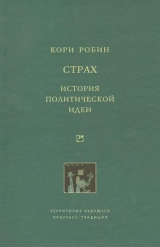
Текст книги "Страх. История политической идеи"
Автор книги: Робин Кори
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
Политическая программа американских консерваторов не менее революционна. С самого начала истории страны американцы видели в своих ценностях и институтах воплощение всеобщих надежд, которые рано или поздно докажут свою значимость далеко за пределами Соединенных Штатах. На Большой государственной печати, воспроизведенной на американском долларе, мы видим надпись novus ordo seclorum – «новый вековой порядок», т. е. выражение вовсе не консервативной тяги к потенциальным последствиям революционного характера. В этом представлении демократия, конституционное правление и основа их – права человека – пригодны не только для североамериканцев в силу их особых привязанностей и традиций, но для всех народов мира. Поэтому внешняя политика Соединенных Штатов может иметь какие угодно цели, но только не сохранение status quo 89.
И Фрэнсис Фукуяма делает следующий вывод: «Радикализм американской революции по-прежнему жив. Сегодня он выражается в стремлении США к созданию мировой экономики и в силовой внешней политике, направленной на организацию всего мира по американскому образцу»90. Сейчас, когда Советского Союза больше нет, когда тревога и террор вновь возродились в качестве основ политики, интеллектуалы, некогда отшатнувшиеся от утопизма большевистской революции, готовы поднять оружие более смертоносное, то, что Томас Пейн[31]31
Пейн (1737–1809) – американский просветитель радикального направления, участник войны за независимость и Французской революции.
[Закрыть] когда-то назвал «истоком всего человечества»91.
Часть 2
Страх по-американски
Мы видели, как современные теоретики и публицисты отделяют страх от общественных элит, идеологии, законодательства и институтов, тем самым затемняя его политические истоки и способы его использования. Мы видели, как авторы упускают из виду пути, которыми страх обеспечивает одной группе доминирование над другой, как он при помощи политического воздействия лишает управляемых возможностей осуществлять поиски счастья и столь часто вынуждает от них отказываться. Одна из причин подобного отклонения, как я показал, состоит в том, что страх часто служит фундаментом для интеллектуалов, нуждающихся в обосновании своей аргументации. В минуты сомнений в способности позитивных принципов быть стимулом для нравственного рассмотрения проблем или для политических акций страх видится идеальным источником политического восприятия и энергии. Но здесь можно увидеть и другую причину, в особенности в Соединенных Штатах. Сторонники и защитники общественной свободы нередко противопоставляют себя сторонникам авторитарного правления, порождающего страх. Как бы ни понимать либеральное общество, в нем граждане не испытывают постоянного страха перед верхами, в нем они не бывают вынуждены действовать так, чтобы их слова и поступки оказывались направлены в ущерб их же благу. В таком обществе власть не распределяется таким образом и методы принуждения не настолько доступны, чтобы порождать такого рода страх. Благодаря Конституции и плюрализму в обществе, как полагают многие интеллектуалы, Соединенные Штаты свободны от страха подобного рода. У нас может иметь место влияние элит, давление, т. е. то, что одни исследователи называют гегемонией, а другие – третьим лицом власти. Большинство может быть пассивным, а активным – меньшинство. Но у нас наблюдается мало проявлений запугивания, характерного для режимов старой Европы и все еще сковывающего очень многих в мире. Даже наиболее жесткие критики нашей системы признают за современной Америкой то положение вещей, которое Ч. Райт Миллс[32]32
Миллс Чарлз Райт (1916–1962) – американский социолог и публицист; считал метод К. Маркса плодотворным, но марксистскую теорию при этом устарелой.
[Закрыть] (которого иногда путают с его предшественником, жившим в XIX[33]33
Вероятно, имеется в виду английский философ, социолог и экономист Джон Стюарт Милль (1806–1873).
[Закрыть] веке) определял так: «Отношения одного человека с другим суть не отношения приказа и повиновения, а отношения межличностных соглашений. Решения каждого человека в отношении другого являются продуктами свободы и равенства». По словам Кристофера Лэша, Соединенные Штаты давным-давно обменяли «былой патернализм королей, духовенства, авторитарных отцов, рабовладельцев и землевладельцев» на «новый правящий класс администраторов, бюрократов, технократов и экспертов» путем привлечения их «некоторыми привилегиями, прежде ассоциировавшимися с правящим классом; это гордость своим положением, „привычка командовать“, пренебрежением к низшим». И этот новый класс по-прежнему управляет, но не при помощи «отношений личной зависимости». Нет, правящий класс опирается на «новые модели общественного контроля, которые рассматривают нарушителя как пациента и являются заменителями медицинской реабилитации после наказания»1.
В дальнейшем я намерен показать, что репрессивный – в политическом плане – страх присутствует в Соединенных Штатах в значительно большей степени, чем нам хотелось бы думать. Возможно, это страх перед угрозой физической безопасности или моральной удовлетворенности граждан, перед угрозой, в связи с которой элиты позиционируют себя в качестве защитников. Или же речь может идти о страхе власть имущих перед менее влиятельными слоями, и наоборот. А это два разных вида страха: первый объединяет нацию, второй раскалывает ее. При этом обе стороны служат подкреплением друг другу, элиты стригут купоны с комбинации этих двух сил. Коллективный страх перед опасностью отвлекает от взаимного страха элит и низших слоев или же дает последним дополнительные основания опасаться первых. «Протекция – это конец послушания», – писал Гоббс, имея в виду защиту общества от внешней агрессии и внутренней анархии, обеспечиваемую государством2. Но поскольку власть, позволяющая элитам защищать нас, связана с властью, предполагающей насилие над нами, наша потребность в первой часто провоцирует страх перед второй. Относится политический страх к первому типу или ко второму или он является продуктом некоей комбинации, он поддерживает и упрочивает правление элиты, склоняет низших подчиняться высшим, не протестовать против власти последних, а напротив, приспосабливаться к ней. Страх обеспечивает ситуацию, в которой власть остается в руках тех, у кого она находилась, а те, кто власти лишены, могут сделать немного (если вообще что-либо могут сделать), чтобы эту власть обрести.
Чтобы справиться с политическим страхом в Соединенных Штатах, мы обязаны осознать, что страх – это не бездумная эмоция, а рациональное, морально обоснованное чувство. Как я покажу в главе 6, политический страх отражает интересы и обоснованные суждения его носителей о собственном благе и является реакцией на опасности, реально существующие в мире, – нешуточную угрозу национальной безопасности и благосостоянию нации, угрозу угнетения со стороны власти элит и затаенный вызов этим элитам со стороны низов. Таким образом, политический страх действительно отражает этику и принципы людей; он сосредоточивает их внимание на одних опасностях, а не на других, и влияет на их реакцию на эти опасности. Политический страх влечет нечто большее, чем простую, проводимую сверху вниз политику, при которой верхи угрожают карательными санкциями или изобретают несуществующих врагов, дабы сохранить свою власть. Он продукт заговора, предполагающего интенсивные усилия участников, сотрудничество жертв и содействие со стороны наблюдателей, которые не предпринимают ничего, чтобы противостоять репрессивному давлению страха. В главе 7 я продемонстрирую, как эти основанные на страхе коалиции преодолевают механизмы, призванные устранять страх, – разделение властей, федерализм, главенство закона, а также плюралистическое гражданское общество, которое предоставляет носителям страха инструменты принуждения, зачастую недоступные правительственным органам. Многие примеры, приводимые в главах 6 и 7, взяты из эпохи маккартизма – не потому, что я полагаю, будто маккартизм до сих пор царит в обществе, а потому, что механизмы его действия сохраняются. Разбирая детали конфликтов, я рассчитываю показать, что политический страх есть результат не недоразумения или заблуждения, что он привычен и укоренен в нас, что страх – это проблема не только прошлого, но и настоящего. В главе 8 мы обратимся к современной американской деловой среде. Поскольку именно там, в области отношений принуждения между работодателем и сотрудником, сегодня в Соединенных Штатах мы с наибольшей очевидностью наблюдаем всепроникающий страх – и стойкость тех механизмов, которые служили причиной этой проблемы в прошлом.
Все эти элементы – рациональность и моральная обоснованность страха, сотрудничество элит, пособников, жертв и наблюдателей; раздробленное государство и плюралистическое гражданское общество, страх на рабочем месте – страх по-американски. Каждый элемент – свойство американского опыта, т. е. нашей децентрализованной политической культуры, конституционных ограничений, налагаемых на американское государство; многообразия и реваншизма наших элит, подвижной социальной структуры, предоставляющей людям самые разнообразные возможности для взаимодействия в рамках сложной системы под названием «страх по-американски». При том, что я употребляю определение «американский», отдельные элементы этой системы присутствуют везде, даже там, где у власти находятся самые одиозные режимы. Может показаться, что утверждение о том, что раздробленность государства, плюралистическое общество, рациональность или моральная обоснованность были присущи нацизму, сталинизму или множеству тираний, существующих в мире по сей день, противоречит здравому смыслу. Однако это так. Возможно, конкретная комбинация, именуемая «страх по-американски», представляет собой наш уникальный вклад в комбинацию мировых зол, но отдельные ее компоненты ни в коем случае не являются исключительной прерогативой Соединенных Штатов.
Одно предупреждение: если читатель станет искать в этих главах примеры насилия, подобного тому, что имело место в нацистской Германии или сталинской России, то таких примеров он не найдет. Хотя я буду говорить о насилии в отношении афроамериканцев, которые от рождения жили в самом прочном страхе перед любой социальной группой в Соединенных Штатах, хотя я привожу примеры политического насилия из опыта обществ более репрессивных, нежели наше, больше внимания я уделяю малому, ограниченному насилию. Меня интересует страх, стесняющий политический выбор, страх, который специалисты по конституционному праву и исследователи называют эффектом ужаса. А в Соединенных Штатах мы видим, как толика насилия порождает грандиозный страх. В этом один из тех парадоксов американской жизни, которые ставили в тупик всех наблюдателей – от Токвиля до Рихарда Хофштадтера и Луиса Хартца; как страна, где существует такое количество свобод, может порождать столь широко распространенное политическое сдерживание? Но там, где другие аналитики обращают внимание на беспокойство культурной среды по поводу ненадежной демократии, исходя из предположения, что отсутствие внешнего насилия означает конец политического подавления, я буду вести разговор о банальных проявлениях насилия в повседневной жизни. Такие акты не квалифицируются как грубое нарушение прав человека, но я намерен показать, что полномасштабная жестокость – не единственная причина возникновения политического страха. Человеческая жизнь оказывается отравленной не только страхом возможных личных страданий, им причиняемых, но и страхом репрессивных последствий. И этот отравляющий фактор в нашей жизни должен быть подавлен.
Если нам предстоит противостоять «страху по-американски», мы должны пересмотреть два основополагающие постулата. Во-первых, нам необходимо признать факт сращения американского либерализма и страха. Американский либерализм представляет собой обоюдоострый меч. С одной стороны, он обещает и порой создает сообщество свободных и равноправных мужчин и женщин; с другой стороны, он защищает систему постановлений, стоящих на страже раздробленного государства и плюрализм в обществе, т. е. факторов, которые неуклонно подрывают упомянутое обещание. Среди лучших достижений либерализма – освобождение рабов от личной несвободы, статуса граждан второго сорта, расовой сегрегации «а-ля Джим Кроу», предоставление женщинам избирательного права, а рабочим – права объединяться в профсоюзы. В общем, либерализм сделал американское общество более гуманным. Но поскольку либерализм с подозрением относится к централизованным, стабильным государствам, проявляет настороженность в отношении общественных движений и приверженность умеренности, он также способствует усилению страха. Вот что говорил в 1963 году Мартин Лютер Кинг: «Я почти пришел к плачевному заключению о том, что в неверности походки негра, который, спотыкаясь, продвигается к свободе, повинен не Совет белых граждан и не ку-клукс-клан, а умеренные белые, более приверженные „порядку“, нежели справедливости; те, кто предпочитает худой мир, состоящий в отсутствии напряженности, доброму миру, т. е. наличию справедливости; те, кто неустанно повторяет: „Я согласен с целями, которые вы преследуете, но не могу согласиться с вашими методами прямых действий“»3. Для окончательного расставания со «страхом по-американски» требуется более честная оценка противоречивого наследия либерализма и больший скептицизм в отношении наиболее ценимых либералами убеждений. Все это я говорю не для того, чтобы дискредитировать либерализм или отодвинуть его на обочину. Защита, которую он нам предоставляет, реальна и не может быть сброшена со счетов. Если я меньше говорю о предоставляемой гражданам защите, то лишь потому, что эта нива уже хорошо распахана, а мне не хотелось бы писать «книгу, из которой можно узнать, что сказано в других книгах»4. Рассуждения об этой двойственности американской жизни, где либерализм и страх столь тесно переплетены, не должны восприниматься как признак антилиберализма или антиамериканизма. Скорее это подобающий взгляд на нацию, пережившую не одно столетие конституционного правления, в особенности сейчас, когда Соединенные Штаты готовятся к очередной кампании, призванной освободить мир от страха. Стоит посмотреть, как себя чувствуют на своей родине институты, которые мы стремимся распространить по всему миру.
А во-вторых, мы должны избавиться от представления о том, что страх может стать фундаментом политической жизни. Такой взгляд не только побуждает нас закрывать глаза на каждодневные проявления политики страха; он, кроме того, не позволяет осуществить планы по освобождению нас от страха. Граждане редко оказываются готовыми противостоять страху только потому, что видят в нем зло. Не видя позитивной справедливости, какой-либо идеологически обоснованной надежды на радикальные перемены, они испытывают трудности, определяя страх как некое зло, которому необходимо противостоять, который необходимо подавлять. Когда Авраам Линкольн привел нацию к необходимости отмены рабства, он не говорил об отрицательных основаниях как о summum malum. Напротив, он обещал, что «все богатства, накопленные за двести пятьдесят лет неоплачиваемого невольничьего труда, будут утоплены», что «за каждую каплю крови, пролитую под плетью, будет заплачено другой каплей, пролитою мечом, и потому должно сказать: „Прав и праведен всякий приговор Господень“»5. Пусть Линкольн благословлял кровопролитие на языке религии, к которому мы сегодня не прибегаем; сегодня мы имеем дело с более светским, менее грозным лексиконом – лексиконом свободы и равенства, лексиконом, который используют Джон Ролс, Рональд Дворкин и Юрген Хабермас и который выполняет ту же функцию, что и язык Линкольна. Эти представления о позитивной справедливости не только побуждают нас представлять себе жизнь с намного меньшим уровнем страха и бороться за нее, но и определить, чего же мы опасаемся в первую очередь. Правильно заметил Майкл Уолцер: «Либерализм страха зависит от того, что нам следует назвать либерализмом надежды», так как «мы боимся тех вещей, которые мы научились ценить, того, чего мы достигли до сих пор, и того, что наши планы на будущее рухнут»6. Иными словами, впереди должна идти справедливость, а не страх.
6. Сентиментальные урокиРационально, морально обоснованная эмоция
Возможно, киносценарист, продюсер, режиссер Рой Хаггинс и не был самым талантливым человеком в Голливуде, но за свою карьеру в середине прошлого века он достиг некоторых успехов. В 1958 году он получил премию «Эмми» за «Мейврик»; позднее он выпустил на экраны «Беглеца» и «Рокфордские досье». Но помнить Хаггинса будут не за эти достижения. Он войдет в историю (если только это произойдет) благодаря тому, что в 1952 году предстал перед Комитетом по расследованию антиамериканской деятельности (HUAC). Будучи молодым сценаристом, он в 1930-х годах вступил в Коммунистическую партию, которая в то время была одной из немногих сил в политической жизни Америки, которые выступали против европейского фашизма. В 1939 году, после того как Сталин заключил с Гитлером пакт о ненападении, Хаггинс покинул ряды партии. Восемь лет спустя, когда HUAC начал кампанию по расследованию влияния коммунистов в Голливуде, студии объявили о том, что впредь не будут принимать на работу членов Коммунистической партии; более того, всех, кто отказываются сотрудничать с HUAC. Помня об этой и других санкциях, Хаггинс стал называть имена. Он назвал девятнадцать человек, хотя о некоторых умолчал перед Комитетом. Как заметил один обозреватель, Хаггинс счел более принципиальным «дать им имена, но не письма»1.
Почему же Хаггинс пошел на сотрудничество с HUAC? По его словам, потому, что ненавидел Советский Союз, а США воевали в Корее. Коммунистическая партия была союзницей врагов Америки, в некоторых случаях занималась шпионажем в их пользу, восхваляла Сталина и «Билль о правах». Но у Хаггинса имелись и другие соображения. У него была семья; даже если у него и были мысли о благородном спектакле – пойти в тюрьму, но не предать бывших товарищей (свидетели, отказывающиеся называть имена, могли быть обвинены в неуважении к Конгрессу и лишены свободы), – он задался вопросом: «Черт возьми, да кто же позаботится о моих двоих маленьких детях, о матери и о жене? Ведь все они полностью зависят от меня». К тому же Конгресс принял закон, который в обиходе получил название «билль о концентрационных лагерях», поддержанный Президентом Трумэном, – генеральный прокурор наделялся чрезвычайными полномочиями. Он получал право собирать подрывные элементы в определенных местах и удерживать их там2. Хаггинс спросил себя: хочу ли я попасть в концентрационный лагерь бог весть на сколько лет? «Меня объял несомненный ужас», – вспоминает он. Его решение о сотрудничестве «было вызвано нервным срывом». Дав показания, он сразу же пожалел об этом. Да, ему не нравился сталинизм, но едва ли он радовался и маккартизму3. Быть осведомителем ему также не по душе. Он говорил про себя: «Черт побери, когда пришел твой момент истины, ты должен был сказать: засуньте свои вопросы себе в задницы. А ты этого не сделал».
Как рассказывает Хаггинс, он решился сотрудничать с HUAC оттого, что боялся, а боялся он оттого, что видел перед собой реальную опасность. Таким образом, его страх был рационален, поскольку имел разумные основания. Вот только, утверждает Хаггинс, морально обоснован этот страх не был. Он был вне нравственности, он был невольной реакцией – «меня объял несомненный ужас» – на неодолимую силу. Однако последствия страха Хаггинса были аморальными, так как, по его собственному признанию, страх побудил его предать собственные убеждения. Его можно назвать жертвой или трусом, раздавленным или «человеком без свойств»[35]35
«Человек без свойств» – название романа австрийского писателя Роберта Музиля (1880–1942).
[Закрыть], но именно страх привел его к отречению – вынудил его отречься от своих принципов.
Многое в опыте Хаггинса – в ретроспективном взгляде на него – подтверждает рациональность его страха. Но можно ли его страх четко отделить от его же нравственных убеждений? В конце концов, согласие на дачу показаний HUAC не означало отказа Хаггинса от неприятия коммунизма. Оно также не означало его отказа от преданности Соединенным Штатам и принципам их безопасности. Возможно, его убеждения только усилили его страх перед HUAC. Хаггинс боялся нарушить свой долг перед государством. Неважно, было это страхом поступить неправильно, порожденный желанием поступать правильно5, или страхом перед внутренними терзаниями или внешним наказанием; ведь совсем другое ждало бы его в том случае, если бы он поступил неправильно. Хаггинс также считал, что если он бросит вызов HUAC, то позволит себе роскошь, которая нанесет ущерб Соединенным Штатам в атмосфере холодной войны6. Хаггинс боялся мощи государства, но он также боялся утраты этой мощи; последний род страха был вызван его приверженностью американской демократии и неприятием коммунизма. Поскольку страх Хаггинса перед возможным ослаблением государства укреплял его страх перед возможностью вызова этому государству, мы можем сказать, что его страх перед государством отчасти происходил из его убеждений, хотя он был далек от отказа от них7.
После событий 11 сентября мы наблюдаем подобное смешение страхов, где рациональность и нравственность укрепляют друг друга. Согласно исследованию, проведенному на средства Церковного благотворительного фонда, в период между сентябрем и декабрем 2001 года 74% американцев оценивали работу телевидения по освещению трагедии 11 сентября «полностью положительно» или «в основном положительно», а 7% – «в основном отрицательно» или «полностью отрицательно»8. Служащие компании признали, что ограничивали освещение событий, дабы не создалось впечатление, что они критикуют внешнюю политику США, причем они делали это не потому, что их вынуждало к тому государство, а потому, что боялись неблагоприятной реакции консервативной части населения, что могло привести к снижению рейтингов программ. Свидетельствует президент «Эм-эс-эн-би-си» Эрик Соренсон: «Любой ложный шаг – и у вас возникнут проблемы с этими ребятами. Патриотическая полиция возьмет ваш след»9. Но этот страх перед консервативной критикой вызван не только возможностью последней. Его сопровождает, укрепляет и порождает чистосердечное убеждение в законности такой критики и в необходимости поддерживать внешнюю политику США. Председатель совета директоров «Си-эн-эн» Уолтер Айзексон предписал своим сотрудникам сопровождать все репортажи о разрушении гражданских объектов в Афганистане, вызванных действиями американских военных, напоминаниями об ужасах 11 сентября и о связях между движением Талибан и «Аль-Каидой». Таким образом Айзексон засвидетельствовал взаимосвязь между рациональными и моральными основаниями формирования сетки вещания. Он откровенно признает: «Если идти вопреки общественному мнению, можно столкнуться с неприятностями». Но тут же он добавляет: «Было бы неправильно зацикливаться на бедствиях и трудностях в Афганистане». Все-таки не кто иной, как Талибан «несет ответственность за сегодняшнюю ситуацию в Афганистане» [10]. После того как президент «Эй-би-си ньюс» Дэвид Уэстин заявил, что не имеет определенного мнения, было ли оправданно определять Пентагон в качестве цели для вражеского удара, Раш Лимбо и другие подвергли его суровой критике, и он поспешно принес извинения. Согласно данным «Нью-Йорк таймс» «сотрудники „Эй-би-си ньюс“ полагают, что мистер Уэстин решил извиниться, потому что понял: его комментарий, прозвучавший в режиме „вопрос – ответ“, показался аудитории излишне холодным и даже неверным. Однако они также признают, что стремятся избежать ожесточенных нападок и отрицательной реакции со стороны общественного мнения»11. В этих случаях нам никогда не узнать, какой фактор был решающим – рациональный или моральный. Вероятнее всего они были равновелики, когда страх и капитуляция казались как рациональной, так и морально обоснованной реакцией на испытываемое давление12. Известный журналист Майкл Кинсли признается: «После 11 сентября я в качестве обозревателя и редактора в немалой степени подвергаю цензуре и себя, и других. Под „цензурой“ я подразумеваю решения не писать или не публиковать материалы, отнюдь не основываясь на моих личных оценках их достоинств. В чем же тогда причина моих решений? Иногда это было искреннее ощущение, что нормальный в обычных условиях комментарий не уместен в условиях экстраординарных. Иногда за моими решениями стояло честное уважение к чувствам читателей, чья оценка комментария могла быть именно такой, даже если сам я думал иначе. А иногда – элементарная трусость»13. Приведу слова репортера «Си-би-эс ньюс» Дэна Разера.
Это недостойное сравнение, и как вы сами понимаете, мне неприятно к нему прибегать, но вам известно, что было время, когда в Южной Африке люди надевали пылающие автомобильные шины на шеи несогласным. И наш страх в каком-то смысле предполагает, что у нас на шее может оказаться горящая шина, означающая недостаток патриотизма… Этот вот страх и мешает журналистам задавать самые жесткие из всех жестких вопросов.
Чувство патриотизма начинается у тебя внутри. А потом оно приносит тебе понимание, что вся страна – как единое целое – ощущает в себе (причем со всеми основаниями) этот подъем патриотизма. И тогда кто-то вдруг говорит: «Я знаю, какой вопрос нужно задать. Но знаете ли, не время задавать его сейчас»14.
Такое проявление страха свойственно не только либеральным демократиям; оно может родиться даже при господстве самых жестоких режимов. Рассмотрим в качестве примера Владимира Стерна, одного из основателей тайной полиции Чехословакии. Сын коммуниста, погибшего в застенках гестапо, Стерн всю жизнь был идеалистом, верил в коммунизм. После краха «пражской весны» в 1968 году он примкнул к наиболее радикальному крылу диссидентского движения. До 1954 года Стерн возглавлял одну из престижных академий тайной полиции, где обучал слушателей марксистско-ленинской философии, а также искусству обмана, пыток и убийства. Он знал, что учит своих студентов тому, что является предательством идеалов гуманного социализма, которые побудили его вступить в партию и войти в ее высшие эшелоны. Подобно Хаггинсу, он хранил молчание, так как боялся санкций, которые государство могло к нему применить. Но его страх перед государством был неотъемлем от преданности его интересам. «Возможно, я был трусом», – признает он. Но тут же добавляет: «Возможно, я полагал, что выступить вперед и сказать, что думаешь, будет шагом, который нанесет ущерб партии. Я искал оправданий для партии. Я состоял в ней, даже при том что происходили события, с которыми я не мог согласиться. Я не желал защищать политику убийств и пыток, но в целом система была правильной»15. Подобно Хаггинсу и американским средствам массовой информации, Стерн боялся встать в оппозицию к системе как таковой. Он боялся, потому что система заставляла его верить в ее легитимность.
Однако нравственные убеждения Хаггинса могли быть связаны со страхом и иным образом. Он сам говорит, что перед угрозой тюрьмы он опасался, что может пострадать его семья. Это соображение повлекло множество суждений нравственного характера. Он имел обязательства (в первую очередь перед своей семьей) преимущественно финансового характера, поскольку именно на нем лежала ответственность за ее экономическое благосостояние. Хаггинс не брал в расчет то, что его жена могла бы работать. Он также не рассудил, что мог бы собственным примером научить своих детей жертвовать личными интересами во имя свободы и не доносить на прежних друзей и товарищей. Так, когда режиссер Элайя Казан сказал своему коллеге Кермину Блумгардену, что подумывает о том, чтобы назвать кое-какие имена, поскольку «я должен думать о своих детях», Блумгарден сказал ему: «Это пройдет, и тогда в глазах своих детей ты останешься доносчиком. Подумай об этом»16. Блумгарден не сбрасывал со счетов обязательства перед семьей, просто он понимал их шире, нежели в чисто экономическом плане. Хаггинс подошел к делу иначе; он счел, что выбор тюрьмы было бы незрелым и безответственным решением. «Когда ты мечтаешь стать героем, то чувствуешь себя как слюнтяй. А есть ли у тебя право поступить так?»17 Напротив, страх перед тюрьмой представлялся разумным, морально обоснованным, даже возвышенным.
Безусловно, можно утверждать, что забота о семье была для Хаггинса лишь прикрытием его собственного страха перед тюрьмой. И все же семейные люди скорее склоняются перед репрессивными режимами, тогда как люди, не имеющие семьи, чаще остаются непокорными. Так, Сталин склонил многих людей к сотрудничеству с тиранией, прибегая к угрозам в отношении членов семей нужных ему людей, а с людьми, не имевшими семей, реже добивался успеха. В меморандуме 1947 года глава советской контрразведки рекомендовал своим сотрудникам при допросах использовать «семейные и личные связи» подозреваемых. Следователи выкладывали на стол личные вещи родственников допрашиваемых, а также копию указа, легализующего пытки в отношении детей18. Тот факт, что другие люди, оказавшись перед лицом более тяжкого наказания, избирали путь Хаггинса, доказывает, что забота о семье была не предлогом, но реальным фактором, способствующим страху19.
Возможно, впрочем, что советский опыт учит нас обратному: страх за семью диктуется не столько нравственными соображениями, сколько природной склонностью человека защищать своих. Но такая интерпретация исторических свидетельств была бы преувеличением. Прежде всего она не принимает во внимание тот факт, что люди не только склоняются перед угнетением из страха за свои семьи; они также предают свои семьи из страха за самих себя. Широко известно, как Дэвид Грингласс предал свою сестру Этель Розенберг. Сталин арестовал или уничтожил жен или родных четырех своих ближайших сподвижников, и только один из них[36]36
В. М. Молотов и М. И. Калинин восприняли аресты своих жен, а Л. М. Каганович – брата с покорностью; Г. К. Орджоникидзе пытался вступиться за своего брата Папулия.
[Закрыть] выступил с каким-то протестом20. Данная версия также не учитывает, что то, чего мы боимся, не просто приносит вред нашим близким, но навлекает на нас самих позор или ощущение вины, вызываемые нашим нарушением семейного долга. Именно этот страх стыда Критон[37]37
Критон – персонаж одноименного диалога Платона.
[Закрыть] приписывает Сократу, только в том случае речь идет о неповиновении государству.
Сократ, обвиненный афинским судом, готовится принять наказание и выпить цикуту. Критон советует ему преодолеть покорность перед приговором и обратить внимание на преданность семье и увезти ее с собой в изгнание. «Мне кажется, что ты предаешь и своих собственных сыновей, оставляя их на произвол судьбы, – говорит Критон, имея в виду решение Сократа принять смерть, – между тем как мог бы и прокормить и воспитать их; и это твоя вина, если они будут жить как придется». Критон заключает, выражаясь языком, который одобрил бы Хаггинс, хотя и не принял бы совета, что Сократ вообще поступает вне нравственности. Сократ, говорит Критон, просто хочет выступить в роли мученика, отрекаясь от своих действительных обязанностей перед семьей. «…Ты, мне кажется, выбираешь самое легкое; следует тебе выбирать то, что выбирает человек добросовестный и мужественный, особенно если говоришь, что всю жизнь заботишься о добродетели»21.








