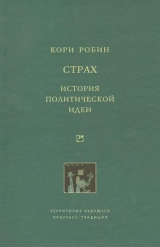
Текст книги "Страх. История политической идеи"
Автор книги: Робин Кори
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
Возлюбленная, я рыл твою могилу,
Чтоб спрятать кость
На случай, если буду голоден и рядом,
Идя дневной прогулкой.
Мне жаль, что я совсем забыл,
Что место здесь для отдыха твое.
Томас Харди
То, что Николая Бухарина всю его короткую карьеру преследовали герои из Ветхого Завета, было знаком его удачливости – и его ужасной участи. Один из самых молодых из «старых большевиков», Бухарин был, по словам Ленина, «любимцем всей партии». Экономист-диссидент и образованный критик, этот проказливый революционер всего пяти футов роста очаровал всех. Даже Сталина. Оба давали друг другу клички, общались семьями, летом Бухарин подолгу оставался в загородном доме Сталина. Бухарина настолько любили в партии, что прозвали «Вениамином»[13]13
Вениамин – младший любимый сын ветхозаветного патриарха Иакова.
[Закрыть] большевиков. Если Троцкий был Иосифом – ученым провидцем и мечтательным организатором, пробуждавшим своей надменностью зависть собратьев, Бухарин, несомненно, был любимцем семьи1.
Ненадолго. С конца 1920-х, когда Бухарин старался замедлить форсированный марш Сталина по русской деревне, начинается его падение. Изгнанный из партии в 1937 году и отданный на милость советской тайной полиции, в 1938 году во время показательного судебного процесса он признался в исключительной контрреволюционной преступной деятельности. Он был быстро расстрелян, одним из 328 618 официально казненных за этот год. Незадолго до своего убийства Бухарин привлек совсем другую библейскую параллель для описания своей судьбы. В письме Сталину Бухарин вспоминает о связывании Исаака, ни о чем не подозревающего сына, отец которого Авраам по божественному указанию готовит его к жертвоприношению.
В последнюю минуту ангел останавливает Авраама, объявляя: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня».[14]14
Быт. 22:12.
[Закрыть] Однако размышляя о своем собственном надвигающемся роке, Бухарин не представляет себе подобного божественного вмешательства: «Теперь, чтобы вырвать меч Авраама из его руки, никакого ангела не будет»2.
Ссылка на Библию с предлагаемым эквивалентом Сталина и Авраама, конечно, была неортодоксальной. Но из-за казни Бухарина она оказалась вполне подходящей, поскольку никакое другое преступление сталинских лет не притягивало западных интеллектуалов так, как кровавая жертва Бухарина. Дело было не только в том, что жертвой пал этот баловень коммунистического движения, «самый ценный и крупный теоретик партии» согласно Ленину3. Сталин, в конце концов, уже срубил более грозного Троцкого. Дело было в том, что Бухарин сознался в фантастических преступлениях, которые он не совершал. Для поколений интеллектуалов признание Бухарина символизировало разрушительное действие коммунизма и то, как он не только убивал своих любимейших сынов, но и призывал их к гибели. Как многим казалось, это действие предпринималось не для личности, но против нее, в интересах не персонального успеха, но самоуничтожения.
Превратив признание Бухарина в притчу коммунистического опыта, Артур Кёстлер в своей повести 1941 года «Слепящая тьма» популяризировал идею, позднее употребленную Морисом Мерло-Понти в «Гуманизме и терроре» и Жан-Люком Годаром в фильме 1997 года «Китаянка», о том, что Бухарин признал свою вину в качестве последней услуги партии. По его формулировке, не Сталин, но Бухарин был истинным Авраамом, благочестивым верующим, отдавшим своему ревнивому богу то, что было для него самым ценным.
Но там, где готовность Авраама совершить последнее жертвоприношение возбуждала постоянное восхищение (Кьеркегор считал его «рыцарем веры», готовым нарушить самые священные нормы ради своей фантастической преданности), жертва Бухарина спровоцировала практически всеобщий ужас4. Не только страх перед большевистским руководством и Сталиным, но перед самим Бухариным и всеми «правоверными», превратившими XX век в идеологическую пустыню. Моралисты могут прославлять известные эпизоды суицидальной жертвы, такие как штурм Омахи-бич величайшим поколением[15]15
Омаха-бич – пляж в Нормандии, где летом 1944 г. высадились войска антигитлеровской коалиции. В их числе представители величайшего поколения – 1911–1924 гг. рождения.
[Закрыть], но готовность Бухарина в этом мире расстаться с жизнью ради своей идеологии остается для многих окончательным утверждением современного самоунижения. Не потому, что жертва была жестокой и бессмысленной, даже не потому, что она совершалась по несправедливой причине или на основании лжи, но из-за бескорыстного фанатизма и политического идолопоклонства, безрассудного самопожертвования и умаления собственной личности, что якобы их вдохновляло. Коммунисты способствовали своему собственному уничтожению, поскольку они верили; они верили, потому что были вынуждены; и были вынуждены, так как были слабы. По словам Артура Шлезингера, коммунизм «наполняет пустые жизни» – даже в Соединенных Штатах, «с их квотой одиноких и разочарованных людей, жаждущих социального, интеллектуального и даже сексуального удовлетворения, которое они не могут получить в существующем обществе. Для этих людей партийная дисциплина не препятствие – это приманка. Подавляющее большинство в Америке, как и Европе, хочет, чтобы его наказывали». Или, как писал критик культуры Лесли Фидлер о Розенбергах после их казни, «их отношение ко всему, включая самих себя, было фальшивым». «Что еще могло в них умереть», как только они обратились к политике, «богохульно отвергнув свою человеческую природу?»5 Авраам верил в свою миссию и считался праведным человеком; коммунист верил в свою и был освобожден от общечеловеческих ограничений.
Как мы теперь знаем, признание Бухарина, как и многие другие признания сталинской эпохи, не было самоотречением, каким его представляли интеллектуалы. С 1930 по 1937 год Бухарин сопротивлялся изо всех сил самым нелепым обвинениям со стороны советского руководства. Еще в своем тайном выступлении в феврале 1937 года на Пленуме ЦК КПСС Бухарин настаивал: «Я протестую со всей силой моей души против обвинений в таких вещах, как предательство моей Родины, саботаже, терроризме и так далее». Он, в конце концов, сознался в этих преступлениях в публичном признании, переполненном оценками, подвергавших сомнению легитимность власти Сталина; но это произошло уже после длительного тюремного заключения, во время которого он подвергался жестоким допросам с угрозами его семье. У Бухарина была причина верить, что его признание сможет защитить его и его любимых. Покаявшихся советских лидеров иногда щадили; были случаи, когда Сталин вмешивался, чтобы оградить Бухарина от излишне дурного обращения. Угрозы членам семьи, кроме того, были одним из самых эффективных средств обеспечения гарантированного сотрудничества с советским режимом; на самом деле многие из тех, кто отказался сознаться в преступлениях, не имели детей. В таком случае вместо маниакальной самоликвидации признание Бухарина было стратегической попыткой защитить себя и свою семью, актом не бескорыстного фанатизма, но заинтересованной надежды6.
Но многими интеллектуалами того времени это просто не принималось в расчет. Для них первичным злом XX века было не убийство беспрецедентного размаха, но сдача ума и сердца. Читая великие обвинения советской катастрофы середины века «Слепящая тьма», «Несостоявшийся Бог», «1984», «Пленный разум», меньше поражаешься их оценками сталинских массовых убийств – за годы до того, как Солженицын обратил абстракцию ГУЛАГа в досье частных страданий, чем их ужасам уничтоженной индивидуальности, которой должен был стать новый советский человек. Андре Жид отмечал, что в каждом советском коллективе, который он посещал, «была та же уродливая обстановка, та же фотография Сталина и абсолютно ничего более – ни малейшего следа орнамента или личной принадлежности»7. (Писатели постоянно рассматривали коммунальные дома в Советском Союзе или Соединенных Штатах как свидетельство дегенерации левых. Фидлер, например, много значения придавал тому факту, что Розенберги жили в «меланхоличном блоке идентичных жилых помещений, казавшемся живым воплощением сталинизированного мелкобуржуазного ума – неподатливого, несгибаемого, строгого, стандартизированного, безнадежно самодовольного, лицемерного».)8 Намеренно искажая слова Сталина о том, что миллион смертей – всего лишь статистика, интеллектуалы пришли к выводу, что ГУЛАГ или Освенцим были просто символами более глубокого, более жуткого обесценивания личности. Даже в лагерях, писала Ханна Арендт, «не страдание, которого всегда было слишком много на земле, и не число жертв является предметом обсуждения». Подлинная проблема заключалась в том, что лагеря были «лабораториями, в которых тестировались изменения человеческой природы» и в которых во имя идеологии готовилась «трансформация человеческой природы»9.
Если мы и должны благодарить какого-либо мыслителя или быть обязанными ему своим скептицизмом за представление о том, что тоталитаризм был прежде всего вдохновленной идеологически атакой на целостность личности, то, несомненно, это Ханна Арендт. Немецкая эмигрантка еврейского происхождения, Арендт была не первой, кто делал подобные заявления о тоталитаризме10. Но прослеживая саморазрушение интеллектуала на фоне империалистических злоключений и резни в Африке, наблюдая слабеющую аристократию и развращенную буржуазию в Европе, раздробленные массовые общества по всему миру, Арендт привнесла в это представление весомость и историчность. С таким подбором героев – от Лоуренса Аравийского и Сесила Родса до Бенджамина Дизраэли и Марселя Пруста, взятых с европейского ландшафта, – «Истоки тоталитаризма» Арендт сделали невозможными утверждения о том, что нацизм или сталинизм были темными проявлениями немецкой земли и русской души или географическими случайностями, которые можно приписать прискорбным традициям какой-либо страны. Как гласил заголовок британского издания книги, тоталитаризм был «бременем нашего времени». Это продукт современности лишь отчасти: Арендт неоднократно старалась ослабить случайное вибрато оригинального названия и любила современность столь же, сколь и критиковала ее11, но была ее перманентным гостем.
Однако было бы ошибкой читать «Истоки тоталитаризма» лишь как простое описание тоталитарного опыта. Как это первой признала сама Арендт, она пришла в политическую критику воспитанной «в традиции немецкой философии», преподававшейся Хайдеггером и Ясперсом посреди рушащегося здания Веймарской республики12. Пробиваясь сквозь каменную кладку немецкого экзистенциализма и веймарского модернизма, Арендт сумела придать тоталитаризму его характерный облик, любопытную смесь нового и привычного, поразительного и самоочевидного. Точка зрения Арендт станет решающей и столь точной не из-за своей тонкости и уместности, но потому, что в ней были смешаны реальные составляющие сталинизма и нацизма и ведущие идеи современной мысли; как мы увидим, в большей степени не немецкая философия XX века, но понятия террора и тревоги, разработанные Монтескьё и Токвилем вслед за Гоббсом. Как признавалась в своих личных письмах Арендт, она обнаружила «инструменты отличия тоталитаризма от всех – даже самых тиранических – форм правления прошлого» в произведениях Монтескьё и Токвиля, чьи труды, которые она читала, работая над проектом «Истоков тоталитаризма», оказали на нее «большое влияние»13.
Но за десятилетие после издания «Истоков тоталитаризма» Арендт сменила курс. После путешествия в Израиль в 1961 году для репортажа о суде над Адольфом Эйхманом для Нью-Йоркера она написала «Эйхман в Иерусалиме», оказавшийся вовсе не репортажем, а полным пересмотром динамики политического страха14. Как «Персидские письма» Монтескьё или первая половина «О демократии в Америке» Токвиля, «Эйхман в Иерусалиме» представлял собой прямой вызов анализу страха, принесший его автору настоящее признание. Репортаж принес также взрыв возмущения, в основном сконцентрированного вокруг изображения Эйхмана, жестокой иронии автора и ее критики еврейских верхов во время холокоста. Но связанным с ними, хотя и не выраженным источником ярости была всеобщая враждебность по отношению к усилиям Арендт по пересмотру привычных канонов политического страха, поскольку в «Эйхмане» Арендт показала, что большая часть написанного Монтескьё и Токвилем (и ей самой) о политическом страхе была просто неверным, ошибочным дискурсом, служащим скорее политическим потребностям западных интеллектуалов, чем правде. Арендт дорого заплатила за свои старания. Она потеряла друзей, стала считаться предательницей еврейского народа, на открытых лекциях подвергалась травле15. Но потери того стоили, так как в «Эйхмане» Арендт удалось, по выражению Мэри Маккарти, «восхваление трансцендентности», подарившее людям образ мышления о страхе, достойный взрослых, а не детей16. То, что многие отвергли его, едва ли удивительно: мало кто после Гоббса умел подготовить читателей к чему-то действительно новому, что можно было найти в «Эйхмане в Иерусалиме». Сорок лет спустя мы все еще не готовы.
Об идеологиях и идиотизме
Если Гоббс надеялся создать мир, в котором люди боятся смерти больше всего остального, то он был бы чрезвычайно расстроен и крайне озадачен «Истоками тоталитаризма». Что он мог сделать людям, настолько приверженным политическим движениям вроде нацизма и большевизма, что, по словам Арендт, им не хватало «самой способности к опыту, даже если он был таким экстремальным, как пытка или страх смерти»?18
Гоббс был совсем не чужд идеологическим приключениям, но его идеологи были олицетворением индивидуальности, они увлекались идеями, которые их усиливали. Всегда готовые умереть за свою веру, они все же надеялись, что о них вспомнят как о мучениках за славное дело. Однако для Арендт идеология не была заявлением о намерениях; это было признание необратимо малой величиной. Людей привлекали большевизм и нацизм потому, утверждала она, что эти идеологии подтверждали их чувства собственной ничтожности. Вдохновленные идеологией, они счастливо шли к своей собственной смерти не как мученики за славное дело, но как бесславное подтверждение кровавой аксиомы. Гоббс, столько трудившийся ради ослабления гипертрофированного героизма своих современников, едва ли узнал этих идеологов, видевших в своей собственной смерти тривиальную хронику большей правды.
Что подтолкнуло Арендт в этом направлении, в сторону от Гоббса? Не криминальные щедроты XX века (она не уставала повторять, что не число убитых Гитлером и Сталиным отличало их режимы от более ранних тираний,19), но представление, унаследованное ею от своих предшественников, о слабой и восприимчивой личности. Между эпохой Гоббса и Арендт личность перенесла два удара – первый от Монтескьё, второй от Токвиля. Монтескьё никогда не размышлял о сокрушительных для души последствиях идеологии, но точно представлял себе сокрушенные души. Он был первым, кто заявил, полемизируя с Гоббсом, что страх, переосмысленный как террор, не расширяет, а уменьшает личность и что страх смерти не был выражением человеческой возможности, но безысходной конечности. Токвиль сохранил образ хрупкой личности Монтескьё, рассматривая его слабость как демократическое нововведение. В то время как Монтескьё думал, что зажатая личность была творением деспотического террора, Токвиль полагал, что она была продуктом современной демократии. Демократическому индивиду, согласно Токвилю, недоставало наполненной внутренней жизни и укрепленного периметра его аристократических предшественников. Слабый и незаметный, он был готов к покорности с самого начала. Столь сильна была убежденность Арендт в слабости современной личности, что, как мы увидим, она смогла применить его не только к жертвам террора, но еще более широко – к тем, кто практиковал его.
Объединив теорию деспотического террора Монтескьё и анализ тревоги масс Токвиля, Арендт сделала из нацизма и сталинизма впечатляющие триумфы антиполитического страха, который она назвала «тотальным террором» и который не мог «быть охвачен политическими категориями»20. Тотальный террор, по ее мнению, не был инструментом политического строя или орудием геноцида. Во всей третьей части «Истоков тоталитаризма», в которой Арендт обращается к проблеме тотального террора, напрасно искать систему в уничтожении целого народа. Тотальный террор, по Арендт, предназначался для избавления от психологического груза личности и для разрушения индивидуальной свободы и ответственности. Это была форма «радикального зла», которое стремилось искоренить не евреев или кулаков, но… условия существования человека. Если тоталитаризм Арендт создавал культ, то не из животной природы человека, но из традиции мысли, установленной Монтескьё, разработанной Токвилем, которая готовила нас к исчезновению личности практически с момента первого представления о личности.
Личность и толпа
Арендт начала свои рассуждения о тоталитаризме с пространного рассмотрения массы – первичного источника всех тоталитарных движений и режимов. Для Арендт масса в меньшей степени означала политическую группировку или социологическую категорию, чем патологическую ориентацию личности. Человек из масс, по Арендт, испытывает чувство «самоотверженности в том смысле, что сам он ничего не значит». Эта самоотверженность простиралась от самых высоких до самых низких интересов личности, от «потерянного интереса масс к их собственному благосостоянию», их «недостатку своекорыстия» и «явному ослаблению инстинкта самосохранения». Столь невелико было желание человека масс к самозащите (не говоря уже о достижениях), что любая «организация», к которой он принадлежал, «могла постоянно добиваться успеха в ликвидации индивидуальной идентичности»21. Как и ее индивидуальные члены, масса в целом лишена конкретных интересов и определенных целей. «Массы не сплочены осознанием общего интереса, и им не хватает специфической классовой характерности, которая выражается в установленных, определенных и достижимых целях. В отличие от других групп, масса решительно аполитична, она не вдохновляется общими интересами, не заинтересована в каких-то особых целях»22.
Что же при таком недостатке концентрированной политической воли делало массу мощным политическим топливом? Согласно Арендт это тревога отдельных членов массы, «пугающее чувство негативной солидарности» людей без корней и привязанностей. «Главной характеристикой человека масс, – пишет она, – является его одиночество и нехватка нормальных социальных отношений»23. «Хотя масса не принимала участие в политике, она обладала самобытной психологией, порожденной моральным упадком и отчужденностью Европы конца века»24. «Тоталитарные движения привлекли „совершенно неорганизованных“ людей, предоставляя психологическое решение страху одиночества. Требуя тотальной лояльности и абсолютного подчинения, тоталитарные движения сковали людей „железным обручем“, обеспечив их ощущением структуры и общей идентичности, которой у них не было, но которой они так страстно желали. Не оставляя возможности отделения или индивидуальности, эти движения – и тоталитарное государство, которое они помогали создать, – подавляли или пытались смягчить страх потерянности»25. Таким образом, Арендт сразу заявила о своей токвилианской ориентации. Именно Токвиль первым увидел в толпе источник современной тирании и утверждал, что первичным опытом массы скорее всего был не «страх» Гоббса, не «террор» Монтескьё (реакции на власть верхов), но тревога неукорененности. Как и Токвиль, Арендт полагала, что масса была основным двигателем современной тирании, а страх потерянности – ее топливом. Хотя она признавала тот факт, что такие тоталитарные правители, как Сталин, создали социальные условия такого страха и что другие тоталитарные режимы могли делать то же самое26. Но основополагающим вопросом ее аргументации было то, что тревога масс была результатом уже существовавшего морального разложения и что эта тревога породила движения в интересах тоталитарного террора.
Однако Арендт предложила три исправления к аргументации Токвиля. Во-первых, там, где Токвиль считал страх потерянности продуктом равенства, Арендт настаивала на том, что эта тревога не была связана с равенством. Хотя она и соглашалась с тем, что тревога масс нарастает в результате распада классовых структур, это отсутствие интегрирующих институтов, а не равенство само по себе сделало массы столь предрасположенными к чувствам отчуждения и одиночества27. Равенство могло породить совершенно разные формы политической и общественной организации, и было бы снобизмом утверждать, не говоря уже о простой фактической ошибке, что только современный демократ страдал от головокружения аномии28.
Во-вторых, концепция Арендт о беспочвенности и изоляции, которые она называла «избыточностью» и «одиночеством», была намного радикальней, чем у Токвиля. У него массы могут быть не привязаны к социуму и психологически нестабильны, но у их членов была работа, заработок и иждивенцы. Хотя опоры старого режима были снесены, его массы все еще были активным участником индустриализирующейся экономики. Но не так у Арендт. Ее массы страдали от унизительного отождествления с расходным материалом, от невозможности быть нужным даже в воспроизводстве повседневной жизни. В эпоху массовой промышленности рабочим-одиночкам доставалась в лучшем случае обезличенная работа на конвейере, в худшем – перманентная безработица. В то время как оторванность у Токвиля оставляла человека наедине с его работой, обеспечивая его «самой элементарной формой человеческой креативности, представляющей собой способность добавлять в общий мир что-то от себя», «ненужность» Арендт отнимала даже это, лишая людей любых «контактов с миром как с человеческим произведением»29. Ненужность вызывала чувство одиночества, «переживание отсутствия любых связей с этим миром, являющееся самым радикальным и ужасным для человека»30. Одиночество – это уже не изоляция, поскольку изолированный человек все еще работал и, таким образом, знал свою силу, мог оценивать устойчивость и реальность внешнего мира. А одинокая личность Арендт, лишенная работы и дружеских связей, не могла подтвердить правду того, существует ли она и личность ли она вообще31. Она страдала ужасной и странной формой самоотверженности – не альтруизмом былого, но экзистенциальной бессвязности старости32.
В конце концов Арендт опровергает заявление Токвиля о переходе масс от активности к пассивности. Несмотря на всю свою мягкотелую бесформенность, масса Токвиля была активной силой, единственной в революционном мире, при котором активность исчезает. То, как эта активная сила смогла усмирить саму себя и свое окружение, вызывало ужас Токвиля. Масса у Арендт, напротив, инертна; это безбрежное озеро затаившейся, ждущей выхода тревоги. Когда она была выпущена, то не привела к ужасному застою, описанному Токвилем в «О демократии в Америке». Вместо этого оказалось, что самобытное здание политики xx века, движение масс как сущность, как настаивала Арендт, без структуры (структура была отличительной чертой устойчивости), но только с направлением33.
Идеология
Особенно привлекательно в идеологии то, что она апеллирует к чувству одиночества и ненужности массы. Арендт утверждала, что люди не приходили к таким идеологиям, как антисемитизм и коммунизм, потому, что те предлагали притягательные идеалы нового мира (бесклассовое общество) или обещали конкретные выгоды (немецкие арийцы будут править миром). Скорее имел значение акт веры в идеологию, а не содержание самой идеологии. Суть не в том, что идеология говорила, но то, что она делала – освобождала массу от тревог. Как многие, кто пишут о массовой идеологии после нее – о фашизме или коммунизме, антиглобализме или воинствующем исламе, Арендт подходила к идеологии в меньшей степени как к набору специфических идей, чем как к необходимому для анализа состоянию ума, образу мысли, невосприимчивому к любому опыту, кроме сильной тревоги ее поборника34.
Согласно Арендт такие идеологии, как нацизм и коммунизм, представляли себе мир закономерного, безостановочного продвижения.
В предшествующих схемах космоса – религии, платонической философии, древнегреческой мифологии – законы, человеческие и божественные, представлялись опорами стабильности и постоянства посреди нескончаемого потока, навязывающими порядок миру под угрозой хаоса. Идеологи Арендт, напротив, представляли законы как естественные и исторические процессы непрерывного развития. Каждое отдельно взятое создание находится в поздней стадии упадка, готовясь к рождению нескольких новых, передовых форм жизни. При таком подходе мир оказывался в восходящей спирали эволюции, в которой все было не тем, чем оно было, но тем, чем оно становилось35. Поскольку становление означает не что иное, как смерть старых форм, все всегда умирает. Таким образом, там, где идеологов Гоббса привлекали усиливавшие их идеи, прославлявшие целостность человеческой личности и устойчивость ее изобретательности, идеологи Арендт были очарованы образом человеческого падения, идеями, сеявшими смерть, включая их собственную, не как необратимый или прискорбный жизненный факт, но как способ, образ жизни.
Тоталитарные идеологии, таким образом, не апеллировали к интересам своих последователей, их конкретным целям или частным нуждам. Наоборот, это идеологии, оказывающие пагубное влияние и продвигающие «полную потерю индивидуальных претензий и амбиции, перманентно уничтожающую индивидуальную сущность»36. Не боясь ни собственной смерти, ни гибели своей расы или класса, идеологи Арендт опасались отсутствия идеологии, и не потому, что их так притягивало к их определенному содержанию, но потому, что их так приятно успокаивали их горизонты. Действительно, когда идеологическое движение терпело поражение, преданность его сторонников немедленно испарялась; свободные от одной великой идеи, они были готовы к следующей. Покуда идеология заставляла мир вращаться, они ей следовали.
По иронии судьбы те самые идеологии, что разлагали мир до беспрестанного движения, также приносили личности ощущение прочности и связности. Идеологическая пропаганда «принесла массам разобщенных, неопределенных, нестабильных и бесполезных индивидов средства самоопределения и идентификации, не только восстанавливавшие чувство самоуважения, которое происходило от функции, которую они выполняли в обществе, но еще и создавала нечто вроде иллюзорной стабильности, делавшее из них лучших кандидатов на организацию»37. Идеология создала мир гармоничный, хотя и совершенно фиктивный. Она отыскала мнимый порядок посреди бесцельного хаоса, не навязанный порядок божественного либо человеческого правления, но безличный и неоспоримый порядок математики, в которой дважды два – четыре. Глухая к удивлению и непоследовательности повседневной жизни идеология приносила «логику смирительной рубахи», с которой люди обретали смысл в бессмысленном мире. В более традиционных обществах люди отличались силой здравого смысла и стандартного мышления, помогавшей ассимилировать случайность этого мира. Лишенная здравого смысла масса чувствовала себя вынужденной «обменять свободу, присущую человеческой способности мышления» на безжалостный конвейер логики38.
Не удивительно, как считает Арендт, что так много сталинских жертв с готовностью соглашались сознаться в преступлениях, которые они не совершали. Как настоящие люди массы, они решали, что лучше умереть, не затронув исходные предпосылки и логику идеологии, чем сопротивляться навязыванию ее фикций. Приводя страницу из «Слепящей тьмы», Арендт описала образ мысли, который предположительно вызывал у подобных Бухарину сходные признания. «Вы не можете сказать А, не сказав Б и В и так далее, до конца смертоносного алфавита… Принудительная сила аргумента такова: если вы отказываетесь, вы противоречите себе и через это противоречие делаете всю свою жизнь бессмысленной; сказанное А властвует над всей твоей жизнью логическими порождаемыми им последствиями Б и В»39. Единственными ресурсами, способными дать человеку возможность сопротивляться принуждению логики, были старые резервы Токвиля: «сильный характер, сопротивляющийся постоянным угрозам» и «большая вера в существование себе подобных – близких или друзей, или соседей»40 – другими словами, героический склад ума и тесные узы со своими близкими.
Тотальный террор
Хотя тоталитаризм имел массовые корни, его главным цветком был «тотальный террор», бывший особенно очевидным в лагерях, поскольку лишь в Освенциме и ГУЛАГе нацисты и большевики обладали достаточной властью для претворения своих безумных теорий. Анализируя эту трансформацию массовой тревоги в тотальный террор, Арендт оставила мир Токвиля и вступила в мир Монтескьё. Как и Монтескьё, Арендт полагала, что тотальный террор лишает свои жертвы накоплений цивилизации – интимности, разума, интересов, идентичности, известных под именами «гуманность» и «гуманизм». И как Монтескьё, она утверждала, что, уничтожив эти атрибуты человечности, тотальный террор низводил людей до оголенных, неприкрытых участков природы.
Или, выражаясь менее горячо, ликвидируя эти атрибуты, тотальный террор выпустил эти элементы природы, которые присутствуют в людях и которые цивилизация обычно сдерживает. Она утверждала, что в лагерях душа разрушалась «без физического уничтожения человека». Обитателей лагерей невозможно было «больше понимать психологически», поскольку они были «неодушевленными людьми», «пучком реакций», откликавшихся исключительно на физические угрозы. Они стали совершенно одинаковыми, предсказуемыми как сама природа, лишенными человеческой способности «начинать что-либо новое с помощью своих собственных ресурсов, чем-то, что нельзя объяснить, исходя из реакций на окружающую обстановку и на события». В результате непрекращающегося насилия «не остается ничего… кроме жутких марионеток с человеческими лицами, которые, как один, ведут себя подобно собакам в опытах Павлова и, как один, реагируют с отменной надежностью даже на пути к собственной смерти, только лишь реагируют»41. В то время как массы были чистой психологией, лагеря были чистой биологией.
Примечательным в проводимом Арендт анализе жертв лагерей было, однако, то, насколько близко он соответствовал ее представлению о массах вне лагеря. В лагерях у людей не было индивидуальности, идентичности. Люди во всем своем многообразии были превращены в человека (Mann) как вид. Исчезали не только люди, исчезала и память о них; их смерть была анонимна, как и их жизнь42. Каждый из этих элементов присущ и массовому обществу. Это как если бы жертвы лагерей пережили смерть лишь немногим болезненнее, чем смерть, перенесенную за пределами лагерей. «Истребление – пишет она в другом месте, – происходит с людьми, которые уже мертвы для всех подлинных целей»; именно так она представляла сломанные жизни массового общества. По этой причине, заключает она, «террор идеально подходит к ситуации этих вечно растущих масс»43.








