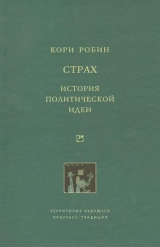
Текст книги "Страх. История политической идеи"
Автор книги: Робин Кори
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
Многие притворяются, что на них нацелены пушки, когда в действительности они – мишень театрального бинокля.
Бертольт Брехт
Только полвека отделяют смерть Монтескьё в 1755 году от рождения Токвиля в 1805 году, но в этот промежуток вооруженные революционеры привели трансатлантический мир в современность. Колонизаторы Нового Света оказались застрельщиками национального освобождения в Британской империи, лишив ее основного берегового плацдарма в Северной Америке.
Во Франции солдаты зажгли факел равенства, и Наполеон пронес его по всей Европе. Чернокожие якобинцы на Карибских островах осуществили первую успешную революцию рабов в Америке и объявили Гаити независимым государством. Век демократической революции, как его назовут позднее, стал очевидцем изменений границ, освобождения колоний, создания наций. Борьба пошла с идеологическим жаром, страстью и рвением, невиданными уже больше века; люди рисковали жизнью ради радикальных перспектив века Просвещения. Но больше, чем какое-то определенное достижение, этот революционный мир от его предшественника отличало новое ощущение времени и пространства1.
Монтескьё достиг зрелости на закате 72-летнего правления Людовика xiv. Спокойное и продолжительное правление Людовика оставило глубокий отпечаток на «Духе законов» – остановившегося времени, политики, движущейся ледяной поступью. Век демократической революции установил новый темп политической жизни. Во Франции якобинцы объявили о создании нового календаря, провозглашающего 1792 год первым годом. Они избавились от законов, носивших следы незапамятных времен. Они взяли новые имена, завели новые манеры и провозгласили новые идеи. Книги по истории еще отмечают ту необычайную плотность времени, когда приход и падение династий происходили в течение нескольких месяцев и лет вместо десятилетий и веков. Сообщают, что даже Кант с его маниакальной пунктуальностью не поспевал за ходом событий: утром 1789 года, когда он услышал о взятии Бастилии, он вышел на свою ежедневную прогулку раньше обычного2.
Политика не только ускорилась; она усложнилась, когда на сцену устремились любители, требуя признать себя независимыми политическими деятелями. До века демократической революции политическая жизнь была грациозным, но непростым танцевальным искусством короля и двора. Но внезапно низшие классы получили возможность делать, а не просто наблюдать историю. Согласно Томасу Пейни политика больше не была «собственностью какого-то определенного человека или семьи, но целого сообщества». С появлением плебейских новичков, соперничавших за пространство, «почва коллективной жизни», как отмечал Вордсворт, становилась «слишком горячей»3. И во время французской революции 1848 года даже самые либеральные из аристократов почувствовали себя зажатыми этим напором. Утром 24 февраля, как раз после начала парижских восстаний, уличные демонстранты столкнулись с Алексисом де Токвилем (в скором времени министром иностранных дел), во время его прогулки в палату депутатов.
Они окружили меня и с жадностью добивались от меня новостей; я сказал им, что мы получили все, что хотели, что правительство сменилось, что все злоупотребления, на которые были жалобы, будут искоренены, что единственная опасность для нас теперь остается в том, как бы народ не зашел слишком далеко, и что теперь они должны это предотвратить. Я вскоре понял, что такая картина им не по душе.
«Все это прекрасно, сэр, – сказали они. – Правительство само влипло в неприятности, пускай выпутывается, как умеет».
«…если Париж будет предан анархии, – сказал я, – а все королевство окажется в беспорядке, вы думаете, страдать будет только король?»4
Относилось «мы» Токвиля к его собеседникам на улице или к коллегам в палате депутатов? Оно означало популистскую фамильярность, которую отныне обретала высокая политика, т. е. политическую непосредственность, просто не мыслимую при старом режиме5.
Эти изменившиеся измерения времени и пространства совершенно трансформировали то, что Токвиль и по существу все его поколение и поколения после них думали о политическом страхе. Все это шло двумя путями: во-первых, в убеждении Токвиля, массы, а не индивид управляют событиями; во-вторых, в его переосмыслении страха Гоббса и террора Монтескьё как массовой тревоги. Токвиль полагал, что ошеломляющее появление столь многих необученных политических актеров делало невозможным для кого-либо в одиночку предприятие значительного политического действия.
«Мы живем в демократическое время, – отмечает он, – и демократическом обществе, в котором индивиды, даже величайшие, столь малы». А Мишле описывал положение индивида посреди масс так: «бедный и одинокий, окруженный необъятными объектами и затягивающими его огромными коллективными силами»6. Несмотря на все различия, правитель Гоббса и деспот Монтескьё были выдающимися фигурами, отбрасывающими тени на весь пейзаж. Массы затмевали такие фигуры, не позволяя никому, даже деспоту, поставить свою печать на мире. Там уже просто не было места. Для Токвиля масса значила больше, чем политическое скопление, – она угрожала распадом границам личности, не подавляя личность, как представлял Монтескьё, но сливая личность и общество в одно целое. В отличие от фронтисписа «Левиафана», на котором люди, составляющие силуэт правителя, настаивали на своей собственной форме, полотна революционной демократии изображали морщинистого увальня без явных человеческих черт или различимых членов. Настолько велика была ассимиляция каждой личности с массой, что не имело смысла говорить об индивидах. «Не следуя своей собственной природе», мрачно заключал Джон Стюарт Милль, люди потеряли «природу, которой можно следовать»7.
Новый политический темп века демократической революции, заявлял Токвиль, также породил новый тип страха. Когда все в мире менялось столь быстро, не растеряться было невозможно. Это замешательство и потеря контроля привели к растекающейся тревоге без определенного объекта. Жертвы Монтескьё пугались ощутимых угроз – наказания, пытки, тюрьмы, смерти. У Гоббса люди боялись специфических вещей – естественного состояния и репрессивного государства. Тревога граждан у Токвиля, напротив, не была сфокусирована на конкретном вреде. У них она была смутным предчувствием хода изменений и исчезновения привычных точек опоры. Не уверенные в очертаниях своего мира, они старались смешаться с массами, так как только в единстве они обретали чувство укоренённости, либо подчинялись всесильному репрессивному государству, которое восстанавливало ощущения авторитета и постоянства. В этом случае тревога была вызвана не устрашающей силой, каким был страх для Гоббса и террор для Монтескьё, а экзистенциальными условиями жизни современного человека. Тревога не была реакцией на репрессии государства; она к ним приводила.
В условиях, когда тревога масс побуждала к политической репрессии, когда низы заставляли действовать верхи, Токвиль полностью изменил политическое значение и функцию страха, сигнализируя о долговременном отходе от миров Гоббса и Монтескьё. Будучи переосмысленным как тревога, страх уже не воспринимался как инструмент власти; вместо этого он стал перманентным душевным состоянием масс. И когда, реагируя на эту тревогу, правительство действовало репрессивно, цель заключалась не в препятствовании потенциальным актам противодействия с помощью угнетения (Гоббс) или разгрома (Монтескьё), но в сплочении людей путем предоставления чувства постоянства и структуры, что освобождало их (по крайней мере временно) от мучительной тревоги. Таким образом, Токвиль делал еще один шаг в сторону от политического анализа страха, предложенного Гоббсом, и подготавливал сцену для Ханны Арендт, которая завершит этот путь.
Однако, как Монтескьё и до некоторой степени Гоббс, Токвиль предпринял эти шаги в сторону от политики для того, чтобы послужить ее целям. Как и Монтескьё, Токвиль верил, что может использовать образ тревоги для мобилизации людей во имя более благоприятного строя. Токвиль поддерживал правительство ограниченной и разделенной власти, энергичные объединения и политику активного участия в управлении государством, присущие демократии. В повседневной болтовне обыкновенных людей, в их совместных усилиях по постройке мостов, возведению школ и принятию законов Токвиль увидел замену потерянного единства старого режима. Таким образом, как Монтескьё и Гоббс, Токвиль обратился к форме страха как к негативному основанию для представляемого общественного строя. «Страх, – писал он в напоминание себе, – должен работать в интересах свободы»8.
От тирании большинства к одинокой толпе
Как и Монтескьё, Токвиль предложил два анализа политического страха в два особых момента времени. Оба анализа Токвиля нашли свое место в книге «О демократии в Америке», которая вышла в двух томах: первый в 1835, второй в 1840 году. В первом томе Токвиль определяет тревогу как политическую проблему, которая может быть решена политическими средствами. Тревога была политическим орудием тиранического большинства, получавшего свою силу от закона, идеологии и институтов и подвергавшего меньшинство инакомыслящих угрозе остракизма. Как отразить нападки этого тиранического большинства? Путем разделения и децентрализации политической власти, стимулируя местные и объединенные организации, которые предоставили бы меньше власти в распоряжение большинства и дали больше влияния инакомыслящим. В целом это было счастливой картинкой, но не действительной возможностью (если политическая власть становилась фрагментированной) достижения свободы и ослабления тревоги.
Но даже в первом томе анализ Токвиля содержал едкий подтекст: индивид подчиняется не из-за распределения власти, не из-за законов, идеологии и институтов, но потому, что он слишком слаб психологически, чтобы настаивать на своей свободе. Во втором томе это малодушие вылилось в целую культуру, стоящую вне политики и власти, почти вне надежды. С отчаянной эмоциональной потребностью быть частью чего-то демократическая личность не нуждалась в активном устрашении для подчинения: она была в панике в силу неспособности существовать самостоятельно, была готова без побуждения передать свою свободу в чужие руки. В то время как в первом томе законы, идеология и институты помогали создать культуру покоя, во втором преобладают более мрачные образы, в которых политические решения практически безоружны против предшествующей культуры одиночества. Второй том представлял собой нечто большее, чем простую смену фокуса. Это было полное неприятие первого, который Токвиль стал считать «искаженным, банальным и фальшивым», предложив вместо него «достоверную и оригинальную картину» современной жизни9.
Откуда такая резкая перемена за столь короткий период? Токвиль написал первый том на волне оптимизма – в момент, когда силы либеральной реформы, казалось, были готовы овладеть Францией. В конце 1820-х и в начале 1830-х Токвиль и его окружение утверждали, что Франция нуждалась в мире с революцией, чтобы построить подлинную либеральную демократию. Они настаивали на свободе печати, праве на собрания, на расширении права голоса и других мерах, связанных с гуманным либерализмом Бенжамена Констана, мадам де Сталь и Франсуа Гизо. Это была программа, которая, как надеялся Токвиль, защитила бы реформаторский дух революции без его жестоких побочных явлений10. Но этого не произошло. В конце 1830-х стало ясно, что многие консерваторы никогда не примирятся с революцией. Даже либеральные союзники Токвиля, принявшие управление в 1840 году, казалось, скорее напуганы возможной революцией среди рабочего класса Франции, чем привлечены перспективой реформы. Гизо, когда-то яркий выразитель либерализма, каким его представлял Токвиль, перешел на сторону реакции, заявив, что «то, чем вначале была демократия, теперь будет анархией» и что «демократический дух» был «не чем иным, как революционным духом». Токвиль чувствовал себя преданным и униженным такими людьми, многие из которых были его наставниками. «Они раздражают мои нервы своей моральной капризностью и своими поступками», – пишет он в 1838 году и позднее описывает их как «трусов, дрожащих при малейшем волнении человеческого сердца» и заботящихся лишь о том, чтобы «призрак социализма, мешавший их наслаждениям и угрожавший их будущему, исчез»11.
Токвиль писал второй том под сенью политического поражения, пропитавшего его анализ духом фатализма12. Рассмотрению непосредственных политических причин провала его программы – комбинации консервативной реакции и либеральной нерешительности – Токвиль предпочел гораздо более масштабное осуждение упадка демократии. Как он стал считать, важны не политика и институты, не элиты и их идеологии, но культура самой демократии, чаяния народа, людей, не восприимчивых к политическому действию. В 1853 он напишет:
Вы говорите, что институты – лишь половина моего предмета. Я иду дальше вас и говорю, что они даже не половина. Вы знаете мои идеи достаточно хорошо, чтобы понимать, что я согласен с тем, что институты имеют лишь второстепенное влияние на судьбу людей. Хотел бы я больше верить во всемогущество институтов! Я больше надеялся бы на наше будущее, так как однажды случайно мы можем натолкнуться на драгоценный кусок бумаги с рецептом от всех бед или на человека, знающего такой рецепт. Но, увы, такой вещи не существует, и я вполне убежден, что политические общества являются не тем, чем их сделали их законы, но тем, чем чувства, убеждения, идеи, привычки сердца и духа тех, кто их формирует, уготовили им стать, как и то, чем сделала их природа и образование13.
Какие бы усилия Токвиль ни предпринимал в первом томе для того, чтобы найти политические основы власти масс, он пришел к выводу, что современная тревога преодолевает любое политическое решение. Равенство, демократия, личность – все это артефакты культуры и психологии, но не политики. Они были андеграундом современной жизни, и до них не могло докопаться ни одно политическое вмешательство.
Тирания большинства
Путешествуя по Соединенным Штатам в течение 1831 и 1832 годов, делая заметки и готовя первый том «О демократии в Америке», Токвиль постоянно вспоминал о французской революции14. Революция не пожалела семью Токвиля, старую ветвь нормандской аристократии, берущей начало во времена Вильгельма Завоевателя. Дед Токвиля по материнской линии защищал Людовика XVI в Национальном конвенте и вместе с высокородным клиентом, был гильотинирован. Отец Токвиля, вначале симпатизировавший революции, вскоре стал испытывать к ней неприязнь. Он вступил в эмигрантский полк в Брюсселе и позже служил в военной гвардии Людовика XVI. Во время террора он и его жена были заключены в тюрьму, где его волосы поседели, а нервы расшатались. Ко времени отъезда в Соединенные Штаты двадцатишестилетний Алексис утратил большую часть семейной враждебности к революции15, но все же еще боялся народного большинства. Представители торговой и политической элиты, с которыми он беседовал во время своей поездки, лишь подтвердили его предчувствия. Это были старые озлобленные федералисты, приветствовавшие правление Эндрю Джексона[10]10
Джексон Эндрю (1767–1845) – 7-й Президент США (1829–1837).
[Закрыть] почти с таким же энтузиазмом, как семья Токвиля – Робеспьера. Даже если их свидетельство и было неубедительным, Токвиль принял их преувеличенное описание народных масс, управляющих судьбой страны, которое он назвал тиранией большинства16.
Тираническая масса, как полагал Токвиль, представляла новый тип политического животного, размахивающего новым орудием. Оно владело уже не «неуклюжим оружием из цепей и палачами»17, но оно бродило по стране, устанавливая унылое однообразие посредством чувств. Новым агентом страха стало большинство, правящее не посредством традиционных служб и средств государства, но при помощи механизмов народного мнения и коллективных верований.
Внутри большинства было невозможно назвать какого-либо лидера. Токвиль пишет: «Не удается найти никого, кто оказывал бы значительное или, что важнее, весьма продолжительное влияние на массы». Члены большинства не совещались между собой, обсуждая общие или более тонкие моменты своей идеологии. Вместо этого они обладали «принудительным согласием, которое проистекает из подобных же чувств и общих страстей». Не принимая каких-либо обоснованных, даже сознательных решений, не внимая совету или призыву лидеров, каждый трансформировался в целое, теряя всю особенность, которой он мог изначально обладать. Именно это абсолютное единство сделало большинство такой могущественной политической формой, поскольку когда «все вокруг тебя в движении, движущей силы нигде не видно». У большинства имелась и власть, но никто не знал, «где найти ее представителя»18.
Чтобы осознать новизну этой точки зрения, нам нужно лишь сравнить ее с теорией Гоббса. Гоббс полагал, что без лидера, говорящего от имени народа, последний был бы разрушен хаосом индивидов. Для того чтобы народ принял рациональную форму, кто-то должен быть уполномочен народом в качестве его представителя. «Множество людей – это Одна Личность, когда один человек, или одна Личность, их Представляет; это и должно быть сделано с согласием каждого из этого множества в отдельности. Так как именно Единство Представителя, не Единство Представленных, делает Одну Личность Единственной. И это Представитель несет Личность, и одну-единственную; а Единство не может быть иначе понято во множестве»19. Токвиль, напротив, полагал, что лидер не только не необходим для сплочения большинства, но большинство устраняло саму идею лидерства. Оно достигает единодушия без лидеров или какого-либо осознанного соглашения о подчинении большинству. Это отсутствие лидеров, обсуждений, обоснованного и осознанного договора – по сути отдельных индивидов – делает из большинства намного более коварную и угрожающую силу, чем тираны прошлого.
Хотя Токвиль не верил, что большинство появилось при помощи политических механизмов, он действительно считал, что основание его власти лежит в области политики. В представлении Токвиля, большинство могло принять свое превосходство потому, что демократические конституции предполагали более энергичные претензии на верховную власть, а также потому, что оно обладало моральной санкцией эгалитарных принципов20. Конституция США, как известно, открывается словами: «Мы, Народ». Александр Гамильтон утверждал в Федералисте 22: «Строение американской империи должно покоиться на надежном фундаменте народного согласия. Потоки власти должны течь непосредственно из чистого, настоящего фонтана легитимной власти»21. Эта комбинация конституционного замысла и политической идеологии превратила государство в автоматический инструмент большинства, затрудняя элитным элементам правительства – в исполнительной и судебной ветвях, в верхней палате законодательного органа – сопротивление его воле. Большинство независимо руководило своей программой, которую оно передало законодательным органам, а они затем возложили ее на все правительство. Токвиль пишет в одном из набросков «О демократии в Америке»: «Вся сила правительства вверена самому обществу… В Америке вся опасность исходит от народа; она никогда не рождается вне его»22. Там, где при старом режиме власть текла от государства к обществу, власть при демократии течет от общества к государству.
Поскольку основание власти большинства было политическим, такими же были и инструменты, применяемые им против инакомыслящих. Большинство угрожало инакомыслящим не физическим насилием или тюрьмой, но изоляцией, говоря тем, кто бросил ему вызов: «Ты чужой среди нас». Оно не лишало диссидентов их прав; при помощи остракизма оно делало эти права недействительными. В таких демократиях, как Соединенные Штаты, полагал Токвиль, осуществление власти зависит от сотрудничества одинаково мыслящих людей. Без возможности общения со своими согражданами инакомыслящий был политически ущербным, неспособным к достижению своих целей. «Ты можешь сохранять свои привилегии в пределах города, – заявило бы большинство диссиденту, – но они будут бесполезны для тебя, потому что если ты будешь просить голоса своих сограждан, они их тебе не дадут, и если ты даже просто будешь искать их уважения, они извинятся за свой отказ». Потенциальные союзники инакомыслящего прекрасно осознавали, что если они присоединятся к нему, то столкнутся с изоляцией и также станут ущербными, так что они держались на расстоянии от него23.
Описание Токвилем тиранического большинства, таким образом, отразило его сложные и неоднозначные эмоции по отношению к новой демократической эпохе. С одной стороны, у Токвиля было сильно преувеличенное мнение о всемогуществе большинства; он ошибочно предполагал, что политическая борьба между силами равноправия и элитизма закончилась и равноправие победило. Жертвами страха оказались не те, кто были внизу, но те, кто находились на вершине. Там, где инакомыслящие при старом режиме могли найти точку опоры («Ни один монарх не является настолько абсолютным, что может держать все силы общества в своих руках и подавлять всякое сопротивление»), найти ее при демократии инакомыслящие элиты не смогли24. Борьба против страха должна была вестись в интересах этого молчаливого меньшинства, которое, несмотря на свои богатства и общественное положение, воспринималось Токвилем как жертва безличного демократического джаггернаута[11]11
Джаггернаут – идея, которой слепо поклоняются. Джаггернаутова колесница – огромная колесница, на которой в Индии перевозили во время соответствующего праздника статую Кришны; у истово верующих был обычай кидаться под её колеса, чтобы расстаться с жизнью.
[Закрыть]. Если бы представление Токвиля о демократическом большинстве было менее воспламененным, он смог бы увидеть, что силы равноправия не так уж сильны или единодушны, как он полагал, и что элиты в Соединенных Штатах, и конечно, во Франции все еще обладали значительным влиянием.
Но его воображение было именно таким, и он не смог разглядеть истинные препятствия на пути к правлению большинства.
С другой стороны, придавая особое значение политическим источникам власти большинства (конституционной модели и идеологии) и политическим причинам, из-за которых инакомыслящие опасались бы гонений (угрозы безвластия), Токвиль предоставил довольно оптимистичную оценку возможностей для противостояния большинству. Если страх есть функция политики и власти, его можно сдержать удачными политическими решениями. Если бы централизация государства могла быть предотвращена, а гражданские ассоциации поощрялись бы, то достижение контроля над государственной властью большинством оказалось бы более проблематичным. Если бы элиты и гражданские институты (в особенности юристы и присяжные) окрепли, они обеспечили бы альтернативные источники власти, тем самым уменьшая опасность гонений, нависшую над инакомыслящими. Таким образом, даже если большинству удалось бы монополизировать государственную власть, децентрализация и политический плюрализм сделали бы эту монополию менее фатальной26.
Странная интерлюдия
Но описание Токвилем тирании большинства в первом томе на этом не заканчивается. В первом томе также содержится гневный портрет демократической личности, конформиста, капитулировавшего перед большинством не из-за того, что ему недоставало власти, а потому, что ему недоставало характера. При старом режиме аристократов поддерживало чувство личной чести, твердая уверенность в себе, придававшая «необычайную силу индивидуальному сопротивлению». Старые федералисты, возглавлявшие американскую революцию, во всем бывшие аристократами, обладали «своим собственным величием», «мужской прямотой и мужественной независимостью мышления». Это чувство чести и независимость были отчасти лишь продуктом еще больших ресурсов и силы, которой обладали эти люди, но это было у них в крови. Даже в демократическую эпоху оставшиеся представители аристократии, лишенной власти, верили в себя так, как демократы не верили и просто не могли верить. «Несмотря на свое бессилие», эти аристократы обладали «высокой идеей о своем индивидуальном достоинстве». Изолированные и изгнанные, они все еще были способны «сопротивляться давлению общественности»27.
Современный демократ, напротив, поглощен чувством слабости, не связанной ни с каким объективным недостатком власти. И столь глубоко это отсутствие уверенности в себе, что никто не скажет, когда этот «урожай слабости» «остановится»28. Демократу, от природы не склонному сопротивляться требованиям остальных, не нужно было угрожать гонениями для того, чтобы он соответствовал желаниям масс. В силу своего характера (или его отсутствия) он боялся сделать что-либо, что могло бы спровоцировать большинство. Власть большинства, таким образом, нависала, как влажный воздух, над демократической личностью. Без всякого побуждения или угрозы она перемалывала его верования. Настолько полной была готовность индивида подчиняться, что он постепенно утратил индивидуальные вкусы и мнения, которые могли бы ввести его в оппозицию большинству. Большинство «воздействует столько же на волю, сколько и на поведение и предотвращает одновременно и поступок, и желание его совершить». Большинство не нуждалось в формальной цензуре «вольных книг», поскольку ни у кого не было «искушения их написать». Либо, как позже напишет Токвиль, «это всевластное мнение в конце концов проникает в мысли даже тех, в чьих интересах бороться с ним; оно одновременно изменяет их взгляды и подчиняет их волю»29.
Токвиль представил это видение всеобщей повинности личности как прямой контраст с методами и нравами старого режима. При сопоставлении контроля за умами, осуществляемом большинством, старый режим покажется сдержанным, почти благожелательным; ведь короли и лорды прошлого стремились контролировать лишь тело, допуская потрясающую свободу ума. Большинство было менее жестоким, но осуществляло более детальный надзор. Оно «оставило в покое тело» и направилось «прямиком за душой»30. Задолго до опытов тоталитаризма XX века Токвиль предположил, что специфические пороки демократической личности приведут к миру, бесконечно более пугающему – не из-за роста жестокости или насилия, но из-за того, что очертания и границы личности окажутся размытыми.
Одинокая толпа
Второй том «О демократии в Америке» с его агрессивно неполитической концепцией тревоги характеризуют три крупных изменения в мышлении Токвиля. Во-первых, в предыдущем томе он рассматривал равенство как политический феномен одновременно как идеологическую доктрину и как политическую практику. До тех пор пока равенство относилось к материальным условиям жизни, те понимались как продукты политических событий и изменений. Эгалитарное «общественное государство» Америки, объяснял Токвиль, выросло из отмены права первородства (майората), появления идеологических доктрин народного суверенитета, а также всплеска движений в поддержку равноправия, сопровождавших американскую революцию31.
Но во втором томе Токвиль изображал равенство уже как простые материальные условия жизни людей, создающие среди них сходные вкусы и мнения. Он не объяснял, каким образом эти условия создавались; он лишь утверждал, что таинственный «усредняющий» процесс, проходивший вне политики, постепенно уничтожил экономические противоположности. По мере того как экономические условия жизни становились «более или менее сходными», индивидуальности растворялись, ощущения людей совпадали и они становились «как все»32.
Во-вторых, Токвиль предпринял новый анализ массовой власти. В то время как власть масс в первом томе основывалась на конституционности и политической идеологии, власть масс во втором томе проистекала из социоэкономического равенства и массовой психологии. Материальное единообразие побуждало людей не доверять друг другу как индивидуальности, но доверять массе. Эта вера в массы совсем не связана с идеологией или властью. Она возникала в результате внутреннего импульса, связанного с материальными условиями равенства. «Чем ближе люди к общему уровню единообразия», тем «с большей готовностью» они «верят массе». «Во времена равенства люди, столь похожие друг на друга, не доверяют другому, но эта же схожесть склоняет их оказывать практически неограниченное доверие суждениям публики.» Независимо от распределения власти при демократии, ее форм правления или политических доктрин это сочетание материального равенства и психологического импульса заставило людей вручить власть массе. «Как бы ни были организованы и взвешены силы внутри демократии, – пишет он, – человеку всегда будет трудно поверить в то, что масса отвергает, и исповедовать то, что она осуждает»34.
В итоге, как показывает структурная организация двух томов, взгляды Токвиля на взаимоотношения между политикой и культурой изменились. В первом томе Токвиль заявлял, что политика формирует культуру; во втором утверждал обратное. Во втором томе, обсудив культурные чувства в демократических обществах, Токвиль представил их политические последствия, заявляя: «Я не достигну в должной мере цели этой книги, если, указав на идеи и чувства, вызванные равенством, в заключение не обращу внимание на влияние, которое эти идеи и чувства могут оказать на управление человеческих обществ»35.
В первом томе Токвиля направляло интуитивное осознание того, что демократия стала следствием политического развития, создавшего крупнейшую культуру эгалитарного поведения и морали. Таким образом, он посвятил большую часть этого тома обсуждению законов, институтов и различных идеологий как катализаторов человеческих страстей и энергии. Во втором томе политическое развитие изображалось как неизбежный результат предшествовавшей культурной среды36.
Во втором томе приведены факты материального единообразия, психология демократической личности и более крупная культура, созданная психологией и объяснявшей феномен подчинения индивида массе. Но какая же психология заставляет демократа склоняться к подчинению? Согласно Токвилю это его постоянное и неизбежное чувство одиночества.
Это не было изгнанием, о котором Токвиль вспоминал в первом томе «О демократии в Америке». Эта новая изоляция не была наказанием, налагаемым на диссидентов; это была пресловутая тревога современности, которую Кьеркегор, Ницше, Зиммель, Тённис, Дюркгейм, Хайдеггер, Арендт и другие общественные теоретики ругали как пожизненное бремя постфеодальной эпохи.
Токвиль видел в одинокой толпе прямое противодействие экспрессивному сообществу старого режима. До современной эпохи (до революции, равноправия и секуляризма) люди были членами иерархичного общества. Они были связаны друг с другом тремя особыми связями, каждая из которых давала им глубокое и прочное чувство единения. Они были связаны горизонтально – с членами своего класса, что создавало среди них «малую родину». Они были связаны вертикально – с выше– и нижестоящими, что создавало отношения, основанные на обязательствах и долге патернализма. Они были связаны также во времени со своими предками и потомками. Индивиды могли чувствовать себя стесненными этими связями, но никогда – одинокими. И защита индивидов от одиночества, от предоставленности самим себе было лучшей чертой старого режима. «Люди, живущие в аристократическую эпоху, почти всегда сильно вовлечены во что-то вне самих себя»37.








