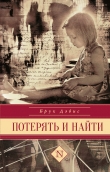Текст книги "He как у людей"
Автор книги: Ребекка Хардиман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
17
В пятницу в наступающих сумерках, перед приходом гостей, Милли забирается в гараж и обшаривает свои тайники в поисках курева. От кого она его там прячет и зачем, она и сама толком не знает. С Сильвией Милли тему курения не обсуждала: Сильвия все же американка, а значит, наверняка серьезно относится к канцерогенам. Скрывает Милли свой порок и от Кевина: она еще помнит этот бесконечный нудеж, которым он ее замучил после того, как сам бросил курить, а потом – после появления той опухоли, что так перепугала ее два года назад (безобразная шишка на подбородке – большущая, с грецкий орех, но доброкачественная).
Милли долго смотрит на шаткую стремянку, которая ей нужна, чтобы выковыривать мусор из водостоков раз в десять лет или около того (не платить же каждый раз по две сотни за такую ерунду), осторожно взбирается на верхнюю ступеньку и вслепую шарит рукой по заставленной всяким барахлом полке. Вечно она забывает, куда засунула сигареты, и вообще про все забывает. Однажды нашла целую пачку вместе с золотой зажигалкой в духовке. Что нужно иметь вместо мозгов, чтобы засунуть сигареты в плиту!
Милли нащупывает на стене выключатель, и тусклая лампочка освещает громоздящиеся повсюду кучи хлама: банки с давно загустевшим моторным маслом, остовы велосипедов, уже не первое десятилетие валяющиеся беспорядочной грудой на поду. Может, кто-нибудь из детей соседей Фицджеральдов захочет покататься? То, что цепи давно соскочили, а седла едва держатся на ржавых пеньках – все это Милли не смущает. С другой стороны, соседи несколько достали: день и ночь строители у них что-то долбят, сверлят, сооружают какую-то отвратительно-пафосную пристройку к дому. Но при всем при том – почему бы и не зайти к Лоре Фицджеральд и не спросить, не пригодятся ли ей велосипеды? Как-никак, а сэндвичи с ветчиной и маслом эта женщина готовит действительно превосходно.
Оставив без внимания предупреждение «Курильщики умирают молодыми», жирным шрифтом напечатанное на пачке сбоку (она уже старуха и курит, а все еще жива), Милли затягивается и тут же слышит шаги и голоса у входной двери. Рано ее гости явились к ужину. У Милли лишь смутное представление об истории Сильвии: она в курсе, что девушка недавно приехала в Ирландию со своим тогдашним парнем, барабанщиком из Айриштауна, чтобы сопровождать в турне его группу, и прихватила с собой племянника. Бойфренд оказался капризным занудой, группа в итоге распалась, а Сильвия и Шон остались, поскольку возвращаться им было особо некуда. С тех пор она так и подрабатывает то здесь, то там, пытаясь скопить немного денег и встать на ноги. Сильвия как-то упоминала об этом Шоне, сыне своей сестры, которая умерла совсем молодой. Парень он, судя по всему, спокойный, помощник в доме и не лишен творческой жилки, только чересчур уж замкнутый – должно быть, страдает от одиночества или по дому тоскует.
И тогда Милли – на волне внезапного вдохновения – пригласила в тот же день и Эйдин.
Шон невысок ростом, у него мягкие черты лица, аккуратные брови, пытливые, влажно блестящие глаза и оливково-бледное лицо – ничего общего с его белокожей тетушкой. Эйдин этот парень наверняка понравится. Со спутанными волосами, напоминающими заросли густой травы, вроде как у того ирландского парня-доходяги, которого обожает Эйдин, – именно таких ребят придирчиво отбирают циничные дельцы от шоу-бизнеса, чтобы они воплотили в себе все надежды и горести молодых. На нем клетчатая рубашка без двух пуговиц и темные джинсы с низкой посадкой, из-под которых выглядывает неоново-яркая резинка трусов.
Милли вглядывается в лицо Шона и замечает в нем какую-то потерянность. Он кивает и вежливо здоровается, но при этом смущенно разглядывает ковер в холле. Сильвия принесла с собой вино, и, пока она его открывает, Милли готовит юноше стакан сквоша, разбавляя апельсиновый сироп газировкой из своего старомодного сифона – у нее он всегда наготове, чтобы было чем угостить внуков.
– Вот молодец, что пришел, – говорит она. – Твоя мама говорила, что ты сейчас в школу не ходишь?
– Тетя, – мягко поправляет он. – Я сдаю экзамены на аттестат среднего образования. Это примерно то же самое, что школьный. Еще чуть-чуть осталось.
– Шон очень любит читать, – говорит Сильвия. – И книги все такие… серьезные.
– Я же не гражданин, – говорит Шон. – Меня здесь, наверное, никуда и не примут?
– Не примут? – переспрашивает Милли. – Ну что ж, все равно тебе ни к чему изучать ирландскую историю и язык. Какой от них прок? Давай-ка, расскажи мне что-нибудь. Какой-нибудь секрет.
Шон серьезно задумывается и говорит:
– Я атеист.
Милли хлопает в ладоши.
– И я тоже атеистка. А еще?
Шон улыбается.
– Ну ладно. Ненавижу, когда люди сюсюкают со своими собаками, как с младенцами.
– Ненавижу собак.
– Ну нет, – смеется он. – Собак ненавидеть не за что.
– Ты прав. Если они не злые, конечно.
– Они так любят людей. Просто хотят пообщаться.
– А какое у тебя любимое место в Дублине? Если я что-то знаю в этой жизни – а я почти ничего не знаю! – хихикает Милли, – так это мой Дублин.
По правде говоря, в последнее время она с немалым трудом ориентируется в своем Дублине – столько новых домов, торговых центров, бизнес-парков, столько строительных кранов, которые когда-то внушали надежду на будущее, а теперь застыли в воздухе над горизонтом города. Ни дать ни взять диорама с длинношеими динозаврами, мирно пасущимися на лужайке перед самым падением астероида.
Шон показывает рукой за окно – там, на северной стороне залива, на воде мерцающей подковой лежат отражения огней, до самого Хоута.
– Да хотя бы вот это – по-моему, совсем неплохо.
Милли радостно сияет.
– Я-то сама выросла здесь неподалеку, в Килли-ни. Не бывал там? Я тебе сейчас фотографию покажу. – Милли шарит на полках и показывает Шону фотографию в рамке. На самом деле это не тот дом, где она выросла – тот снесли много лет назад, чтобы освободить место для жилых многоэтажек, – но так похож, что кажется ей родным.
– Сильвия говорила, ты музыкант, – вспоминает Милли. – Правда?
– Ну, это у меня вроде…
– Моя внучка должна прийти с минуты на минуту. Она без ума от поп-музыки. В общем, как вы все, наверное. Подбрось-ка пару брикетиков, Шон, будь другом – огонь вот-вот погаснет.
Шон аккуратно, методично выкладывает три брикета пирамидкой, в промежутки втыкает вонючие палочки для растопки, и огонь мгновенно вспыхивает. Парень отрывается от своего занятия, когда в гостиную тихонько проскальзывает Эйдин. Она здоровается с американскими гостями, неловко обнимает Милли и отмахивается от ее неумеренно горячих поцелуев.
– Она и правда красавица, как вы и говорили, миссис Гогарти, – замечает Сильвия. – Правда ведь, Шон?
Шон, краснея, говорит: «Да, мэм», и все смеются. Он подхватывает щипцами тлеющие угольки, разлетевшиеся во все стороны, и снова бросает их в огонь, а затем смахивает метелкой грязь и золу на совок и кидает обратно в камин. Делать больше нечего, и он садится на единственный свободный стул рядом с Эйдин. Когда он потягивается, вскинув руки кверху, Милли замечает мелькнувшую полоску смуглого плоского живота и дорожку темных волос, непристойно спускающуюся от пупка.
– Я так рада, что ты пришла, – говорит Милли внучке. – Знаешь что? Шон любит музыку.
– О боже, – вырывается у Эйдин.
– Что же тут плохого? – жизнерадостно спрашивает Милли и переводит взгляд на Шона. – Ты знал, что твоя тетя обещала когда-нибудь засунуть меня в чемодан и провезти в Америку зайцем? Нет, вы только посмотрите – трое гостей в один день! Я всегда говорю: здесь или густо, или пусто, вот и доказательство, правда, Сил? То всю неделю ни души…
– Ну как же, – возражает Сильвия. – Кевин заходил…
– А сегодня и ты, и Шон, а теперь еще и Эйдин, – не останавливается Милли, уже чувствуя действие вина. – Расскажи что-нибудь сексуальное.
– Бабушка!
Милли оглядывает Эйдин с головы до ног. Каким-то непостижимым образом эта девочка, сидящая перед ней с красными щеками, еще сильнее похудела с тех пор, как поступила в Миллбери.
– Расскажи нам про свою новую школу.
– Дерьмо, – говорит Эйдин.
– Неужели?
Эйдин кивает.
– А кормят как?
– Дерьмово.
– Должно же там еще что-то быть, кроме дерьма, – говорит Милли, и Шон смеется. Ей определенно начинает нравиться Шон. – Что же вам там к чаю дают, интересно?
– Булочки с сосиской. Отвратные. Или тосты с бобами.
– Но кто же не любит тосты с бобами?
– Только не с такими, – отвечает Эйдин. – И тосты не такие.
– Бедный мой птенчик. Что ж, теперь ты здесь, а это главное.
– Так ты что, прямо живешь в этой школе? – Это первый вопрос, который Шон адресует непосредственно Эйдин. – В общей комнате?
– Ага, – говорит Эйдин. – Но только на неделе. На выходные приезжаю домой.
– Представляется что-то вроде казармы.
– Больше похоже на сумасшедший дом.
Шон усмехается.
– Что, правда?
– Ну, они там все какие-то… вот, например, одна девочка – по ночам на нее всегда накатывает тоска по дому. Это ужасно грустно. Она не хочет, чтобы кто-то заметил, и плачет так, потихоньку, в подушку. А мне ее жалко. А другой родители все время присылают деньги, дорогие подарки, вещи, но никогда не навещают. Домой берут только на Рождество и на летние каникулы. И она там с шести лет.
– Я практически разорена, – говорит между тем Милли. – Да, кстати, Сильвия, вы не видели, мне тут никакие чеки не приходили? Обычно в это время я получаю свои дивиденды.
– Да, была пара чеков. Я положила их на счет, в среду, кажется. Вот черт, я что, забыла вам квитанцию отдать?
– Чего не знаю, того не знаю. Да нет, наверняка отдавали. Неважно. Ужасно скучная тема, правда, Шон? Молодым людям ни к чему разговоры о деньгах.
Шон вежливо качает головой, а затем с улыбкой поворачивается к Эйдин.
– Так ты, значит, тоже любишь музыку?
18
Эйдин в самом радужном настроении летит на велосипеде от бабушкиного дома вдоль темнеющего Ирландского моря по непроглядно темной дороге – фонари вдоль нее попадаются только изредка, да и те светят паршиво. Свирепые порывы ветра обжигают щеки, уши, пальцы, но Эйдин этого почти не замечает, ей ничего не страшно. Вся дорога её! Свернув на боковую дорогу, она взвизгивает, хохочет, как сумасшедшая, и бросает педали – летит под уклон на полной скорости, а в ушах гремит «I’d Really Love to See You Tonight» в исполнении Чёткого. «Но теплый ветер разносит звезды, ах, как хочется видеть тебя». Интересно, сколько лет Шону? Семнадцать? Девятнадцать? Да какая разница. У него волосы как у рок-звезды. И кожаная куртка. Интересно, он уже занимался сексом? Представление о сексе у Эйдин, мягко говоря, туманное, хотя Бриджид во время полуночных бесед в «Фэйр» всякий раз упоминает какие-нибудь откровенные, неприятные подробности: обязательно зажми кончик презерватива, держи под рукой полотенце, приготовься – будет больно.
Впереди Эйдин видит старика, гуляющего с собакой, кричит, против своего обыкновения: «Привет!» и катит дальше. Вновь и вновь она проигрывает в воображении сцену, только что разыгравшуюся в бабушкиной гостиной. Теперь она будет это делать всю неделю, и молча, наедине с собой, и вслух, вместе с Бриджид в Миллберне: переживать заново, разбирать на детали, прокручивать в голове раз за разом.
Когда Сильвия с Милли ушли готовить ужин, Эйдин, ужасно смущенная, торопливо подошла к камину и стала перекладывать брикеты.
– Твоя бабушка – просто отпад, – сказал Шон.
– Это хорошо или плохо?
– Конечно, хорошо. Она такая прикольная, правда же? «Шон любит музыку!»
– В жизни не слышала худшей имитации ирландского акцента.
Шон рассмеялся и попробовал еще раз:
– «Сейчас бы в паб, да по ба-а-аночке!»
– Кончай! – Эйдин зажала руками уши, изображая протест. – Это ужас какой-то.
Он улыбнулся ей.
– Так какую музыку ты любишь?
– Ой, я обожаю Чёткого. Он лучший. Я его раза четыре живьем видела.
– Чёткий? – Шон отшатнулся и выставил обе ладони перед лицом, словно заслоняясь от какой-то инфекции. – Это такой длинный чувак с бородой, который типа перепевает чужие песни?
Если бы кто-то из окружения Эйдин позволил себе подобную реакцию (а такое случалось), она бы не полезла за словом в карман. Но Шон, кажется, просто дружески ее подначивал, и, разумеется, даже намек на резкость был бы тут совершенно неуместен.
– У него и свои песни есть, – проговорила Эйдин, глядя ему в лицо. Было почти больно, да просто немыслимо смотреть на этого юношу вот так прямо. У него такие одухотворенные глаза, такая восхитительная грива волос – гуще, чем у нее, и блестят сильнее. – Он классный, совсем не выделывается, к фанатам нормально относится.
– Да? Ну, клево. Так что же – каждый день Четкий двадцать четыре часа в сутки? И больше никакой музыки?
Эйдин тут же стало жаль, что ей нечего на это ответить.
– А ты что слушаешь?
– Я много чего люблю, разного. Сейчас вот на всякую старину подсел. Sonic Youth, Nirvana. Fugazi. Хочешь, запишу тебе плейлист?
Эйдин чувствовала, что этот разговор – первый в ее жизни разговор в таком духе – разом сделал ее жизнь ярче: как будто она до сих пор, сама того не замечая, слушала музыку только в одном наушнике, а стоило ей заговорить с этим парнем, как ожил и второй. Когда Шон вышел за своим телефоном, она с ожесточением потерла кончик носа, чтобы убрать жирный блеск, и взъерошила пальцами волосы. Услышав, что Шон возвращается, вытерла вспотевшие руки о джинсы – правда, они тут же снова стали влажными. Больше всего на свете она боялась, что он захочет взять ее за руку или дотронется до пальцев, хотя бы нечаянно, или еще что-нибудь – почувствует, что ладонь потная, и тут же пожалеет, что встретил ее. Больше всего на свете ей хотелось ему понравиться.
– Я тебе ссылки сброшу. – Это происходило наяву. – А если не понравится – ну что ж… – Шон покачал лохматой головой. – Тогда нашей дружбе конец.
Эйдин засмеялась. Они что, уже друзья? Они всего-то час назад познакомились.
Жил-был парень с глазами зелеными,
Говорил он словами мудреными.
Под попсу не танцует он…
Пусть меня поцелует он.
Этот парень с глазами зелеными!
Шон, не поднимая глаз (слава богу, иначе Эйдин могла бы и сознание потерять – у нее и так все лицо горело), спросил:
– Какой у тебя номер? И емейл?
Вспоминая об этом, Эйдин вновь издает ликующий крик, запрокинув голову к небу. Она крутит педали изо всех сил: скорее бы добраться до дома! Ее же просто разорвет, если она прямо сейчас не напишет Бриджид обо всем.
Дома Эйдин пытается сразу же проскользнуть наверх, минуя цепкие родительские лапы.
– Эйдин? – окликает папа из гостиной. – Можно тебя на пару слов?
– Я очень устала.
– Всего на минутку.
Эйдин со вздохом толкает дверь носком высокого ботинка и становится в дверном проеме.
– Извини, что так поздно пришла.
– Ты же знаешь, что тебе нельзя гулять. Ты наказана.
– И к бабушке нельзя? – она закатывает глаза.
– Нет, к бабушке можно, конечно. Но не рассчитывай, что в эти выходные будешь разгуливать где вздумается.
– Я знаю, но я ведь ни капли не выпила. Я все выбросила.
– Слушай, давай-ка… войди и сядь на минутку. Ты почти ничего не рассказала про школу. Как у тебя там дела?
Эйдин слышит сигнал телефона – пришло новое сообщение.
– Нормально. То есть я ее, конечно, ненавижу но. – А как бабушка?
– Хорошо.
– И все? Расскажи.
Эйдин упирает руку в бедро.
– Все нормально. Она почти все время разговаривала со своей помощницей.
– С Сильвией?
– Да.
– Кажется, они поладили?
– Да.
– Бабушке нравится Сильвия?
– Да.
Голосом робота отец повторяет:
– «Да. Да. Да. Да. Отключите провода».
– Папа, я устала. – Телефон снова звякает. Эйдин вытаскивает его из заднего кармана, вводит пароль – это чтобы Чума свой нос не совала – и видит на экране незнакомый номер и сообщение, от которого у нее замирает сердце: «Послал немного музыки. Только посмей сказать, что тебе не понравилось».
– По-моему, Сильвия – это то, что нужно, – говорит папа, даже не подозревающий о том, что ее жизнь только что изменилась навсегда. Взрослые вообще ни черта в жизни не понимают. – Кажется, твоя бабушка довольно быстро к ней привязалась, и слава богу. – Он усмехается. – Правда, она, судя по всему, еще не освоилась здесь с вождением.
То, что сообщение пришло так быстро, говорит о многом. Эйдин ужасно не терпится подняться наверх. При всем своем умении скрывать эмоции, она не в силах удержаться от улыбки, и отец с любопытством замечает это.
– Что такое?
– Ничего. – Эйдин выскакивает в коридор, пока отец не успел разглядеть, как она рада. Произносит нараспев: – Спокойной ночи! – и стремительно бросается вверх по лестнице, по пути даже буркнув «привет» сестре.
19
Разит от Кевина адски. Дома он от души плеснул и на шею, и на грудь, и теперь до него доходит, что реклама дешевого европейского одеколона, обещавшая превратить его из вонючего задрота в ухоженного джентльмена, оказалась сплошным надувательством. Хорошо еще, если этот запах хоть как-то замаскирует очевидные признаки волнения – под мышками уже слегка влажно, несмотря на ледяной холод. Далеко не идеально для первого подступа к адюльтеру. А Кевину как раз хочется, чтобы все было идеально.
Через час, если эта очередь в банке, черт бы ее побрал, все-таки начнет хоть немного двигаться, он будет сидеть напротив Роуз Берд в «Стране вечной юности», модном маленьком гастропабе на кривой, узкой, темной улочке к северу от реки – именно это местечко он выбрал для их первого тайного свидания. Втайне Кевина по-дурацки радует символичность этого названия. В детстве его зачаровывал миф об Оссиане и Ниам, тот, в котором Ниам уводит простодушного барда в Страну вечной юности – потусторонний мир, где царит молодость, красота и наслаждения. Молодость и красота – это, безусловно, по части Роуз, а он будет рад обеспечить наслаждения. Трах-тара-рах! С тех пор, как ввязался в этот флирт, он чувствует себя прямо-таки подростком. Только не подумайте, это даже рядом не лежало с его ухаживанием за Грейс, которое, представьте себе, началось в университетской библиотеке, а вовсе не в пабе, не на дискотеке или студенческой пьянке. Кевин подрабатывал, раскладывая книги по полкам, а Грейс вечно сидела за столом у окна, часами зубрила перед экзаменами, и ее круглые, как у Джона Леннона, очки мило сползали вниз по переносице. Он не сразу разглядел ее красоту – блестящие темные глаза, легкая россыпь веснушек на высоких скулах, смоляные волосы, тогда еще гораздо более длинные, – но, разглядев, начал засматриваться, подглядывая тайком, что она читает (неизменно учебники по истории). Он пытался заговаривать с ней – бесполезно! Это ему понравилось, появился азарт. Однажды, дождавшись, когда она отойдет от стола, он заложил между листами ее книги стихи. Никакой лирики – это было выбранное в результате долгих поисков стихотворение озлобленного на весь мир британского поэта-алкоголика о разбитом сердце. Под стихами он подписал: «Если не пойдешь со мной выпить, закончу как он».
Кевин постукивает дебетовой картой по бумажнику и проверяет сообщения на мобильном. Нет, ну как так – понедельник, время обеденное, а работает только один кассир! Эти люди просто крадут у Кевина его драгоценные минуты, и это так бесит, что он старается об этом не думать. Срываться сейчас никак нельзя. Не картой же в пабе расплачиваться. С тех пор, как его уволили с работы, Грейс стала тщательнее проверять счета, все больше убеждая себя, что они на волосок от разорения, что между Долки и нищетой всего один чек зарплаты – и, в сущности, она хоть и не вполне права, но и не так уж далека от истины.
Кевина преследует иррациональное чувство, что, стоит ему опоздать хотя бы на минуту, Роуз исчезнет, и эта мысль для него невыносима. Неожиданно сильное искушение вступает в противоречие с моральными принципами, которых он до сих пор в достойной степени придерживался, и с давним, местами слегка растяжимым, но все же достаточно твердым кодексом чести. Сегодня, например, он запретил себе заказывать вино. Иначе бокал мюскаде за обедом потянет за собой и другой, и третий, и в конце концов лишит его остатков здравого рассудка и воли, которые, может быть, к тому времени останутся последней соломинкой, последним оплотом его сомнительной моральной стойкости. Он ведь себя знает. Стоит только Рози Б. бросить на него «тот самый» взгляд – и он, если будет хоть самую чуточку пьян, тут же кинется искать подходящую кровать, заднее сиденье, стену, а на худой конец сгодится и ствол гигантского дуба в Стивенс-Грин.
Самая большая неожиданность, открывшаяся ему во всех этих грязных играх, – это его природный талант ко лжи. Оказывается, он мастер хитрить, а ведь у него никогда не было необходимости оттачивать этот навык, даже в школьные годы: мама была занята в основном мужем и его долгой, прогрессирующей болезнью. Вот и это свидание Кевин не случайно назначил именно на сегодня: он знал, что жена весь день будет на совещании в Лимерике, а после совещания ее ожидает ужин с ректором ведущего городского университета. То, что она до сих пор не почувствовала некоторого охлаждения, некоторой скрытности со стороны Кевина, только укрепляет его в убеждении: они на разных волнах, она утратила чувства к нему. В конце концов, они уже так давно вместе, что умеют угадывать значение любого притворного вздоха или случайно оброненного слова – все это так просто и предсказуемо, что расшифровать ничего не стоит. Им и разговаривать-то почти не нужно. Приподнятая бровь означает надменное: «Чепуха». А когда от тебя отодвигаются к прикроватной лампе, в переводе это будет звучать так: «Отвали. Ты меня больше не привлекаешь».
Может быть, так проще, спокойнее – когда каждый живет своей отдельной жизнью, идя по пути наименьшего сопротивления? Грейс приходит домой, сбрасывает ботинки, роняет сумку на пол в коридоре и сухо, деловито спрашивает, как дети. Если никто не ранен, крови нет, трупов нет – остальное ей неинтересно. Накапливающиеся за день обиды и горести в отсутствие взрослых собеседников приходится таскать в себе все долгое утро и потом целый день до вечера, и вечером Кевину не терпится поведать о них в мельчайших подробностях, но чаще всего они так и остаются невысказанными. Грейс ничего не замечает или, может быть, делает вид. Видимо, сама она не чувствует потребности делиться мелкими заботами своего трудного дня. Она (если не успела поужинать раньше) молча съедает ужин, который Кевин оставил для нее в духовке, чтобы не остыл, и наливает себе полный бокал. Она так измучена долгими часами совещаний, что у нее едва хватает сил стянуть чулки и рухнуть на диван перед зомбоящиком.
Но это все ему давно знакомо. Чего он не знает, так это того, как Роуз проводит свои вечера. Почему-то ему представляется, как она поедает мидии с чесноком и лингвини в роскошной квартире с фигурными полками, заставленными всяким барахлом, или с закрытыми глазами играет Сати на своем детском пианино, и тут ее короткий шелковый халатик распахивается…
Он бы не опоздал, если бы не Киран – тот только что позвонил из школы, срочно понадобились кроссовки для физкультуры. Он любит детей, но их потрясающее умение без всякого злого умысла уничтожать любое удовольствие, любую отдушину в его жизни, от попытки вздремнуть после обеда до теннисного матча или назначенного свидания, просто убивает – ну правда, это совсем не смешно. Кевин, тихонько чертыхаясь, бросает взгляд на электронное табло настенных часов, чтобы сверить по ним свои наручные, и вдруг видит, что перед окошечком кассира стоит Сильвия – как ее там… в общем, помощница его матери.
Сильвия проталкивает бланк под стеклянную перегородку и несколько раз громко повторяет: «Снять деньги», словно она где-нибудь в Хорватии или в Португалии, а не в англоговорящей стране. Наконец кассир отсчитывает стопку банкнот, и Сильвия в своих розовых сапогах из крокодиловой кожи разворачивается и идет по направлению к Кевину.
Кевину не до светских бесед: он впадает в панику – как будто Сильвия может догадаться по его лицу, куда он собрался. Он отворачивается и утыкается в экран телефона, чувствуя легкие угрызения совести. Надо бы, конечно, поздороваться и спросить о маме. Вот тебе и кодекс чести! Любой, кто способен терпеть Милли Гогарти изо дня в день, заслуживает как минимум приветствия. Но мысль о том, что он только что стал на шаг ближе к своим деньгам и, следовательно, к свиданию, возвращает его к мечтам о Роуз Берд. Он воспроизводит в памяти момент, когда она непринужденно нацарапала свой номер на информационном пакете Эйдин и сказала, совершенно не административным тоном, что, если возникнут вопросы, он может сразу обращаться к ней – «с любыми вопросами».
Он выводит на экран скриншоты их короткой головокружительной переписки – сами сообщения он благоразумно удалил, хотя они так или иначе уже выжжены в его похотливом мозгу.
«Не хочешь пообедать?»
«Кто это?»
«Хм».
«Попался! Привет, Кевин».
«Кевин с горя пошел топиться в море. Позвоните ему попозже».
«А что за обед?»
«Платонический обед. Ты мне расскажешь о своем ужасном детстве и несбывшихся мечтах, а я не расскажу тебе о том, чего я хочу».
«Это как-то не очень платонически».
– Кевин? – Сильвия стоит перед ним и машет рукой. – Приветик.
Кевин изображает легкое удивление.
– Сильвия? Как поживаете? А мама тоже здесь? Про себя он думает: «О боже, надеюсь, надеюсь, нет. Не хватало мне сейчас старушкиных фокусов – ограбления банка или притворного инсульта на прогулке».
– Она дома, а мне нужно было быстро сбегать по делам.
– Отлично. Значит, все идет хорошо? Машину отремонтировали?
– Угу. Правда, я теперь не знаю, стоит ли мне садиться за руль, – смеется Сильвия.
Кевин вежливо посмеивается в ответ, поскольку очередь сдвинулась с места, делает шаг вперед и говорит:
– Уж лучше вы, чем мама. Можете мне поверить.
Послерождественские распродажи в полном разгаре, словно еще мало барахла вся страна за последние недели надарила и наполучала в подарок, и в городе не протолкнуться. Кевин лезет в карман куртки за мятной пастилкой или жевательной резинкой – он уже приближается к пункту назначения, где свежее дыхание будет необходимо как никогда, – но рука натыкается на что-то твердое, гладкое, прямоугольное, и он догадывается, что это: его айпод – потерянный и найденный. Это Грейс подарила в прошлом году, заботливо загрузив туда его любимые композиции классического рока. Подарок был из тех, при виде которых вспоминаешь, что вот этот человек, сидящий напротив, – свой, близкий.
Еще не поздно вернуться на стоянку и сесть в свой минивэн. Можно поехать домой. Купить стейки, бутылку приличного вина, разжечь огонь, разогнать детей и поговорить, как раньше. Вместе строить планы на будущее: скажем, съездить отдохнуть в Таиланд или купить запущенный дом в деревне и отремонтировать. Можно вернуться домой, к жене.
Вместо этого Кевин засовывает наушники поглубже в уши, долго жмет на кнопку питания, и, как ни удивительно, айпод оживает. Давно уже, с тех самых пор, когда он с ревом гонял по городу на мотоцикле в кожаной куртке со здоровенным неуклюжим плеером в кармане, Кевин не чувствовал этой удивительной радости, которую дает громыхающий рок в наушниках – когда летишь по дороге, а случайные прохожие даже не подозревают, что мимо них мчится звезда своего собственного фильма под свой собственный саундтрек. Это похоже на стремительный удар каратэ. Он проматывает «Creedence» Клэптона и The Doors, которых на самом деле терпеть не может (это Грейс с чего-то решила, будто он их фанат, а у него не хватило духу удалить записи), и выбирает самую крутую песню из всех возможных: зеппелиновскую «The Ocean».
Музыка взрывается в ушах, оттесняя на задворки сознания, по крайней мере на время, тот факт, что он уже подошел к краю чего-то жуткого и опасного для тех, кого он любит больше всего на свете. Слова песни словно обращены прямо к нему. «Нет времени на сборы – мне пора в путь: я должен прибыть вовремя на праздник великих надежд…» Кевину хочется орать и трясти головой вместе с Робертом Плантом, но он сдерживается и лишь тихонько, как солидный зрелый мужчина, шевелит губами.
На повороте моста, когда музыка достигает крещендо, превращаясь в восхитительный рев, Кевин вдруг осознает: может быть, это одна из редких прекрасных минут в его жизни. Он сбрасывает скорость, чтобы растянуть блаженное ожидание своего маленького чуда. Его ждет прекрасная женщина! Он плавно катит по Энн-стрит на юг. Ему вспоминается, как однажды они с бандой одноклассников нашли солидный запас пива, спрятанный на мусорной куче в конце этой самой дороги. Видимо, какую-то другую компанию малолеток, таких же, как они, засекли копы и они оставили здесь свою добычу, намереваясь вернуться за ней позже. Вот это был подарочек! Они с приятелями, помнится, тут же набрались и потом немилосердно ржали друг над другом на верхнем этаже последнего автобуса, возвращаясь домой с таким запасом халявного пойла, что можно было заливать глотки всю ночь.
«Страна вечной юности» – один из первых в Дублине современных ресторанчиков органической еды, прямо с фермы на стол. Меню здесь приносят на маленьких грифельных дощечках с привязанными к ним кусочками мела; корзинки доверху наполнены отполированными до блеска «гренни смит», которые никому не придет в голову надкусить, а из лаймов кто-то выстроил ровные пирамиды в стильных блестящих белых вазах.
Роуз Берд сидит за самым укромным столиком, прячущимся в нише в конце зала. Кевин невольно задумывается, нарочно ли она такой выбрала. Стараясь – увы, кажется, безуспешно – не выдать, как бешено колотится сердце под оксфордской рубашкой, он помахивает ей рукой и уверенно направляется к столику:
– Привет-привет. Быстро нашла ресторан?
Роуз в бледно-желтой шелковой блузке встает из-за столика. Мешковатая блузка скрывает ее тонкую талию, темно-синие джинсы скинни, почти неотличимые от тех, в которых его дочери занимаются спортом по выходным (нет, правда, что он здесь делает?), заправлены в темные, дорогие на вид ботильоны на платформе. В каждом ухе по тонкому золотому колечку.
Роуз Берд смотрит Кевину Гогарти прямо в глаза, но если в этом взгляде и скрыто какое-то послание, он не может его расшифровать. Ее губы размыкаются в улыбке, и Кевину хочется думать, хоть он и не уверен до конца, что нижняя слегка вздрагивает. Он долго, крепко жмет Роуз руку. Тянуться к ней губами пока не решается: это было бы неделикатно, слишком скоропалительно.
– Привет, – говорит Роуз. – Да, я знаю это место. Правда, я слышала, что у них нет больше денег на аренду. К концу месяца закроются.
От такой новости Кевин опять чувствует себя деревенским дурачком. Нашел место, называется. Он переводит дыхание. Остается надеяться, что Роуз его не осудит. Словно яркая вспышка, от которой он, впрочем, тут же отмахивается, освещает перед ним эту сцену как она есть: женатый мужчина отчаянно пытается продемонстрировать слишком молодой для него женщине, секретарше из школы его дочери, каким крутым и интересным парнем он был когда-то.