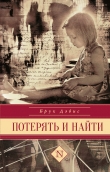Текст книги "He как у людей"
Автор книги: Ребекка Хардиман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
9
Если бы отец не положил на чемодан хоккейную клюшку, Эйдин, может, и не взорвалась бы так. Но клюшка ее взбесила как очередное напоминание о том, что она для отца – сплошное разочарование. Он же прекрасно понимает, что она эту штуку и в руки не возьмет, но упрямо верит в ее до сих пор не реализованный потенциал и без слов намекает: захвати, мол, с собой. Как будто в школе она станет другим человеком.
Эйдин достает из холодильника упаковку яиц и крадется наверх. Прошло время слез, жалобных просьб и споров – эмоциональной бури, которая за время рождественских и новогодних праздников вымотала из семейства Гогарти последние остатки душевных сил. Теперь Эйдин уже убедилась, что толку из этого не выйдет, и вернулась к своей единственной внутренней опоре – молчанию. На рассвете, плеснув в лицо водой, она мельком заметила, какие у нее ужасно опухшие глаза. За всю ночь она не спала ни минуты: размышляла о жизни и писала сообщения Шэрон, своей лучшей подруге, уехавшей в Глазго в прошлом году. Потом написала в твиттер Чёткому, и его ответ «Ты наша лучшая фанатка, чмоки-чмоки, обнимашки» был перечитан немыслимое число раз. Из всех писем и сообщений, какие Эйдин когда-либо получала, это больше всего похоже на любовную записку. Прошлой ночью и мама, и папа равнодушно храпели, нисколько не сочувствуя ее страданиям, в блаженном сознании того, что скоро сбагрят Эйдин в закрытую школу.
Сколько Эйдин ни спорила, как ни пыталась уговорить маму, та лишь до тошноты упорно твердила одно и то же: ее отправляют в Миллбери вовсе не из-за ссор в доме и поведения, и ей самой еще понравится учиться в новой школе, отдельно от сестры. А главное, впереди выпускные экзамены, так что пора уже взяться за ум и начать заниматься как следует. К тому же жить в школе придется только с понедельника по пятницу, а выходные она будет проводить дома.
Эйдин прекрасно понимает, чего стоит это объяснение: типичная родительская лапша на уши.
Сначала она даже отказывалась собирать вещи – не хватало еще помогать в приготовлениях к собственной казни! – но, представив, какого барахла могут ей напихать мама с папой (привет, хоккейная клюшка), в конце концов сдалась и с нечастным видом уложила все самое необходимое – под жалостливыми взглядами Кирана и даже Нуалы. В два часа ночи, по совету Шэрон, она прокралась к буфету и прихватила бутылку водки (лучший выбор, как ей подсказали, потому что водка не пахнет) плюс шесть жестяных банок папиного стаута. Сама Эйдин пить не собиралась – уж больно вкус противный, – но Шэрон считала, что это поможет ей расположить к себе девчонок из Мил-лберна. Всю добычу она засунула поглубже в недра спортивной сумки, под свернутую комком школьную форму цвета свежего дерьма.
Перед уходом на работу мама зашла к Эйдин и встала в дверях спальни. Это было прощание, которое Эйдин столько раз рисовала у себя в голове, и, несмотря на свою решимость оставаться деревяннобесчувственной, неожиданно для себя разрыдалась.
– Ох, милая, – проговорила мама, уткнувшись лицом ей в волосы, отчего стало еще тяжелее. – Не плачь. В пятницу будешь уже дома.
– Мама, пожалуйста, не заставляй меня зуда ехать. Ну пожалуйста!
– Все будет хорошо. И не просто хорошо, а отлично. – Мама выпустила Эйдин из объятий, положила руки ей на плечи и улыбнулась. Еще и улыбается!
***
На уроках истории доктор Скэнлон рассказывал о павших героях Ирландии – Патрике Пирсе, Имоне де Валера и других, сражавшихся за независимость и самоопределение, – о борцах за правое дело, о повстанцах. Что ж, Эйдин, по их примеру, поднимет бунт против своего бесправного положения. Она заходит в родительскую спальню и, не раздумывая, запускает коричневым яйцом в их любимую картину «Гретель и Гензель» – мешанину базовых цветов, в которой Гензеля и Гретель даже отдаленно не разглядеть – только два безликих, грубо размазанных пятна в верхнем углу. Этот подарок знакомого коллекционера висит над кроватью со дня их свадьбы.
Первое яйцо с великолепным хрустом скорлупы расплывается как раз между двумя полосами бирюзовой краски. Второе стекает вниз – клейкий белок медленно тянется за желтком, и наконец содержимое яйца тяжело плюхается на серый ворсистый подголовник кровати. Эйдин пуляет еще, и еще, и еще, и еще – по яйцу на каждого Гогарти! – и под конец швыряет опустевшую упаковку на пуховое одеяло.
Отступив назад, Эйдин оценивает масштаб разрушений – правду сказать, не слишком впечатляющий. До Майкла Коллинза, с оружием в руках державшего оборону против лоялистов на главном почтамте, ей еще далеко. Нужно добавить. Эйдин достает из ящика на кухне самый большой и острый нож, возвращается к заляпанной яйцами картине и вспарывает ее прямо посередине, от края до края, словно хирург, вскрывающий пациента. Разрез выходит длинный – такая рана уже не затянется. Пипец вашей картинке, думает Эйдин. Как и мне.
10
Если судить по репутации этой школы – и по размеру платы за обучение, – то это чистый Дублин-4, то есть нечто элитное и престижное, но вблизи она выглядит несколько сомнительно. За роскошными декоративными воротами и какой-то искусственной, показушно ухоженной дорожкой встают приземистые, квадратные, мрачного вида корпуса, выкрашенные бежевой краской, заляпанные пятнами дождя и как попало разбросанные на лоскутном одеяле школьной территории. Словно кто-то летал на самолете с завязанными глазами над пегими лужайками с пожухлой травой и швырял сверху спичечные коробки, а потом заскучал, махнул рукой на это дело и отправился домой. По мнению Кевина, такая безыскусная простота даже несколько оскорбительна. Что бы ты ни делал, никогда нельзя забывать о красоте.
А тут еще дождь моросит не переставая. Невероятно, но за всю дорогу в Миллбери, где, помимо школы, только один мини-маркет, пара церквей да «Петух» – фермерский паб XVIII века, – Эйдин не проронила ни слова, кроме безучастных «да» и «нет». Даже когда по радио звучал ремикс Чёткого – «I`m Not in Love», и Кевин ради дочери сделал погромче, она и бровью не повела. Обалденная выдержка, думает Кевин с невольным уважением: в ее годы ему такая и не снилась.
До сих пор он был скорее склонен списывать выходки Эйдин на очередной этап роста, хотя этап этот тянется уже несколько месяцев: раздражительность, угрюмая мина, вечная нелюдимость. В разговорах с Миком Кевин полушутя называет это «тревожные годы». Кевин, будучи единственным ребенком, сочувствует дочери, ведь быть двойняшкой означает конкуренцию, необходимость делиться и неизбежные сравнения, особенно когда девочки такие разные.
В утешение он припоминает трудные периоды других своих детей – когда-то они тоже ужасно бесили, но пролетели довольно быстро, хотя, конечно, это только теперь так кажется. Джерард, было время, свирепо лупасил всех, кто только посмеет посягнуть на его игрушки, Нуала не хотела есть ничего, кроме йогурта, а Киран сосал соску уже далеко не младенцем – давно ли им приходилось кипятить чайник и размачивать замусоленную пустышку, потому что сыну нравилось совать ее в рот мягкой и влажной.
Подъезжая к гостевой парковке, Кевин старается унять нетерпеливое желание – абсурдное и неуместное, как он прекрасно понимает, – еще разок полюбоваться на школьного администратора, мисс Роуз Берд, с которой он познакомился, когда приезжал записывать Эйдин в школу. Мисс Берд – молодая светловолосая богиня, с телом одновременно спортивным и чувственным, с идеальной грудью – двумя маленькими глобусами, торчащими под неожиданно строгой кремовой блузкой-рубашкой. Ее близость вскружила ему голову, и он повел себя, пожалуй, глуповато. Тогда-то, во время этой короткой встречи в тесном кабинете, Кевину казалось, что он держится с развязностью искушенного сердцееда и весьма остроумно рассказывает о своих школьных годах. Не забыл он и щегольнуть знакомством со знаменитым драматургом, с которым учился, хотя по ее непонимающему взгляду стало ясно, что она понятия не имеет, о ком это он. Потом Кевин не раз вспоминал этот непонимающий взгляд, и теперь этот легкий флирт уже кажется ему слишком топорным, слишком явно выдающим озабоченность и средний возраст.
Он глушит мотор и оборачивается к дочери:
– Ты уже знаешь скучную историю о том, как сто лет назад твоя бабушка отправила меня в лагерь на молочную ферму в Типперэри?
В ответ Кевин слышит откровенно пренебрежительный досадливый вздох и умолкает. Он-то надеялся утешить дочь одним из немногих его детских воспоминаний, подходящих для ушей подростка, тем более что в этой истории многое должно быть ей близко: изгнанничество, тоска по дому, отчаяние. По правде говоря, все в этом лагере было ему ненавистно: дергать коров за соски в рассветной темнотище, рубить торф, пока на непривычных к работе руках не вздуются пузыри, спать в сарае на койке под вонючим списанным армейским одеялом, каждый вечер по два часа до отупения долбить ирландский язык. Вдобавок местные игнорировали городских пижонов из Дублина. Так что же он делает сейчас? Зачем обрекает свою дочь на такую же печальную участь? Неужели он перешел на темную сторону – на сторону взрослых, куда, когда стал отцом, торжественно поклялся не переходить ни за что на свете? Разве теперь, спустя десятилетия, мятежная юность не остается стержнем его вольнодумной, нонконформистской натуры? Разве не он, в конце концов, организовал в школе бойкот «Кока-Колы» из-за поддержки апартеида? Разве не он создал группу The Right Wailing Willies в родительском гараже? Правда, все ограничилось парой репетиций: двоим участникам не на чем было играть, а одного выгнали за то, что вероломно скрыл от остальных факт обладания несколькими альбомами Bee Gees. Но все-таки, ведь все это делалось ради борьбы с системой.
А теперь поглядите на него: ему полтинник, и он везет свою дочь, умеренно трудного подростка, в одну из самых престижных женских школ Дублина, на которую ухнули остатки денег с их сберегательного счета, и спрашивается, почему? Только потому, что она немного… разболталась? Отбилась от рук? Вот они, его заурядные проблемы, которые даже проблемами нельзя назвать – так, убогая мещанская суета. Как он до этого докатился?
– Я только хочу сказать, – говорит Кевин, – что ты потрясающе сильная и все можешь.
Все утро Кевин пытался побороть тревожное ощущение: он чувствовал, что не вправе упустить этот важный момент, который дочь наверняка запомнит на всю жизнь. Всего ведь каких-то два года ему осталось формировать ее характер, любить, направлять, заботиться, воспитывать. Он протягивает ладонь сквозь струю искусственного тепла от радиатора: хочет взять дочь за руку, чего ни его отец, ни мать, между прочим, никогда не делали, им бы это и в голову не пришло. У мамы материнские чувства и проснулись-то, кажется, только в старости, а в его смутных воспоминаниях об отце до болезни тот видится каким-то отдаленным загадочным великаном.
Кевин сжимает пальцы Эйдин в своих и произносит:
– И я тебя очень люблю.
Эйдин отталкивает его руку и открывает дверцу машины.
Звенит звонок, и со всех углов кампуса, словно все это время ждали в засаде, сбегаются фигурки в грязнокоричневых юбках и джемперах с алыми галстуками.
Сбившись в тесные кучки, с тяжелыми рюкзаками за спиной, они перебегают зигзагами от одного корпуса к другому. Эйдин, словно бы уже смирившаяся со своей судьбой, вылезает из минивэна и покорно вливается в общий поток. Кевин заносит ее вещи в спальный корпус и бежит следом, с трудом поспевая за ней.
Когда они подходят к кабинету администрации, Кевин откашливается, вытирает влажные ладони о рубашку, на которой только теперь замечает засохшее пятно какой-то неизвестной гадости, и мысленно говорит себе: «Не будь придурком». Он сам понимает, что это глупо. Он ведь женатый мужчина. Но в кабинете мисс Берд никого нет. В первый момент Кевин ощущает горькую пустоту, а затем сам изумляется силе своего разочарования. Оказывается, он ждал этой встречи как самого важного события дня, да что там, всей недели. Сейчас он вернется в Долки и будет просматривать вакансии на сайтах, собирать вещи в химчистку, готовить обед, потом того отвезти, этого забрать, чего-нибудь перекусить, потом уроки с детьми и хоккей, а там и ужин. Снова этот заведенный круг, эта накатанная колея – вот это и есть его жизнь.
Кевин заглядывает в следующий кабинет – гигантскую резиденцию директора, с намерением жизнерадостно поздороваться, но и там не видно мисс Мерфи, эксцентричной горбуньи, которая с середины прошлого столетия руководит этой школой в суровом духе ирландской церкви. Это жутковатая фигура в черном, с ногами, наверняка ни разу в жизни не тронутыми бритвой. Она известна тем, что любит потчевать своих учениц мрачными сагами о выживании в суровых условиях и дикими советами в том же духе: например, пользоваться вощеной бумагой, если рулон в туалете закончился, или выворачивать трусы наизнанку, чтобы продлить срок их носки.
Мысль о нижнем белье мисс Мерфи – не из тех, которые легко вынести с утра, и Кевин плетется дальше, а дочь все так же вышагивает впереди, излучая стрех и плохо скрываемую ненависть ко всем вокруг и не в последнюю очередь к себе самой.
Вскоре они обнаруживают, что вся школа собралась в актовом зале и слушает (или не слушает) грузную женщину, похожую на доярку: она зачитывает перед этим коричневым морем какие-то скучные объявления. Здесь же Кевин замечает и мисс Берд, правда, ее почти не разглядеть за строем пожилых учительниц. Невезуха. Звучит орган в сопровождении хилого, анемичного хора: «Господь, как Ты велик…» Поют только самые старые и самые маленькие, все остальные лишь беззвучно шевелят губами или молча стоят со своими классами, поводят вокруг мечтательными глазами и думают… о чем? О мальчиках? О месячных? О смысле жизни? Черт их разберет. А как там его собственная дочь – обмирает от страха, наверное? Он пробегает глазами по рядам, но Эйдин не то растворилась в толпе, не то уже удрала. Во всяком случае, ее нигде не видно, и Кевин с тоской думает о том, что не успел ни попрощаться, ни пожелать удачи.
11
Милли сидит, скрестив руки и засунув под мышки пальцы, у грязного камина, в котором горит не очень-то жаркий огонь, и смотрит через огромное венецианское окно на свой залитый дождем палисадник. Всякий раз, когда взгляд ее падает на две экзотические пальмы, раскачивающиеся под неутихающими дублинскими ветрами, перед ее мысленным взором предстает оживленная бухта, что расположена дальше по ее любимому побережью, с изящными яхтами и кораблями, красной шапочкой маяка и прибрежными утесами. В один прекрасный день она обязательно пройдется по Восточному пирсу и купит себе фирменное мороженое «99» в вафельном стаканчике в древнем киоске «Теддис», точь-в-точь как в детстве – с воткнутым сбоку шоколадным батончиком «Кэдбери Флейк».
В кадре появляется Кевин. Он видит, что Милли смотрит на него, и делает рукой движение, словно затягивает воображаемую петлю вокруг шеи. С ним высокая, яркая блондинка – идет рядом, не отстает, несмотря на высокие кожаные ботинки до колен. Она катит за собой чемодан, при виде которого Милли прошивает иглой страха. Эта женщина уже готова вселиться к ней в дом?
Из всех сценариев, что крутились у нее в голове, не давая уснуть прошлой ночью, больше всего ее страшит, что помощница по дому окажется добродетельной занудой: будет следить за ней в оба, как за беспомощной старушкой, и неодобрительно цокать языком при виде беспорядка на кухне – так, чего доброго, начнешь чувствовать себя гостьей в собственном доме. У Милли уже рефлекс выработался, как у собаки Павлова: у нее с первого взгляда вызывают неприязнь добренькие тетушки, неугомонные хлопотуньи, библиотекарши, не первой молодости учительницы начальных классов, соцработницы и монашки. Вот священников, тех иногда еще можно терпеть, если они не слишком усердствуют с проповедями и не откажутся иной раз от глоточка виски.
– Доброе утро.
Кевин входит – почему-то один, – закрывает за собой дверь и небрежно целует мать в морщинистую щеку.
Милли берет его за руку.
– У меня в холодильнике есть отличное яйцо. Если будешь хорошо себя вести, может быть, я тебе его даже сварю.
– Сильвия Феннинг уже здесь – стоит за дверью и ждет, когда можно будет с тобой познакомиться.
– Прямо сегодня?
– Ну да. Я хотел позвонить, но у тебя, похоже, телефон не работает.
– Кто-то засунул его черт знает куда.
– В унитазе смотрела? – усмехается он.
– В тот раз случайно вышло.
– Слушай, она правда очень, очень милая. Ты ее полюбишь.
– За то, что она будет мной командовать?
– Не будет. Командуешь здесь ты. Но только… ты ведь будешь вести себя прилично? – Кевин наклоняется, чтобы посмотреть ей в глаза. – Ведь так?
Милли пожимает плечами и думает: «Там видно будет».
***
Сильвия Феннинг оказывается молодой, большеглазой, с бледной кожей, с неправдоподобно белыми, крупными, как у лошади, зубами и губами в матовой помаде цвета «морозный коралл».
– Очень приятно с вами познакомиться! – произносит она нараспев. Золотые браслеты, доходящие чуть ли не до локтя, звенят и дребезжат, когда она вежливо протягивает Милли руку. Милли чувствует, как женщина незаметно сжимает ей пальцы покрепче: словно хочет сказать, что заметила ее настороженность, но что они вдвоем все уладят.
– Вы уже с вещами?
Сильвия похлопывает ладонью по крышке чемодана.
– Ах, это? Это я к подруге собралась на выходные.
Что ж, одной угрозой меньше.
Вы американка? Ж спрашивает Милли.
– А как вы догадались? – отвечает Сильвия вопросом на вопрос, а затем преувеличенно громко смеется. Как это по-американски – хохотать во все горло над собственными несмешными шутками.
– Сильвия из Флориды, – объявляет Кевин с таким видом, словно это невесть какое диво.
– Из Майами? – спрашивает Милли, вспомнив Бланш и Дороти.
– Нет, из Клируотера. Это недалеко от Тампы.
– Ох, там, во Флориде, должно быть, ужасно жарко! Я бы не вынесла такой жары, – говорит Милли.
Если Сильвия и обижается на такое замечание, то виду не показывает. Напротив, даже улыбается и заговорщицки шепчет:
– Как я вас понимаю. Без крема от солнца там никуда.
Сильвия словно бы интуитивно догадывается о расположении комнат в Маргите: она идет прямиком в гостиную, где ее встречают горы мусора и общий беспорядок, тут же подходит к окну и начинает охать и ахать, восхищаясь видом на море.
Милли задерживается в дверях.
– Схожу-ка я по-маленысому.
– Э-э?..
Милли выходит из комнаты, размышляя на ходу о том, как часто ей теперь будет требоваться переводчик.
На обратном пути она замечает багажную бирку, болтающуюся на чемодане Сильвии, и с любопытством подходит поближе. Чемодан кожаный, цвета каштана, – первоклассная вещь. Милли сдвигает крышку на бирке – под ней листочек линованной бумаги, неразборчиво исписанный буквами и цифрами, но без очков Милли не в состоянии разобрать эти чернильные каракули.
Дальше Милли действует не раздумывая, хотя на мгновение у нее перехватывает дыхание от этой мысли: сколько она уже наделала всего в жизни из-за нелюбви к долгим утомительным размышлениям? Ну и ладно – и об этом она тоже долго размышлять не станет. Ее пальцы уже торопливо отвязывают бирку от чемодана. Вспомнив, что карманов у нее нет, Милли засовывает ее в свое обширное декольте жестом бор-дельной «мадам», забирающей чаевые за своих девочек. Поправляет блузку и смотрится в зеркало в холле. Кому, во имя святых апостолов Петра и Павла, придет в голову разглядывать грудь Милли Гогарти – хоть и пышную, но, увы, давно вышедшую в тираж? Молодые думают, что старикам легко перестать думать о сексе, а Милли знает – ничего подобного. Еще как нелегко-то.
***
– За такой вид умереть не жалко! – говорит Сильвия, когда Милли возвращается. – Кажется, весь день бы стояла и смотрела. Люблю Ирландию! Я ирландо-филка. – Она улыбается. – Есть такое слово?
– На самом деле это называется гибернофилия, – вставляет Кевин. – Хотя, по-моему, я еще ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь так говорил. Мама, ты, кажется, хотела рассказать Сильвии о своем распорядке дня и, вообще, ввести ее в курс дела?
Кевин сразу же исчезает где-то в задней части дома, не оставив Милли иного выбора, кроме как указать на кушетку у самого камина – единственное спасение от холода в этой комнате, не считая клетчатого одеяла, явно и остро нуждающегося в стирке.
– Любит он командовать, – говорит Милли.
– Ой, это даже мило, – говорит Сильвия. – Он вас, должно быть, очень любит. – Она протягивает руки к огню и добавляет: – Кевин упомянул, что нам, вероятно, лучше всего подойдет смешанный график? Скажем, два раза утром и два раза вечером? Я могу приходить к девяти утра и кормить вас завтраком.
– Слишком рано. Я в это время еще в постели.
– Ав десять?
– Это уже поздновато.
– A-а. Ну хорошо, о времени договоримся… а что вы любите на завтрак?
– Я слишком стара для завтраков.
Сильвия смотрит на Милли, словно на несчастное, сбитое машиной животное в придорожной канаве.
– Можно у вас кое-что спросить? – Не получив ответа, она все-таки продолжает: – Я так понимаю, это ведь на самом деле не ваше решение? Чтобы я приходила помогать. – Она наклоняется ближе и понижает голос, словно они с Милли – две заговорщицы: – Я все прекрасно понимаю, поверьте. Наверняка я на вашем месте чувствовала бы то же самое. Но вы должны знать: я всегда за честность, понимаете? Просто скажите, чего вы хотите, и я это сделаю – не больше и не меньше. Так сказать, оставляю последнее слово за вами. Идет? Как вам такой уговор?
Милли, несколько умиротворенная, кивает. Эта Сильвия, кажется, не похожа ни на грубиянку, ни на критиканку, ни на злюку.
– Наверное, следовало бы предложить вам чашечку кофе.
– Я бы не отказалась, – говорит Сильвия. – Давайте я пойду с вами и вы мне сами все покажете?
Взглянув на свою кухню глазами гостьи, Милли впервые за долгое время замечает, что все горизонтальные поверхности в ней заставлены чем-то грязным: тут тарелка с засохшей бараниной и картофельным пюре, там кружка с окаменевшим в ней чайным пакетиком. Должно быть, американке все это кажется ужасным? Даже те миски и тарелки, что стоят на полках в закрытом шкафу, как становится очевидно при ближайшем рассмотрении, нуждаются в мытье не меньше тех, что скопились в раковине и в давно не работающей посудомоечной машине. В кухне воняет кислятиной, лампочки перегорели, ковер по какой-то загадочной причине вечно сырой. На плите, где только одна из четырех конфорок рабочая, стоит древняя кастрюля с таким же древним пригоревшим молоком. К этой кастрюле и направляется Милли, берет лежащий поблизости гаечный ключ и, пользуясь им как рычагом, включает последнюю работающую конфорку.
Сильвия и бровью не поводит.
– Как тут просторно, – говорит она. – Видели бы вы кухню в той квартире, где мы сейчас живем. Совсем малюсенькая.
– Вы замужем?
Сильвия смеется, и неожиданно обнаруживается, что почти во всех зубах поблескивают серебряные пломбы. Словно строй боевых кораблей в игре «Морской бой».
– Ой, нет, боже упаси! Хватит с меня этого. Нет-нет, я живу с сыном сестры, с племянником.
– Да? И сколько же ему лет?
– Семнадцать.
– Вот как? А у меня, кстати, две чудесные внучки, им шестнадцать.
– Двойняшки? Неужели! Надо их познакомить. Он ведь здесь никого не знает.
Милли незаметно для себя начинает напевать что-то себе под нос по пути к банке с растворимым кофе, а затем снова к плите. Она торопливо снует от кухни к кладовке и обратно, словно стоит ей остановиться, как Сильвия вдруг исчезнет. В коридоре раздаются шаги Кевина. Он подкрадывается к двери кухни, подмигивает Сильвии, а потом подхватывает мать, словно хочет станцевать с ней вальс, и запрокидывает назад. Милли, подыгрывая ему, изящным движением слегка отставляет левую ногу.
Позже, оставшись одна в комнате Питера, Милли сбрасывает с себя кардиган, блузку и бюстгальтер, и багажная бирка Сильвии, о которой она уже успела забыть, падает на пол.