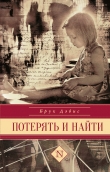Текст книги "He как у людей"
Автор книги: Ребекка Хардиман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
28
Всю следующую неделю, время от времени – обычно по утрам, – миссис Джеймсон устремляет свои пустые молочно-белые глаза, напоминающие недожаренные яичные белки, на уставившуюся на нее в нетерпеливом ожидании соседку.
– Доброе утро! – однажды жизнерадостно приветствует ее Милли. – Или правильнее сказать – добрый день? По-моему, вы спите с самого вторника. Я уже спрашивала кого-то из сиделок: моя соседка, случайно, не в спячку залегла, как медведица? Такого крепкого сна я еще ни у кого не видела. – Милли на секунду умолкает, чтобы перевести дыхание, и с любопытством вглядывается в лицо этой безжизненной фигуры. Как знать, забавляет ее этот разговор, или раздражает, или она просто как раз сейчас наполняет баллон своего катетера.
Если описывать обитателей «Россдейла» в терминах бизнеса, то миссис Джеймсон следует отнести к индивидуальным предпринимателям. Пока еще ни одному человеку на свете не пришло в голову хотя бы послать ей открытку. Телефон у нее никогда не звонит, посетители к ней не ходят. Она совершенно одинока. Конечно, сама Милли тоже не бог весть какой конгломерат. Фирма Гогарти не слишком балует ее вниманием и заботой. С Кевином Милли почти не разговаривает, что делает его торопливые нервные визиты (можно подумать, у него куча важных дел, ведь он сейчас без работы) сущим мучением. Большую часть времени он или просит о чем-нибудь сиделок – раздвииуть шторы, вытереть прикроватный столик. – или болтает с молоденькими медсестрами (некоторые из них выглядят хуже – ну, по крайней мере, толще, чем сама Милли). Он развлекает их рассказами о своем давнем и недолгом опыте незадачливого волонтера, страдающего гемофобией, в местной больнице. Они смеются.
Вчера Кевин ворвался в комнату с непринужденным «Добрый день» и снисходительно поцеловал всклокоченную голову матери, не обращая внимания на ее, как он считает, ребяческие капризы. Она хмыкнула (не смогла удержаться), скривила губы, сдвинула брови, уткнулась подбородком в персиковую стену и в такой позе упрямо пролежала до конца. Все это требовало огромной силы воли. Ей до смерти хотелось пожаловаться на заварной крем цвета ушной серы, холодный, как камень, рассказать, что ревень тут безвкусный, в комнатах тропики, врачи держатся надменно, медсестры разговаривают свысока, сиделки равнодушны, ночи тянутся бесконечно, таблетки застревают в горле, и в воздухе невыносимо остро ощущается близость смерти. Ничего этого она не сказала, только почувствовала, как подступил к горлу горячий комок, когда сын завершил свой визит еще одним театральным поцелуем.
– Очень рад был поболтать с тобой, – сказал он и подмигнул.
– На вашем месте, миссис Джеймсон, – продолжает Милли, – я бы первым делом проверила свою сумочку.
Миссис Джеймсон устремляет свои водянистые, обескураживающе пустые глаза на Милли – или просто в ее сторону.
– Я не хочу вас тревожить – вот Кевин, мой сын, он, вы знаете, вечно поднимает тревогу из-за пустяков. Переживает из-за своих коленей – он, видите ли, спортсмен. Прекрасный теннисист. Очень грациозен. Или – ах, у Джерарда экзамены! Это его старший. А вдруг провалится? Найдет ли он себе хорошую девушку?
Милли сердито всплескивает руками, чтобы придать выразительности своему монологу. Она разглядывает мягкие складки кожи своей соседки, ее обвисшую шею, сшитое вручную стеганое одеяло и решает, что в свое время, когда миссис Джеймсон еще не была прикована к постели, до постигшего ее недуга, это была женщина щедрая, с творческой жилкой и злым языком – одним словом, миляга.
– А я тут просыпаюсь и вижу, как эта проказница-медсестричка… ну, не в этом смысле проказница, – хихикает Милли. Она уже начинает ценить преимущества немой соседки. – Роется в ваших вещах, прямо вот так, обеими руками – весьма ухоженными, надо сказать. – Милли изображает медсестру, запускающую руки в чужую сумку.
Миссис Джеймсон зевает.
– Это правда.
– Что, простите?
Миссис Джеймсон дважды издает кудахчущий звук и улыбается.
– А я-то сомневалась, понимаете ли вы вообще, что я говорю, уже все уши вам прожужжала. Вы не представляете, чего я только не передумала, пока вы спали. Уже сочинила целую историю вашей жизни, хотите послушать?
– Это правда.
– Что, простите?
– Это правда.
Миссис Джеймсон крепко сжимает губы, похожие на кожицу лука, и проводит языком по верхним деснам, а затем ее глаза медленно закрываются – и тут как раз звонит телефон, лежащий у кровати Милли.
– Алло?
– Миссис Гогарти?
– Слушаю!
– Угадайте, кто это?
– Сил! Ты? – Милли прикрывает трубку рукой и объясняет соседке: – Это моя американская подруга. Я вам непременно как-нибудь расскажу.
– Миссис Гогарти? Вы слушаете?
– Да я просто дар речи потеряла! Как ты меня нашла? Это Кевин тебе сказал, что я здесь?
– Не могла же я забыть свою любимую ирландку, правда?
– Ох, а меня он вот сюда упрятал. Тебе уже рассказали?
– Я звонила вам домой, но телефон не отвечал. Тогда я позвонила домой Кевину, и трубку взяла его дочь. Она говорит, у вас был какой-то пожар?
– Ой, нам не стоит слишком долго разговаривать. Трансатлантический тариф все-таки. Просто хочу услышать, как ты там дышишь.
– Что?
– Вот так, великолепно.
– Так что случилось? – спрашивает Сильвия. – Был пожар?
– Ох, это было ужасно. Я чуть не погибла, ты не слышала? А потом Кевин пришел и увидел меня на кухне. Но это неважно. Скажи лучше, как поживает наш пациент? Когда операция?
– Уже сделали несколько дней назад.
– Быстро вы!
– И сейчас он выздоравливает. Пока что все идет нормально.
Милли тут же сообщает миссис Джеймсон:
– Операция прошла успешно!
– Врачи говорят, выздоровление будет долгим, дольше, чем мы думали. Но вы бы его видели – лежит, весь опутанный проводами, и ест желе. Он настоящий боец.
– Безумно рада это слышать, – со слезами говорит Милли. – Рада за вас обоих. Просто ужасно!
– И все это благодаря вам.
– Да ладно…
– Это такое облегчение, что и сказать нельзя. А вы-то как? Долго еще там пробудете?
– По секрету между нами тремя, считая миссис Джеймсон, сдается мне, я тут долго не протяну.
– Миссис Джеймсон?
– Я скучаю по нашим разговорам, Сил. Очень скучаю.
– И я тоже, – отвечает Сильвия. – Надеюсь, вы скоро вернетесь домой. Через пару недель, может быть? Как вы думаете?
– Да, а кухня-то – ты ее теперь не узнаешь. Черная, как ночь.
– О боже мой.
– Вот что я тебе скажу: бронируй-ка поскорее билет домой и помоги мне сбежать отсюда. Увези меня в свободную страну!
Сильвия фыркает и говорит:
– Было бы здорово, правда? Ох, черт, мне надо идти. Врачи зовут, хотят узнать, как идут дела.
– Позвонишь мне еще как-нибудь, когда у тебя будет время?
– Обязательно.
– Или дай мне номер, чтобы я могла с тобой связаться?
– Конечно. – Сильвия диктует длиннющий ряд цифр, и Милли записывает их на клочке бумаги.
– Когда ты вернешься в Дублин? – спрашивает Милли, но связь, видимо, прервалась, потому что телефон внезапно замолкает.
29
Кевин платит бешеные десять фунтов за то, чтобы его машину не угнали, пока он будет ужинать, и плетется в «Маллбери Гарден» – праздновать двадцатилетие со дня своей свадьбы. Когда у него была приличная работа и на внутреннем фронте дела еще не совсем разладились, они с Грейс строили планы – отметить эту знаменательную дату романтической поездкой. Провести длинные выходные на Корсике или роскошные две недели в Аргентине. Они будут брать уроки танго, заниматься любовью в гамаке, а потом отключаться в блаженной сиесте в номере бутик-отеля, и над головами у них будет крутиться, навевая прохладу, плетеный вентилятор.
Но теперь денег на такие излишества нет, и Грейс уже не тянет с ним спать, хоть в гамаке в Буэнос-Айресе (это возможно вообще?), хоть где-нибудь еще. Всякие разговоры о поездке их мечты давно прекратились. Какое-то время Грейс еще рисовала себе картину большого праздника дома – с фирменным коктейлем, с официальными приглашениями, а дети пусть отрепетируют смешную сценку, где будут символически поджаривать родителей на огне (Кевин считает такие инсценировки слащавой пошлостью, но детям нравится, и он держит свое мнение при себе). Потом размах сузился до тихой вечеринки в узком кругу – и хлопот меньше, и веселее, и дешевле. И в конце концов все свелось к ужину на двоих в Доннибруке.
Грейс опаздывает. Кевин потягивает джин-тон и к и проверяет сообщения в телефоне. Вчера он удалил всю контактную информацию Роуз Берд – решение, которое уже невозможно отменить, и сознание его необратимости временами вызывает легкую боль, а временами, как сейчас, благодарное облегчение: его судьба решена.
Кевин видит, как его жена входит и называет свое имя администратору. Мужчина за соседним столиком поглядывает на нее, и Кевину это приятно. Он сглатывает, убирает мобильный в карман пиджака и начинает разглядывать других состоятельных посетителей – это все же повеселее, чем копаться в самом себе, хотя рефлексия все равно волей-неволей просачивается в мозг. Даже если вдруг подвернется подходящая работа – захочется ли ему ей заниматься? Все равно в последнее время, за что бы он ни взялся, выходит полное дерьмо. Мама не выносит «Россдейл» и без конца донимает его жалобами. Эйдин, если смотреть правде в глаза, по-прежнему считает своих родных стаей гнусных ублюдков, достойных лишь презрения, – а уж на презрение она никогда не скупилась. А главное, о чем Кевин тревожится, пока Грейс идет к нему, лавируя между столиками, – чем стали для них эти двадцать лет, чем не стали, чем должны были стать? Очень не хочется задумываться о том, не путают ли они любовь с привязанностью, о том, что дети, которые когда-то были клеем для их семьи, теперь играют скорее роль противоядия, или (слишком циничная мысль, Кевин понимает это) о том, что их держит вместе только привычная лень, нежелание растаскивать по частям захламленный, сложно устроенный дом и делить жалкое бесполезное барахло, которое они накопили за эти годы. Ноутбуки, пилки для ногтей, чайники – все это не самый подходящий цемент для брака.
Но вот его жена, с которой они прожили два десятка лет, стоит перед ним – подавляя зевок, что в такой торжественный вечер отдает черным юмором, – и Кевин, нервничая и потея, снимает пиджак и поднимается из-за стола ей навстречу.
* * *
Когда приносят заказ, Грейс осматривает интерьер и говорит:
– Я хочу забронировать столик в том новом местечке у «Гришема» – органический паб, или как он там называется?
– М-м-м-да?
– Я думала, ты бывал там? Шеф-повар из Корка…
– Передай мне вино, пожалуйста.
Грейс наполняет бокал Кевина и сдвигает свой бесцветный картофельный гратен на край тарелки.
– Меня это бесит… – говорит она.
– А, ресторан? Да, мы там с Миком недавно ужинали.
– С Миком?
– Ну да, с Миком.
– Ты никогда не ходишь с Миком по ресторанам.
– Даже Мику иногда нужно есть что-то, кроме стаута.
– Дай мне отщипнуть у тебя кусочек.
– Я несъедобный, дорогая. – Он пытается улыбнуться, но вместо улыбки выходит какая-то гримаса, больше подходящая обдолбанному клоуну, чем благодушно настроенному мужу.
Грейс тянется через весь стол и тычет вилкой в его рыбу.
– Как дети сегодня?
– Я бы сказал, в боевом настроении.
– Нуала с Кираном? О, очень вкусно. – Грейс жует в своей обычной манере, которую Кевин находит несколько гротескной: как будто ворочает во рту гору тяжелого, мокрого песка. Какая-нибудь крупинка неизбежно застрянет в зубах, но она этого даже не заметит – так и будет ходить, пока не придет время чистить зубы перед сном. Иногда ему уже с трудом вспоминается, какой пугающе красивой она была когда-то.
– Переругались, это Киран начал.
– Да?
Кевин видит, что ей неприятна эта тема. Ей не хочется слышать ничего нелестного о своих отпрысках. Это всякий раз вызывает у Кевина острое желание изобразить перед ней все их фокусы в лицах. Наверное, так ему хочется дать понять жене, чем он занят дома целыми днями: трудится в поте лица, чтобы сохранить мир.
– Киран узнал про Гэвина и стал над ней издеваться. Настоящий чертенок. Но, что ни говори, милый чертенок.
Но Грейс уже не слушает: ее вилка застыла в воздухе, словно учительская указка, и непонимающее выражение на ее лице вызывает у Кевина тревогу.
– Что узнал? – переспрашивает она. – Что такое насчет Гэвина?
– Ерунда. Глупости. Ну, они вроде как теперь парочка, официально. Он подарил ей ожерелье, очень мило, на самом деле.
Он поднимает свой бокал.
– Разве я тебе не говорил?
– Нет, не говорил. А главное – она мне не говорила.
– Не сомневаюсь, еще расскажет.
Грейс снова начинает медленно жевать.
– Правда, я вчера так поздно пришла, что ей и некогда было рассказать. – Лицо Грейс делается задумчивым. – Первый настоящий парень! Он, по-моему, очень симпатичный, правда? Когда это произошло?
Кевин раздумывает – не солгать ли? Но он понимает, что это бессмысленно: Нуала не станет ему подыгрывать. Его дети, во всяком случае, трое из четырех – образец добродетели, они гораздо более щепетильны в таких вопросах, чем их отец.
– Не знаю. Примерно тогда же, когда Эйдин поступила в Миллбери.
Грейс кладет на тарелку сначала вилку, потом нож и роняет голову на руки.
– Дорогая, – говорит Кевин. – Пожалуйста, не расстраивайся. Она просто…
– Просто что?
– Она очень стеснительная и…
– Это не стеснительность, – шипит Грейс. – Я ее мать. Матери не стесняются.
– Думаю, тебе не стоит принимать это на свой счет.
– Как же еще мне это принимать?!
– Со временем она и тебе расскажет.
– Не говори со мной как с ребенком, Кевин. А главное, почему ты мне не рассказал?
– Ну а что тут особенного. Не знаю… Как-то в голову не пришло.
– Не пришло? Такая важная веха…
– Давай без этой театральщины.
– Не учи меня!
– Я-то в чем виноват?
– Я и не говорю, что ты виноват.
– Но я чувствую себя виноватым.
– Кажется, мы отдалились друг от друга сильнее, чем я думала.
– Да, у нее парень! – Кевин выпаливает это громче, чем намеревался. Жена делает ему знак замолчать: яростно прижимает палец к губам и делает свирепое лицо. Ну, в этот раз он молчать не будет! Он чувствует, как правда неудержимо рвется наружу – выстрел грянул, кони бьют копытами, – козыри у него в руках, сейчас он может сделать ей больно. Этот порыв – излить наконец душу и попробовать докопаться до истины – так соблазнительно кружит голову, что Кевин не в силах удержаться.
– Ты еще многого не знаешь, – говорит он. – Ты ведь почти не бываешь дома.
– Неправда.
– Правда.
– Что ж, если и правда, так это потому, что у меня есть работа.
– Кроме работы, у тебя есть семья.
– А, ну конечно.
Грейс пронзает его кинжальным взглядом. Слышится негромкий сигнал пришедшего сообщения. Может быть, от Роуз?
Грейс поднимает бокал с вином, пристально вглядывается мужу в лицо, словно не узнает его, и говорит:
– А ты даже сам не замечаешь.
Кевин понимает, что у нее на уме что-то недоброе, и не надо бы доставлять ей этого маленького удовольствия. Но он ничего не может с собой поделать: ему всегда хочется знать ее мнение – вдумчивое, взвешенное, мудрое, оптимистичное, – практически по любому вопросу, особенно когда дело касается его самого. Сколько раз за эти годы ее коллеги, подчиненные, даже начальники приходили к ней в кабинет, закрывали за собой дверь и делились своими терзаниями, проблемами или сомнениями, и уходили ободренные?
– Чего не замечаю?
Она смотрит на него холодно.
– Что ты погряз в жалости к себе с того дня, как потерял работу, по самые уши. Что ты все, все на свете – детей, свою мать, меня – все видишь только через черные очки. Ты потерял себя. Только ныть и умеешь.
Ему хочется рявкнуть матом, хочется переспорить ее, осадить, сделать больно, сказать, чтобы сама не ныла. С ним все в порядке, ему просто нужно понимание, поддержка! Хочется заорать. Разбить что-нибудь. Треснуть кулаком по столу. Выпить виски. Уйти.
Грейс сидит с приоткрытым ртом. Зубы у нее красноватые от вина.
– Ну что ж, за наш семейный союз, – произносит Кевин со злой насмешкой, поднимая бокал. Снова раздается сигнал его телефона.
– Кевин, послушай, я просто хочу…
– Извини. – Он встает, бросает салфетку на стол. Больше всего на свете ему хочется уйти.
– Мы не закончили разговор.
– А это называется разговор? Больше похоже на нападение из засады.
– Сядь, пожалуйста. Давай поговорим. Прошу тебя.
– Не волнуйся. Дам тебе время собраться с силами.
Кевин гневно удаляется в направлении мужского туалета. Он в ярости от того, что его жена через столько лет все еще умеет так больно (потому что правдиво?) бить по его самым чувствительным местам. Он входит в громадную, сверкающую белизной комнату и не видит там ничего: ни сантехники, ни крана, ни раковины нормальной (только фарфоровый поддон), ни полотенец, ни сушилки для рук. Кевин не знает, что и думать. Там, где обычно находятся двери кабинок, висит массивный лист матового стекла шириной с кухонный стол, без ручек. Кевин тычется в этот лист обеими руками в разных местах. Наконец с досадой поворачивается, чтобы уйти, задевает плечом стену, и гладкая невидимая дверь волшебным образом отодвигается с тихим шорохом, а за ней обнаруживается унитаз – слава богу, ничем от нормального унитаза не отличающийся.
Кевин плюхается на стульчак и тянется за телефоном, но тут вспоминает, что вынул его из заднего кармана брюк и положил в пиджак, который сейчас висит на спинке его стула, и, вполне возможно, телефон в эту самую минуту трезвонит, не умолкая, в шаге от его жены.
Кевин пулей выскакивает из этого дурацкого туалета, подавляя в себе тошнотворное чувство обреченности, нарастающий истерический страх. Адреналин взлетает так, что он, пожалуй, мог бы сейчас допрыгнуть до стола одним исполинским прыжком через весь зал. Грейс нигде не видно. Может, ушла? Это было бы неплохо, это было бы еще поправимо – можно будет все уладить, извиниться за эту нелепую ссору из-за первого ухажера дочки. А какой важной казалась эта тема всего две минуты назад! Но нет: Грейс сидит, склонившись над телефоном, там же, где он ее оставил.
– Ну и запрятали они толчки – сам Гудини не нашел бы.
Кевин усаживается на свое место, и его рука немедленно тянется к пиджаку в надежде ощутить его успокаивающую тяжесть. Но мобильного в пиджаке нет. Кевин сует пальцы в боковые карманы (оба пусты), затем переводит взгляд на Грейс, на ее лицо, такое удрученное, что оно стало похоже на кусок мятого льна, и понимает: у нее в руках его телефон.
Но там и смотреть-то нечего – никакого компромата. Он же давно стер все сообщения от Роуз. И контакт удалил. Но Грейс не поднимает на него глаз. Она проводит пальцем по экрану, и на нем появляется фото Джерарда и Кевина на кухне, проводит еще раз – снова фото Джерарда и Кевина на кухне, секундой позже. Она просматривает не сообщения, а фотографии…
Скриншоты!
Его жена читает ту давнюю переписку – сальный, полный загадочных недомолвок диалог, понятный только двоим – о том, что тогда так бурно расцветало, но так ни к чему и не привело и в любом случае уже закончилось.
– Грейс… – говорит Кевин.
Какое-то время она не смотрит на него, но потом поднимает глаза и пронзает его убийственным взглядом.
– Грейс.
Она встает и берет свою сумочку цвета металлик.
– Постой! – Кевин неуклюже поднимается. – Постой. Подожди. Я все объясню.
Она снимает свою шаль со спинки стула.
У них, как и любой семейной пары, случались конфликты – денежные неурядицы, разные подходы к воспитанию детей, жуткая история с раковой опухолью (она оказалась доброкачественной), споры о том, как распределить домашние дела, и сотни обыденных раздражающих бытовых мелочей, которые давно уже утряслись и даже превратились в предмет для шуток. Как-то раз в начале их совместной жизни в Лондоне они так переругались, что он, на ночь глядя, театрально выбрался из постели в трусах, натянул тренировочные штаны и ушел, хлопнув дверью. Потом они валялись от хохота, когда он вернулся и обнаружилось, что он выскочил на улицу в ее штанах.
Но никогда еще, вплоть до этого момента, до их двадцатилетней годовщины, сказанные ими друг другу слова не казались такими опасными или бесповоротными.
Она выходит из ресторана.
30
Даже благопристойное клетчатое платьице Дороти, одной из образцовых положительных героинь во всей литературе, на Нуале каким-то непостижимым образом выглядит сексуально. Час назад дома произошел скандал из-за рубиновых туфелек, которые Нуала намеревалась надеть для своего сценического дебюта зет двухдюймовых шпилек на платформе, совершенно развратного вида, которые папа категорически запретил.
– Решительное и твердое «нет», – заявил он с глуповатым смешком. Все поглядели на него с невыразимым презрением.
Когда Гогарти в пятницу вечером входят в школьный актовый зал, где вот-вот начнется «Волшебник страны Оз», мама садится по одну сторону, папа – по другую, а Эйдин, таким образом, оказывается в центре рядом с бабушкой, которую на этот вечер забрали из «Россдейла». Эйдин это, если честно, немного тяготит. В более приватной обстановке мириться с бабушкиными странностями было бы легче. Все-таки старушка уже явно не в себе. Но сейчас Эйдин, во-первых, и без того убита горем, а во-вторых, сидит в актовом зале своей бывшей школы, и эти мерзкие девицы не обращают на нее никакого внимания – правду сказать, и раньше не обращали. Ей бы очень хотелось плевать на их мнение с высокого дерева, но от правды никуда не деться: быть прикованной к восьмидесятилетней бабушке – не очень-то круто.
Но вот привычную жизнь Дороти уже опрокидывает вверх дном канзасский ураган, правда, изображенный довольно топорно: даже самый недалекий зритель заметил бы за кулисами длинные костлявые руки, которые изо всех сил трясут лачугу дядюшки Генри и тетушки Эм. Умора! Эйдин со смехом показывает на эти руки бабушке.
Бабушка тоже смеется и шепчет:
— Я тебя обожаю.
Эйдин обнимает ее. Какие же хрупкие у бабушки плечи – одни косточки.
Когда они выходили из дома под обычное нытье и жалобы братьев и сестер (никто, кроме Нуалы, не жаждал приобщаться к культуре), папа взял Эйдин под руку.
– Можно тебя на секунду?.. Послушай, твоей бабушке сейчас приходится нелегко. Насколько я могу судить, она чувствует себя одинокой, брошенной, и у нее болит обожженная рука – веселого мало, сама понимаешь.
Пока он нес весь этот бред, Эйдин смотрела в окно на бабушку, а та, склонившись над усыпанной гравием дорожкой, тыкала во что-то острым концом зонтика-трости. Наконец отошла с удовлетворенным видом и встала чуть поодаль, лучезарно улыбаясь какому-то кусту или вообще непонятно чему. А может, всему вокруг? Может, они все просто не видят того, что видит бабушка?
– Я хочу быть уверен, что она не останется без внимания и заботы, – сказал папа. – Давай-ка будем к ней подобрее.
– Это что, шутка? Я и без тебя все это знаю, папа. Да я одна только к ней и добра, от вас-то хрен дождешься.
– Выражайся прилично.
– Хрена с два.
На всех публичных мероприятиях Гогарти обычно занимают целый ряд, скамейку или лифт. Унизительно! Ну у кого еще родители так безудержно плодятся? Нет, конечно, такие семьи в Долки встречаются – вот, например, на их улице Броулины настрогали семерых, включая две пары близнецов, самому старшему не больше двенадцати – и все они вечно ходят грязными, в легких куртках в зимнюю погоду. Но все же размер ее семьи раздражает Эйдин: она знает, как папа гордится своим кланом, гордится, что у него есть столько людей, которых он любит и которые любят его. Эйдин задумывается: может, для того люди и заводят детей – чтобы с гарантией набрать критическую массу любви? Она замечает, с какой неприкрытой гордостью мама, сегодня необычно молчаливая, смотрит на Нуалу, как жадно ловит каждую ноту ее голоса, как со слезами на глазах комкает в руке платок. К тому времени, как начинают петь «Где-то над радугой», мама уже чуть ли не рыдает.
Сестра, надо признать, играет лучше, чем Эйдин ожидала. Даже очень неплохо, она определенно самая талантливая актриса на этой сцене и одна из немногих, кто поет в тон. Но сам спектакль – скучища смертная, к тому же американская сказка напоминает Эйдин о Шоне, и она вновь и вновь гадает – что же она сделала не так, почему он пропал без всяких объяснений?
Вначале Эйдин просто недоумевала. Может, он потерял телефон? Заблудился? Заболел? Раз за разом она отправляла ему сообщения: «Шон, ты где? Что-нибудь случилось?» Но все напрасно. Все выходные она провела в ожидании – и опять ничего. Необъяснимая, мертвая тишина. Спустя неделю после их несостоявшейся встречи Эйдин пришла к выводу: Шон решил с ней порвать. Просто после первоначального ослепления наконец разглядел, что она некрасивая, тупая, скучная и вообще недостойна внимания: грудь плоская, ножищи огромные, колени торчат – словом, отстой. Парадоксально, но единственным источником утешения для нее стала музыка, которую он ей записал. Оказывается, Nirvana хорошо заходит под разбитое сердце.
После спектакля в школьный вестибюль гурьбой высыпают жевуны. Этюд в голубых тонах: голубые колготки, голубые тени для глаз, голубые шапочки, брюки, сарафаны, комбинезоны… После спектакля царит атмосфера оживления, и Эйдин чувствует себя еще более потерянной в толпе радостных или притворно радостных людей. Каждую минуту-две дверь служебного входа распахивается, очередной артист, смущенно моргая, выходит к зрителям, а родители стоят наготове с завернутыми в бумагу букетами и коробками шоколадных конфет.
Бабушка куда-то пропадает.
Когда выходит Нуала – разумеется, последней, разрумянившаяся, с черными косами, – раздаются жидкие аплодисменты, и папа выкрикивает: «Гип-гип!..», и Киран подхватывает: «Ура!» Мама бежит к Нуале – словно в финале фильма, когда влюбленные воссоединяются после трогательной и смешной, но все же волнующей череды недоразумений.
– Чудесно, дорогая!
Эйдин отворачивается, начинает неторопливо обшаривать глазами вестибюль и вскоре замечает бабушку, стоящую в отдалении. Она прицелилась к парочке чьих-то немолодых родителей – оба простого вида, в очках и толстых куртках, и у обоих лица слегка встревоженные: бабушка уже демонстрирует им свою перевязанную руку. Здоровой рукой она, будто невзначай, хватается за плечо стоящего рядом незнакомого жевуна и держится за него мертвой хваткой.
Все остальные Гогарти между тем выстроились цепочкой, и Нуала принимает комплименты от каждого члена семьи по очереди – прямо как на свадьбе. Дойдя до Эйдин, Нуала наклоняется к ней, так что грудь едва не вываливается из белой рубашки, и шепчет:
– Мне нужно с тобой поговорить.
– Ты залетела?
– Что?
Эйдин пожимает плечами:
– Ничего.
– Только не здесь. – Нуала наклоняется еще ближе, и прядь ее шелковистых волос, невыносимо воняющих лаком, лезет Эйдин прямо в рот. – Приходи сегодня ко мне в комнату. Когда все уснут.
– Что?
– Это важно.
* * *
Уже в двенадцатом часу ночи минивэн Гогарти подъезжает к «Россдейлу», и папа глушит мотор. Над входной дверью горит единственная лампочка, освещающая латунный молоточек, придающий заведению обманчиво домашний вид. Улица на удивление тихая и темная – ни фонарей, ни машин, ни звуков. Эйдин думает: бабушка, должно быть, скучает по шуму прибоя.
– Ну вот, – говорит отец. – Приехали.
– Мне нужно заехать в Маргит, взять документы, – объявляет бабушка, шмыгнув носом.
Папа решительно выпрыгивает из машины и отодвигает заднюю дверь.
– Считаю до трех, – предупреждает он.
– Мне нужно пересмотреть свое завещание. Внести кое-какие поправки.
Кажется, она подмигивает Эйдин? В темноте трудно разглядеть, но вид у бабушки и впрямь какой-то плутоватый.
– Я тебе завтра утром позвоню, – обещает папа и протягивает руку, чтобы расстегнуть бабушкин ремень безопасности.
– Позвонишь? – она загораживает пряжку рукой. – Мне никто ни разу не звонил за все время, что я тут.
– Это абсолютная неправда, – отвечает папа. Он прислоняет бабушкин зонт к машине и протягивает ей обе руки. Бабушка, не глядя на него, вздыхает и откидывается на спинку кресла с таким видом, словно отдыхает у камина.
– Вообще-то да, один звонок был. От Сильвии.
Эйдин вздрагивает.
– От кого? – В голосе отца слышится раздражение. – Ах, от этой…
– Сильвия звонила? – переспрашивает Эйдин.
– Из самой Америки!
– Великолепно, – говорит отец. – Позволь, я помогу тебе выйти из машины, мама. Ну же… дай мне здоровую руку.
Бабушка сердито фыркает:
– Я хочу домой.
– Как только окончательно выздоровеешь, – говорит папа.
– Так Сильвия в Америке? – спрашивает Эйдин как можно небрежнее.
– Операция прошла успешно!
– Какая операция?
– Мама, уже поздно, Кирану пора спать. Давай отложим до завтра? Дай мне, пожалуйста, поровую руку!
Бабушкино лицо затуманивается.
– Погоди… Я разве не говорила? Выходит, нет.
– Ей пришлось делать операцию? – спрашивает Эйдин.
– Ну нет, – отвечает бабушка. – Это же Сильвия. Она здорова, как огурчик. Американка до мозга костей.
Папа вздыхает.
– Но ты же только что сказала, что ей делали операцию?
– Нет, не ей, а тому мальчику, которого она воспитывает, ее племяннику. Ты его не знаешь? Он из Флориды.
– О чем ты говоришь, мама?
– Шон, юный подопечный Сильвии, – разъясняет Милли обстоятельно, словно они все тут слабоумные, – страдает опасным заболеванием.
– Кто такой Шон? – интересуется Нуала.
Все это время, с той минуты, как разорвалась эта бомба, Эйдин почти не дышит. Она пытается переварить все эти путаные сведения, радуясь хотя бы тому, что в темноте не видно ее лица, а заодно тому, что Шон никогда не видел ее сестру.
– В сущности, – продолжает бабушка, – он был уже при смерти, если хотите знать. Он несколько раз заходил ко мне вместе с Сильвией, во всем мне помогал. И весьма кстати. – Она смотрит на папу в упор. – Всякие мелочи, с которыми все некому было разобраться. Он и лампу мне на кухне починил.
– Так ты говоришь, Шон… болен? – спрашивает Эйдин. – Мне так не показалось, бабушка.
– Так ты его знаешь? – спрашивает мама.
Эйдин буркает что-то невнятное, но утвердительное.
– Ох, я уже и не помню, что у него за болезнь такая, – говорит бабушка. Она снимает шляпу и с наслаждением скребет поросший редкими волосами затылок. – Какая-то страшная, смертельно опасная штуковина. Не рак, но… вроде как его дальний родственник! Чудное такое название. Вы когда-нибудь слышали что-нибудь подобное? В общем, они улетели в Америку. Оба. Да неужели я не рассказывала?
* * *
Дома, укрывшись в своей комнате, Эйдин старательно припоминает во всех подробностях разговор в машине. Шон болен, а значит… значит… о господи. Если он болен, то чем именно? А вдруг он умрет? Или больше не вернется в Ирландию? И почему он ей не сказал ни слова? Какая ужасная и одновременно прекрасная новость! Ее парень сейчас, может быть, на грани жизни и смерти, на больничной койке где-то в Штатах. Но зато теперь понятно, почему он так бесцеремонно расстался с ней. Должно быть, заболел как раз в тот день, когда она ждала у его «Бьюли», или еще раньше, и страдал молча, без жалоб – рыцарски, геройски…