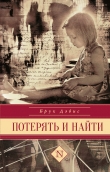Текст книги "He как у людей"
Автор книги: Ребекка Хардиман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
61
Эйдин изучает сидящие вокруг семьи, пытаясь подобрать клинические термины для возможного стихотворения на медицинскую тему. Оказывается, в пункте неотложной помощи Клируотера можно найти немало источников вдохновения. Рана Гаса хоть и не так страшна, как в фильмах ужасов, но все-таки еще кровоточит, и это выглядит довольно жутко, не говоря уже о стремительно наливающейся разноцветной, как в мультиках, шишки, выпирающей из головы, словно лава. Как будто озорной мышонок только что треснул его чугунной сковородкой.
Гас с бабушкой скрылись за зеленой дверью – волшебным порталом, который открывается очень редко – примерно два раза в час, – и, когда это происходит, все головы в тихой, битком набитой приемной нетерпеливо поворачиваются в ту сторону. Они ждут. Кто-то играет на телефонах; какая-то тетка рассеянно обмахивается брошюрой под названием «Анальный зуд: причины и лечение».
Когда они были еще в квартире, Гас сказал, что скорая ему не нужна, и Милли подумывала даже сесть за руль «Мерседеса» Сильвии, но в конце концов они просто вызвали такси. Эйдин сидела впереди и слушала, как бабушка твердит: «Все будет хорошо, Гас. Все будет просто отлично». Когда эта мантра пошла на третий круг, Эйдин поняла, что бабушка просто заговаривает ему зубы, а на самом деле ужасно волнуется.
Иногда ложь необходима и даже благородна.
Ожидание изматывает, запах здесь больничный, и холодновато, и стулья казенные, но все же в этом месте есть что-то странно интимное. Здесь Эйдин ощущает небывалую до сих пор близость с гражданами этой страны – никакого сравнения с ее одинокой прогулкой по шоссе, или аптекой, или закусочной, или торчанием у бассейна в раздумьях о Шоне. (Возможности расспросить о нем Сильвию так и не представилось: этот поезд ушел в тот момент, когда началась заваруха.)
Всем людям в этой приемной так или иначе больно или, по крайней мере, нехорошо, им всем нужна помощь, и это, кажется, не оставляет места для какого бы то ни было притворства и вынуждает снять защитную броню. Для Эйдин это удивительно непривычно: сама она с этой броней никогда не расстается, разве что дома, с родными. Напротив нее на виниловом стуле цвета разбавленной мочи сидит усталая, очень полная молодая мать в джинсовых леггинсах, с тонким золотым пояском на талии, и держит на руках младенца. Девочка (в ушках у нее поблескивают крошечные лиловые точки бриллиантовых сережек) уставилась на Эйдин широко раскрытыми влажными глазами – так серьезно, что не ответить кажется невежливым. Эйдин трижды смущенно закрывает лицо пальцами, изображая игру в «ку-ку», но малышка смотрит на нее без улыбки, все тем же профессорским взглядом – холодно, изучающе. Эйдин это смешит. Пожалуй, надо попробовать написать стихотворение от лица маленького ребенка.
Время от времени входная дверь распахивается, впуская внутрь поток теплого вечернего воздуха, и Эйдин смотрит, как входят в приемную раненые и больные, обычно в сопровождении кого-то из родственников. Неулыбчивая женщина за стойкой администратора тут же велит им пройти регистрацию с помощью автоматов, расположенных у дальней стены. Пожилые люди явно теряются и не знают, что делать, но их все равно отправляют к терминалам. Эйдин это начинает раздражать: люди явно нуждаются в элементарной человеческой помощи и не получают ее. Бледная миниатюрная женщина с морщинистым лицом, в фиолетовой ветровке, в полном замешательстве стоит перед экраном и что-то тихонько бормочет. Для нее это все равно что кабина пилота или машина времени.
Эйдин не в силах больше на это смотреть. Хотя это совсем не в ее характере, она подходит и говорит:
– Вам помочь?
Она выуживает из ветхого бумажника женщины водительские права, вынимает их из пластиковой обложки и проходит вместе с ней всю эту бюрократическую процедуру, этап за этапом. Датчик пищит, когда она проводит правами под красной лампочкой – сначала одной стороной, потом другой. Затем автомат требует карту медицинского страхования.
– «Медикэр», что ли? – переспрашивает женщина.
– Не знаю… – говорит Эйдин, берет у женщины кусочек неламинированного картона – такой тоненький и непрочный для такого важного документа – и проводит им под датчиком. Далее следует еще целая серия вопросов, подтверждений и проверок, и наконец экран спрашивает, воздерживался ли пациент от приема пищи.
– А?.. – говорит женщина.
– Он спрашивает, ели ли вы что-нибудь в последние двенадцать часов?
– Кекс с отрубями, – отвечает женщина.
Эйдин нажимает «нет». Так они отвечают на новые и новые вопросы, пока не доходят до последнего экрана. Женщина благодарит и предлагает Эйдин доллар, но та вежливо отказывается. После этого она уже не отходит далеко от автомата – на случай, если ее помощь понадобится еще кому-нибудь (дважды так и случается). Наконец зеленая дверь распахивается, и из нее бодро выскакивает бабушка.
– С ним все в порядке. Правда, нужно будет наложить скобы, но ничего, зайду в магазин кантцтоваров и куплю степлер. – Бабушка говорит это с таким невозмутимым лицом, что Эйдин смотрит на нее оторопело, цока не замечает озорную улыбку.
– Господи! – Эйдин смеется, хотя и не уверена, что сейчас подходящее время для шуток.
Бабушка отводит ее в дальний угол этой мрачной комнаты, туда, где народу поменьше, и усаживает на стул.
– С ним все будет хорошо, птенчик, слава богу. Хотя Бог тут и ни при чем. Во всяком случае, он в полном сознании. И болтает вовсю. Но его нужно везти в больницу – здесь скобки не накладывают. – Она смотрит на Эйдин. – Я поеду с ним.
– Тогда и я тоже.
– Нет, – говорит бабушка. – Это просто глупо, мы же…
– Я хочу поехать с вами.
На блузке у бабушки маленькое пятнышко – кровь Гаса.
– Я решила остаться здесь еще на несколько дней, может быть, на неделю, на две. С Гасом. У него сотрясение мозга, кто-то должен за ним присматривать, не то еще заснет и не проснется.
– Разве брат не может за ним присмотреть?
– Наверное, может, – отвечает бабушка, – но Гас попросил меня. И потом, Эйдин, тебе все равно надо домой. Я пообещала твоему отцу. Если ты завтра же не сядешь в самолет, он мне точно голову оторвет.
– Я одна не полечу! – говорит Эйдин так громко, что посетители начинают оглядываться с любопытством.
– Но почему? Ты же здесь бродила повсюду одна, и ничего?
– Я не могу.
– Можешь.
– Но как же так? Улететь, и на этом конец? А какой тогда смысл? Ничего у нас не вышло. Сильвия осталась безнаказанной, деньги тебе не вернули. Шона я так и не увидела.
Бабушка усмехается.
– Ну, не совсем ничего не вышло. Даже совсем не ничего.
– Двойное отрицание.
В грамматике ты сильна, Эйдин.
Эйдин мрачнеет с каждой секундой. Все, хватит с нее! Она уже сыта по горло и этими разговорами, и этой клиникой, и этими шуточками, и этой страной!
– Иди сюда, я тебе расскажу, – говорит бабушка. – Полиция может выдать ордер на арест Сильвии. Боб сказал, что случай с Гасом будет рассматриваться как нападение, если он подаст заявление. Но даже если не подаст, мы хорошо сделали, что поехали за ней к мистеру Пейлу. Он, похоже, здесь большая шишка, или был раньше, что-то связанное с инвестициями в систему лазерной эпиляции. Не знаешь, случаем, что это такое? Как бы там ни было, они собираются начать расследование. К обману пожилых людей здесь относятся очень сурово. Целый специальный отдел этим занимается.
– Но если ее посадят в тюрьму, как же Шон?
Эйдин тут же представляет, как ее любимого снова передают под опеку первому попавшемуся родственнику или, еще хуже, на воспитание в назначенную государством семью. Или он оказывается в каком-нибудь учреждении. Или на улице.
– Ему же скоро исполнится восемнадцать?
– В мае.
– Ну вот, значит, с ним все будет в порядке.
Эйдин тут же приходит в голову нечто немыслимое и опасное: явиться прямо в квартиру Сильвии и потребовать впустить ее. Мысленно она уже поднимается по лестнице и слышит дико грохочущую музыку, еще даже не подойдя к двери. Наверное, у него на плече висит гитара, если он только что на ней играл…
– Знаешь, что меня больше всего поразило, если честно? – спрашивает бабушка. – Сильвия испугалась. Пусть на минуту, но всерьез.
– Это правда.
– И меня это очень радует. Не то чтобы мне нравилось пугать людей, но сам факт…
– Да, я понимаю.
– Пусть я старуха, – говорит бабушка, – но я пока еще не труп, черт возьми.
– Ты крутая, бабушка.
– А как ты ключи в штаны засунула!
Эйдин улыбается.
– Кажется, ей это не очень понравилось, – говорит Эйдин шепотом – для комического эффекта, и вскоре они обе уже смеются, вспоминая свои абсурдные приключения.
– А что в итоге стало с ключами? Ты их там оставила? – спрашивает бабушка.
Эйдин извлекает ключи из кармана.
– Не знала, что с ними делать.
– Сувенир? – Бабушка встает. – Тебе пора идти собирать вещи. Встретимся в «Отверженных».
– Бабушка, а как же твое кольцо?
Бабушка вздыхает и складывает руки на коленях.
– Да, это большая потеря. Тут ничего не скажешь.
Мне был двадцать один год, когда твой дедушка сделал мне предложение, ты это знала? Никогда не забуду его лицо. Такое перепуганное, как будто вот-вот описается от страха. Кажется, до этого момента я не верила, что он меня любит. А кольцо – это было кольцо его бабушки. И с тех пор оно всегда было со мной, не считая самого первого дня. Я тебе не рассказывала эту историю?
Рассказывала, конечно. Эйдин Гогарти и сама могла бы рассказать ее слово в слово.
– По-моему, нет.
Мать с младенцем пристально наблюдает за ними. Половина приемной, кажется, подслушивает, просто от скуки. Бабушка выпрямляет спину, и вот ее уже нет здесь – она перенеслась в Дублин, в тот чудесный день. Кольцо ей велико, оно соскальзывает с пальца, а они с Питером даже не замечают, где и когда, и ее нареченный ползает на коленях в траве (и откуда взялось такое идиотское слово – «нареченный»? – мысленно спрашивает Эйдин), а на следующий день замечает объявление, и вот наконец бабушка пьет чай с нашедшей кольцо женщиной в отеле «Шелбурн» и угощает ее сэндвичами и сконами со взбитыми сливками.
– Со взбитыми сливками? – переспрашивает Эйдин, отмечая эту новую деталь, и не знает, правда это или вымысел, и имеет ли это какое-то значение.
– Со взбитыми сливками, – повторяет бабушка. – И, помнится, с клубникой.
62
Пусть с годами Милли Гогарти все реже удается приносить пользу людям, но вряд ли когда-нибудь ей выпадала более приятная роль, чем сейчас: просто сидеть рядом с Гасом Спарксом, весело щебетать, пока он, обессиленный, но благодарный, лежит на больничной койке. Она подходит к этой задаче со всем энтузиазмом и делится с пациентом, чей диагноз – сотрясение мозга – пока под вопросом, самыми разными красочными наблюдениями, которые она, в точности как Эйдин, успела собрать в приемной пункта неотложной помощи, пока его не перевели сюда. Рассказывает о джентльмене с красным воспаленным глазом, о медсестре в ужасных туфлях, которая дважды, насколько она успела заметить, удирала со своего поста, чтобы покурить на крыльце, и так далее.
Вечер, но еще не очень поздно, и из большого окна на шестом этаже видно бескрайнее розовое небо. Милли не из тех, кто привык скрупулезно следить за своим эмоциональным состоянием, однако она не может не признать, что сейчас, в этот момент, в этой комнате, в этой стране, рядом с этим человеком ощущает какую-то удивительную легкость. Даже после всех ужасных потрясений и бед этого дня ее все-таки греет чувство, что она на своем месте.
Но Гас выражает беспокойство о той, кого с ними нет, а именно об Эйдин. Тогда Милли просит одолжить ей на минуту сотовый телефон и вскоре выясняет, что внучкин чемодан уже собран и стоит у двери, а сама она преспокойно полеживает на кровати в «Отвержен-ных», поедает шоколадные батончики со странными названиями и смотрит шоу «Девятнадцать детей – не предел».
Приехали: Эйдин полностью американизировалась.
Милли хлопочет вокруг Гаса так, будто они сто лет женаты: наливает воды из графина, стоящего на столике, осторожно вставляет Гасу в рот соломинку и придерживает стакан, пока он пьет. Ей вспоминается, как она ухаживала за Питером после того ужасного инсульта, хотя тогда все было много хуже: его пришлось заново учить и сидеть, и стоять, и есть, и говорить. «Я Милли. Я твоя жена». Питер, пожалуй, счел бы Гаса человеком до неприличия прямолинейным, но все же неплохим.
Наконец, Гас кивает, и Милли, внутренне собравшись, приступает к следующей, гораздо менее приятной задаче. Она выходит в безмолвный коридор и набирает номер сына. Тогда, много лет назад, это Кевин обнаружил отца на шезлонге в саду с прикрытым кепкой лицом. Тогда они упустили немало драгоценных минут, потому что Кевин не догадался, что у него сердечный приступ, и не стал будить отца. В больнице Кевин все повторял: «Я думал, он просто спит», – всем, кто готов был слушать: и администратору, и медсестрам, и врачу. И ей, Милли, которая, сама онемев от ужаса, вряд ли могла толком его успокоить.
Медсестра, похожая на Винни-Пуха в своем бледно-розовом форменном костюме, деловито катит мимо какой-то сложный агрегат, напоминающий тележку с напитками в самолете, только сплошь оплетенный какими-то трубками и проводами. Милли слышит короткое «привет» сына. Она пытается вспомнить, когда в последний раз говорила Кевину, что любит его, или хотя бы простое спасибо. И когда она последний раз сознавалась в чем-то Кевину, признавала свою ответственность за что-то?
Милли заглядывает в палату Гаса: он лежит, закутавшись в простыню, его прекрасное, мужественное, старое лицо повернуто в ее сторону. Вероятно, она еще пожалеет об этом, когда Кевин не захочет отдавать ей ключи от машины или станет разговаривать с ней, как с выжившей из ума старухой, да и сейчас ей тяжело дается эта уступка. И все же она решается. Она говорит ему:
– Прости.
63
В зале прилета в аэропорту Дублина Эйдин сразу же бросается к отцу, и он подхватывает на руки так, что ее высокие кроссовки с развязанными шнурками повисают в нескольких дюймах над полом, и душит в объятиях. Пожалуй, это самое унизительное публичное проявление родительских чувств, какое Эйдин приходилось терпеть за все ее трудные годы взросления. На миг в ней просыпается прежняя презрительная враждебность. Ужасно бесит, когда ее даже не спрашивают, хочет ли она, чтобы ее обнимали, как будто она не имеет права голоса.
И в то же время – Эйдин не хочет лгать себе – она втайне замирает от счастья в этом потоке отцовского внимания, с наслаждением купается в нем, пусть и сердито смаргивая слезы. Она дома. Эйдин не забыла, как он умеет иногда раздражать, каким бывает недотепой, как часто злоупотребляет своей властью и бесцеремонно вмешивается в ее дела («вторгается в личное пространство», как говорят в Америке). Но все-таки, черт возьми, – это ее папа!
А ведь когда-то – она теперь с трудом вспоминает, как и почему, – она стала сомневаться, что родители ее любят. Теперь ей это кажется полным идиотизмом. Кажется, из всего этого мог бы получиться неплохой лимерик, но сейчас не до этого.
– Ты понимаешь, – говорит папа, когда они уже идут к автостоянке, – что тебе предстоит сидеть под замком ближайшую четверть века?
А правда, какое ее ждет наказание? Все девять часов в небе она терзалась мучительной тревогой. Но, как ни удивительно, ни о какой школьной чепухе речи не идет вообще. Может быть, ее исключат, может быть, ей придется сменить школу, а может быть, ее заставят вернуться в Миллбери и предстать перед Бликленд.
И вот они уже подъезжают к дому в Долки, который теперь, после ее путешествия, поражает своим царственным великолепием по сравнению с пастельными новостройками, на фоне которых разворачивались ее недавние приключения. Нуала, Киран и Джерард – он приехал! – все такие красивые и тощие, как модели, выходят на крыльцо и спускаются по каменным ступеням. Вид у всех странно нерешительный, будто никто не знает, что теперь говорить и что делать. Джерард первым подходит к Эйдин, горестно качая головой.
– Ну как ты? – он обнимает ее и обзывает балбесиной. Сестра тоже обхватывает ее руками и тут же начинает радостно трещать. А вот она никогда не была в Америке! А какие там парни? А правда, что там все девушки ходят в бикини? Киран тихонько берет Эйдин за руку. Теперь Эйдин понимает, что чувствует Чёткий, когда его окружает толпа фанатов. Рок-звезда, блин.
Эйдин вытаскивает из машины свой чемодан и идет к дому. Мама стоит в дверях, скрестив руки, с непонятным выражением лица. Радость? Печаль? Облегчение? Все вместе? Уголки маминых губ сползают вниз. На ней папин фартук с надписью «Вам еще не надоело смотреть, как я работаю?». Уголком фартука она вытирает глаза. Хм, думает Эйдин, кажется, все-таки все вместе…
Эйдин хорошо владеет собой, чертовски хорошо – до тех пор, пока мама не зовет ее по имени и не раскрывает объятия.
* * *
Из школы Эйдин теперь никуда не выпускают, и она проводит вечера перед экзаменами в комнате отдыха в «Фэйр»: играет в пинг-понг и жарит тосты вместе с Фионой Фэллон. Фиона не такой безбашенный ураган, как Бриджид, зато и не такая безжалостная. Эйдин умиляет, что новая подруга постоянно пытается резать мячи, даже когда это явно безнадежно, и со временем ей даже стали интересны Фионины рассказы, пусть и путаные, о многочисленных курах (она их всех зовет по именам), живущих на ферме ее родителей, и о том, как она вздыхает по Уильяму Рашу – двадцатилетнему деревенскому парню с кустистыми бровями, у которого ее отец покупает тракторы.
Эйдин ведет с перевесом в шесть очков, когда Бликленд вдруг окликает ее из своей застекленной крепости. Девушки переглядываются. Эйдин разрешили вернуться в школу с условием, что она принесет извинения Бликленд, но с тех пор ей удается избегать разговоров с ней и прямых взглядов. Вот бы и дальше так. Доучиться в Миллберне еще два года, избегая всякого контакта.
– Что такое? – спрашивает одними губами Фиона. Эйдин только пожимает плечами, хотя чувствует, как к горлу подкатывает тошнота, и откладывает деревянную ракетку.
Бликленд стоит в главном вестибюле и сортирует дневную почту, раскладывая ее по маленьким стопочкам. Это письма для иностранных учениц, в основном младших, отчаянно тоскующих по дому: для них это необходимый глоток радости и условие душевного равновесия. Бликленд молча протягивает Эйдин конверт, и, хотя угловатый почерк Эйдин незнаком, обратный адрес – «Клируотер, Флорида».
Гас!
Она уже собирается бежать, но Бликленд произносит своим раздражающе бесстрастным голосом:
– Кажется, я видела трусики на батарее возле твоей кровати?
Вот еще! Эйдин Гогарти никогда бы не пришло в голову вывешивать на всеобщее обозрение свое белье, даже там, где одни девушки.
– Одежда на батареях – это нарушение правил пожарной безопасности.
– Я сейчас пойду и уберу, – говорит Эйдин и думает, что такой обыденный выговор за мелкое нарушение можно, пожалуй, считать признаком разрядки.
Старая дева устремляет на Эйдин свой непроницаемый взор. Хоть и с трудом, Эйдин все же заставляет себя посмотреть ей в глаза. Она надеется, что Бликленд прочитает в ее взгляде то, что она пытается сказать без слов: «Простите меня». А затем направляется прямиком в туалет на втором этаже.
Привет, Эйдин.
Не поверишь, это мое первое в жизни письмо. Я потерял телефон (с твоим номером), приходится писать, как древние люди. Мы вернулись во Флориду, но ты, наверное, уже догадалась? Я снова хожу в школу и собираю свою старую группу, только нет бас-гитариста. Я пишу новую песню, там есть прикольное место про того эксгибициониста, которого мы видели, помнишь? Как твои дела? Как живется в заточении? Как там эта хромая фашистка? Прости, что не пришел на встречу в кафе. Хреново вышло.
Длинная история, слишком долго писать. Позвонишь? Что там за темная история с Сильвией и твоей бабулей? Слышал какой-то бред. Ты слушаешь мой плейлист?
Скучаю по Дублину и по тебе.
Позвони?
Шон 727873 0980
Только дойдя до подписи, Эйдин замечает, что перестала дышать. Она перечитывает записку еще трижды и только потом наконец позволяет себе в полной мере ощутить восторг, сумасшедшую, ничем не сдерживаемую радость от этих двух последних слов. Все девочки ушли гулять, или играть в хоккей, или еще куда-то – неважно, главное, в школе пусто. Эйдин без опаски во весь голос выкрикивает: «Ура!» и пытается сплясать какой-то дикий победный танец, ударяясь локтем о держатель для туалетной бумаги. «Позвони!»