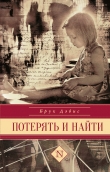Текст книги "He как у людей"
Автор книги: Ребекка Хардиман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Раздается два негромких удара в дверь, и Эйдин видит свежее, безупречно правильное лицо сестры.
– Что такое?
– Тс-с-с! Ты же должна была сама прийти.
Чума с тихим щелчком закрывает дверь, перешагивает через вороха разбросанных по полу трусов – так невыразимо грациозно, что Эйдин хочется дать ей пинка, – и со вздохом садится на кровать. Она удивительно красивая: ясные светлые глаза, густые изогнутые брови, глянцевый румянец на щеках и все остальное.
– Мама с папой ужасно поссорились. Ужасно.
– Из-за чего?
– Не знаю.
– Не знаешь?
– Я не все поняла. Было очень поздно. Я уже спала, но проснулась от криков.
– Когда это было?
– В их годовщину – значит, во вторник? Оба так кричали – прямо во все горло. Ты бы только слышала. А потом папочка…
Эйдин терпеть не может это ее вечное «мамочка, папочка». Этакая наигранная детскость, манипулятив-ное выпрашивание родительского внимания, проверенный способ сделать так, чтобы с ней еще больше носились, трепали по холке, как хорошенького пудель-ка. «Умничка, Нуала, послушный щенок, давай, неси палочку». Сама-то Эйдин уже подумывает, не пора ли перейти от «мамы» с «папой» к «Грейс» и «Кевину».
– Не реви только. Этого дерьма мне еще не хватало.
Нуала сжимает губы, но они все равно дрожат. В этой ее маленькой борьбе с собой Эйдин видится что-то похожее на мужество. И это трогает ее настолько, что она совершает невообразимое: кладет руку на спину сестры, и от этого беспрецедентного жеста Нуала мгновенно капитулирует. Она уже не такая красивая. Ноздри у нее раздуваются, слезы текут ручьями из покрасневших глаз, оставляя на точеном лице влажные светлые дорожки. Вместо того чтобы закрыть лицо руками, как это наверняка сделала бы сама Эйдин, потому что ненавидит показывать на людях какие бы то ни было эмоции, Нуала беспомощно втягивает голову в плечи, оборачивается к сестре и валится ей на грудь.
Эйдин в первый миг неловко каменеет, но потом прижимает Нуалу к себе, как когда-то, без всякой неловкости и замешательства. Она искренне сострадает сестре.
– Ничего, обойдется, – говорит Эйдин.
– Нет, не обойдется.
– Все люди ссорятся. Тем более мужья с женами.
– Нет. Кажется, они разводятся.
– Глупости! Никто и не думает разводиться. С чего ты взяла? Это они так сказали? Прямо такими словами?
– Нет, но они теперь почти не разговаривают. А он в подвале спит.
– Да иди ты!
– Говорю тебе.
– Хрень какая-то.
– Ты же не знаешь, что тут творится. Говорю тебе – он дожидается, пока мы все не ляжем спать, а потом спускается туда. Я и постель его там в шкафу видела – большущий такой ком. Если мне не веришь, посмотри сама.
Они долго сидят молча, и наконец Нуала говорит:
– Так жалко, что ты не можешь все время тут жить.
31
Половина «Россдейла» даже не выходит в столовую на чай. Им приносят подносы прямо в спальню, а каких-то бедолаг и вовсе кормят через нос, через пупок, через ноготь большого пальца на ноге или бог знает через что еще, Милли Гогарти не в курсе. Большинство пациентов, или «клиентов», как их тут называют, из тех, что еще способны таскать ноги или кататься в кресле, после чая собирается в комнате отдыха перед телевизором, и оттуда то и дело доносятся жалобы, что ничего не слышно (еще бы: этот телевизор оглушит и тромбониста со стажем). Милли же по вечерам обычно болтает с миссис Джеймсон. Она уже, можно сказать, полюбила свою соседку, и отсутствие взаимности ее не смущает. Но иногда, вот как сегодня, мысль о том, что придется опять просидеть весь вечер в тишине, уже вызывает у нее глухое отчаяние.
Она поглядывает на стариков и старух – тех, что хоть и дряхлые, но еще в сознании, взглядом приглашая составить ей компанию, но, похоже, никто этого не замечает. Ну что ж. Милли, несколько обескураженная, уходит одна, прижимая здоровой рукой недавно приобретенную книжку в мягкой обложке – «Мастер желания». Другая рука, которую здесь ежедневно бинтуют несколькими слоями стерильной марли, висит, как в гамаке, на темно-синей перевязи из плотной ткани. Она пополнила собой растущую коллекцию нерабочих конечностей и больных мест: замороженное плечо, хромое колено, пара отвратительного вида мозолей.
Устроившись в одном из самых неудобных кресел (а нечего было так долго раздумывать), Милли вновь погружается в перипетии невероятного романа между чувственным чикагским преподавателем кукольного театрального мастерства и знойной батрачкой из Южной Дакоты – и вдруг чувствует на себе чей-то взгляд. Это Анна – застенчивая, страдающая артритом старая дева. Все предыдущие попытки Милли завести с ней разговор неизменно оканчивались неудачей. Но сейчас Анна стоит в кругу золотистого света, падающего от лампы, и с откровенным любопытством разглядывает обложку ее книги. На обложке сладострастного вида молодой человек, голый по пояс, в потертых джинсах, стоит за спиной пышнотелой женщины в квадратных очках. Оба застыли в надрывно-эротических позах.
Милли едва не фыркает. Эти молодые воображают, будто секс – их изобретение. Уж ее-то никто не мог бы обвинить в ханжестве. Они с Питером однажды занимались этим делом в лесу среди бела дня, на клетчатом пледе. Среди бела дня! В лесу! И все же несколько досадно сознавать, что, как она ни старается, большую часть сексуальных эпизодов своей жизни ей не удается припомнить сколько-нибудь живо и подробно: все это было у нее только с мужем и уже давным-давно.
– Не могли бы вы почитать немного вслух, Милли, если вы не против? – просит Анна. – Ужасно хочется послушать какую-нибудь историю.
Против? Она? Милли чувствует себя польщенной тем, что эта женщина, оказывается, знает ее имя! Она приглашает Анну сесть рядом, делая вид, будто сметает пыль с соседнего кресла, будто хозяйка, принимающая гостью за ужином, и приступает к сцене, где отношения между диковинной парой из поместья «Буколика» еще только начинают развиваться.
Стоит Милли прочитать несколько абзацев, как вокруг собирается пусть небольшая, но весьма заинтересованная аудитория: один с виду еще довольно ясный разумом старик с белыми пучками волос, полумесяцами торчащими из ноздрей, и две безобидные болтушки, известные под общим именем Мэри С. (Мэри Салливан и Мэри Смит), которых редко можно увидеть поодиночке.
– «Роберта понимала, что она хочет Хэнка, – читает Милли. – Такого острого желания она не испытывала еще никогда. Тело ее трепетало, а сердце колотилось, когда она смотрела, как он вытирает свой блестящий от пота рельефный живот, остановившись передохнуть во время уборки сена, или возится с культиватором, или похлопывает по спине Расти, своего огромного мерина».
– Ага, так это мерин ей приглянулся? – вставляет Анна.
Милли вместе со всей небольшой компанией весело смеется над этой неожиданной шуткой – редким проблеском озорства в этом доме. Все устраиваются поуютнее в креслах, и улыбки постепенно гаснут, уступая место спокойному удовольствию, предвкушению нескучного вечера. Все слушают.
– Нельзя ли там потише? – кричит какая-то женщина из темноты. – Я телевизор смотрю!
Это Элизабет Колдинг. Она зачем-то уселась как можно дальше от телевизора – у противоположной стены, и ее грубая физиономия, вся в пятнах розацеа (алкашка, не иначе!), сердито поворачивается в сторону Милли и компании. Колдинг – полицейская на пенсии – не пользуется здесь популярностью. Лицо у нее похоже на сырой стейк с белыми прожилками, и от нее всегда исходит странный запах рыбного соуса.
Милли, глядя на Анну, воинственно приподнимает бровь. С такой аудиторией она невольно чувствует себя отчасти революционеркой. Она продолжает читать, не снижая громкости:
– «Роберта протянула руку к рельефным кубикам на животе Хэнка. Он устремил на нее изумленный взгляд. Роберта ощутила под рукой густые мужские волосы. Ее великолепно ухоженные ногти скользнули к большой блестящей пряжке его ремня…»
– Да заткнетесь вы или нет?! Мне новости не слышно.
– А вам не приходила в голову мысль, – отвечает Милли царственным, подчеркнуто ледяным тоном, – пересесть поближе к телевизору?
– Здесь комната отдыха, а не библиотека, тупица!
– Сама она тупица, – говорит старик, к большому удовольствию Милли.
– «…И она нежно провела пальцами по темнорыжей поросли…»
– Хулиганка! – возмущается Колдинг. – Прекрати сейчас же!
По комнате разносится хруст колена – раз, другой. Очевидно, это Колдинг извлекает свое долговязое костлявое тело из темных глубин замызганного дивана. Где-то в другом конце комнаты кто-то громко зевает. Милли воображает, что перед ней разыгрывается сцена из фильма, только действующие лица этой трагикомедии – скрюченные, беспамятные, сморщенные, по-стариковски упертые, склеротичные, с опухшими ногами, сердечными перебоями, плохим слухом, хрупкими костями, ноющими мышцами и затуманенным зрением.
Впрочем, Колдинг, с грозным видом надвигающая-ся на их маленькую компанию, еще на удивление бодра для своих лет.
– Вот нахалка, – шепчет Анна.
– Эгоистка старая! – кричит Колдинг, потрясая пальцем в воздухе. – Я тебя сейчас сама заткну!
То, что происходит дальше, самой Милли представляется скорее заурядной семейной разборкой, хотя персонал «Россдейла» позже охарактеризует это как вопиющий акт насилия. Она хватает «Мастера желания» здоровой рукой и запускает в Колдинг. Должно быть, годы пьянства притупили реакцию бывшей полицейской: она не успевает даже пригнуться. Роберта с Хэнком падают у ее ног и приземляются на плиточный пол порнографической обложкой вверх.
Повисшую в комнате напряженную тишину нарушает пожилой джентльмен, которого Милли про себя прозвала Дубиной Коналлом: как раз в этот момент он входит и спрашивает:
– А щипчиков для ногтей ни у кого нет?
Колдинг начинает орать какую-то чушь: «Дайте мне форму пациента 12А!» – и вдруг осекается. На щеках у нее расплываются ярко-красные пятна. Она показывает пальцем на книгу, распластанную на полу
– Где ты это взяла?
– Внучка принесла.
– Врешь! Она пропала вчера из моей комнаты. Сестра!
Тут же отовсюду налетают местные кумушки, начинают неодобрительно хмуриться и расспрашивать. Милли выводят из комнаты, шепча ей что-то успокаивающее – как будто она слетела с катушек и ее нужно привести в чувство, – и оставляют ждать в кабинете миссис Слэттери, где позже та читает ей утомительную лекцию о надлежащем поведении и о нарушении правил «Россдейла». Под конец миссис Слэттери сообщает Милли, что вечера в гостиной в компании других обитателей «Россдейла» – единственное развлеченне, хоть как-то помогающее пережить черные дни, – для нее пока отменяются. Это несправедливое наказание – одновременно излишне жестокое и унизительно мелочное, и Милли, услышав об этом, вскакивает на ноги.
– Это возмутительно!
– Миссис Гогарти, сядьте, прошу вас. Все будет хорошо. Давай обсудим это спокойно.
– И сколько же мне торчать в этой комнате одной?
– Вы не одна. С вами Эмма Джеймсон…
– Вы шутите, да?
– Это временное ограничение, всего на несколько дней.
– Может, мне всего-то несколько дней и осталось.
– Вы чуть не ударили женщину книгой, – напоминает миссис Слэттери.
– В мягкой обложке.
– Уже поздно. Давайте поговорим об этом завтра, хорошо? К тому времени вы выспитесь, и все предстанет в другом свете, правда ведь? – Миссис Слэттери хлопает в ладоши. – Есть еще какие-нибудь вопросы перед тем, как вы пойдете отдыхать?
– Есть, – говорит Милли. – Когда я вернусь домой?
Миссис Слэттери – седовласая женщина еще вполне ясного ума, хотя ее дрожащие пальцы свидетельствуют о ранней болезни Паркинсона, женщина, которая, кажется, сама уже недалека от того, чтобы поселиться здесь доживать свой век, вздыхает и смотрит на Милли словно бы оценивающе.
– Я буду с вами совершенно откровенна. Я восхищаюсь вашей энергией. Силой вашего духа. Правда.
По-моему, вы замечательный человек. Вы напоминаете мне мою тетю Маргарет, она тоже была… крепким орешком. Вы молодец, что не сдаетесь. И все же нужно смотреть правде в глаза. Нельзя прятать голову в песок, миссис Гогарти. Это ни от чего не спасает. А правда в том, что… с возрастом мы все сталкиваемся с некоторыми… физическими ограничениями, травмами, болезнями – что делать, такова реальность. Вот почему вы здесь – мы должны помочь вам снова встать на ноги.
32
Воскресным утром, в тот час, когда все его соотечественники или отправляются к мессе, или еще спят, Кевин стоит перед дверью чужого дома. На окнах кружевные занавески, внутрь никак не заглянуть. В его собственном доме, в десяти минутах ходьбы отсюда, сейчас, должно быть, сонное царство, хотя откуда ему знать наверняка – его же выставили оттуда, выгнали без всяких церемоний, без пощады и слез. Грейс просто велела ему проваливать. Она сказала, что не хотела торопиться и обдумывала решение несколько дней, надеялась, что сможет смириться с его предательством. Но на представлении «Волшебника из страны Оз», когда ее взгляд упал на него, сидящего рядом с детьми, она поняла, что ей больше всего хочется ударить его по роже. И с тех пор это желание не пропало. Все это было изложено ровным, спокойным, безучастным тоном – так обращаются к кассиру в банке, когда хотят снять мелкую сумму. Он же, напротив, был само обнаженное сердце. Мгновенно запаниковал. Пытался объяснить, успокоить, вымолить прощение.
– На самом деле ничего даже не было! Клянусь! – лепетал он. – Один-два поцелуя, и они даже не привели к… сношению. Я люблю тебя. Не делай этого.
Этот разговор – пугающе спокойный с одной стороны и запальчивый с другой – состоялся по инициативе Грейс в дальнем конце сада, чтобы не слышали дети. Только услышав про «сношение», Грейс наконец проявила какие-то эмоции и пронзила мужа испепеляющим взглядом: кажется, именно это слово показалось ей особенно отвратительным. Ее всегда злило его пристрастие к замысловатым выражениям в серьезные моменты, дурацкая привычка выпендриваться именно тогда, когда лучше бы обойтись простыми словами. После этого Грейс уже не дала ему сказать ни слова – дошло до того, что даже заткнула уши, закрыла глаза и только повторяла: «Нет, нет, нет». Потом она стала излагать свои условия и практические соображения на ближайшее время – что-то о второй машине, о банковской карте, но Кевин услышал только одно: он не должен пока ни разговаривать, ни видеться с детьми. Ей нужно время подумать.
– Ты что, серьезно? А кто же будет ими заниматься?
– Я что-нибудь придумаю.
– Ты собираешься нанять кого-то возить их в школу и кормить? Это же смешно. Я могу спать внизу, пока Все это не… пока мы со всем не разберемся. Им же нужно…
– Уходи. Я не могу тебя видеть.
Он понял, что вот-вот заплачет, чего с ним не бывало со дня свадьбы. Но тогда это были слезы радости: Когда они шли по проходу в церкви, уже муж и жена, и все гости еще стояли вокруг, она повернулась к нему и сказала:
– Дело сделано.
– Сделано.
– Значит, отступать поздно?
Он связал свою жизнь с этой женщиной.
Но в тот вечер в саду Грейс, вся дрожа в тонком кардигане, повернулась к нему спиной и зашагала к дому. – Но, Грейс, ведь ты их наказываешь за то, что я…
– Her, – ответила она, остановившись и обернувшись к нему. – Я наказываю тебе.
Позже, когда он вышел из дома, хрустя гравием на дорожке, с собранной на скорую руку сумкой, дети уже спали. Но, обернувшись, чтобы в последний раз взглянуть на свой дом, он заметил в окне спальни на втором этаже своего маленького любимца, Кирана. Кевин замер. Неужели сын как-то почувстовал, что отец отправляется в ссылку? Киран весело помахал ему рукой – значит, еще не подозревает о том, что произошло. Это было как удар под ложечку. Кевин заставил себя улыбнуться и, помахав в ответ, завел мотор и тронулся. Казалось, что, если вот так ехать и ехать, можно убежать от самого себя.
Толком не думая ни о чем, уже в пути он понял, что едет к дому своего детства. Там, по крайней мере, пусто, а ему нужно побыть одному. Решение отправить мать в «Россдейл» стоило ему немало крови, но, безусловно, было правильным. Там она в безопасности, там о ней заботятся. Подъехав к Маргиту (сплошь унылый, серый, мокрый камень), он увидел, что строительные работы у соседей идут полным ходом: возле огромной ямы стояли два фургона и грузовик-экскаватор, а это означало, что на покой рассчитывать не приходится. К тому же и кухню мама чуть не взорвала. Пригодно ли теперь это место для жилья? Ни чай заварить, ни пиццу разогреть, да и запас вина, скорее всего, на нуле. Нет, покоя здесь не будет. Так и не вставив ключ в замок входной двери, Кевин вернулся к своей машине.
Мик, всегда такой понимающий, в этот раз рассмеялся, скотина, когда Кевин позвонил и спросил, нельзя ли пока у него перекантоваться. Признался, что его выставили из дому, но всю грязь (во всяком случае, большую ее часть) предпочел не вываливать.
– Это была духовная измена, – объяснил Кевин и тут же поежился от стыда за эти выхолощенные слова. Однако он знал, что правда на стороне жены.
– О господи. – В голосе Мика слышалось отвращение – непонятно только к кому, к Кевину или к Грейс. – Ну конечно, можешь пожить у меня, без проблем. Но только той квартиры в городе у меня больше нет.
– Как нет?
– Длинная история.
– А где же ты тогда?
Пауза.
– Ну, в общем, я опять переехал к маме.
Теперь настал черед Кевина разразиться хриплым смехом. Он хохотал до истерики, так, что чуть не лопнул. Наконец, придя в себя, сказал:
– И у тебя еще хватает совести на меня наезжать?
– Иди ты, – отозвался Мик. – Ну что, до встречи?
33
Стоя в дверях комнаты номер 302, Эйдин наблюдает за своей бабушкой: та садится на корточки перед открытым шкафчиком миссис Джеймсон и запихивает два яблока и бутылку воды в наволочку со штампом «Россдейл».
– Что это ты делаешь?
– Эйдин! Заходи, быстрее, и закрой за собой дверь.
Бабушка, похоже, прячет сумку под стопку кардиганов своей соседки по комнате.
– Это что, нож? – спрашивает Эйдин.
Милли опускает взгляд и видит, что из ее перевязи торчит кончик недавно украденного столового ножика.
– Вот молодчина, – говорит Милли. – А я-то его ищу-ищу. – Милли прячет ножик в наволочку. – Хочешь фруктов?
Она уводит девушку на свою половину комнаты и показывает на тарелку несведенного тушеного чернослива, напоминающую чашку Петри, в которой мокнут крошечные мозги. Эйдин фыркает.
– Слушай, я ужасно рада, что ты пришла, – говорит бабушка. – Мне нужно попросить тебя об одном одолжении.
– Бабушка, помнишь, в пятницу вечером в машине ты говорила про Сильвию? После Нуалиного спектакля. Ты сказала, что Шон болен и что Сильвия увезла его в Америку. А ты знаешь куда?
– В Нью-Йорк. В специализированную больницу.
– Но куда именно? В какую больницу? Что тебе сказала Сильвия? Когда звонила?
– Хотела узнать, как я тут. Кажется, она по мне скучает. Мы, знаешь, очень с ней подружились.
– А о Шоне она что говорила?
– А ты разве знаешь Шона?
– Конечно, знаю! – раздраженно фыркает Эйдин. – Я же у тебя с ним познакомилась, ты что, не помнишь?
Бабушка говорит:
– А я и не догадывалась, что вы с ним подружились.
Эйдин опускает голову и в общих чертах рассказывает о своем внезапно прервавшемся, едва начавшись, романе.
– Не говори никому, обещаешь? Вряд ли маме с папой это понравится.
Бабушка что-то понимающе бормочет.
– Но теперь у него все хорошо, правда? Ты же говорила, что все вроде как успешно прошло?
– Да-да, – подтверждает бабушка. – Они вот-вот вернутся.
Эйдин с разочарованным вздохом опускается на кровать, хмурит брови и не знает, куда девать руки.
– Почему же он мне не сказал, что болен?
– Не знаю, Эйдин. Должно быть, не хотел тебя волновать. Может, просто позвонить Сильвии? Где-то тут у меня записан ее номер.
– Господи, бабушка, – говорит Эйдин, мгновенно светлея лицом. – Что же ты сразу не сказала?
Бабушка отчетливо помнит, что записала номер Сильвии, но, к сожалению, не столь отчетливо помнит, куда его положила. И тогда Эйдин, с бабушкиного разрешения, начинает обыск в комнате номер 302. Она перебирает скудные бабушкины пожитки, перетряхивает постель и обнаруживает разные диковинные предметы, совершенно в бабушкином духе: засохшие кусочки хлеба, засаленную маску для сна. А самое странное – приподняв матрас, Эйдин замечает под ним сборник карт с маршрутами городских автобусов.
Тем временем бабушка отдергивает занавеску, разделяющую комнату на две половины, и начинает рассказывать жутковатому иссохшему телу на соседней кровати о том, что происходит.
Мы тут уже с ног сбились – ищем номер Сильвии. Мой Питер всегда говорил, что я куда лучше умею терять вещи, чем находить. Эйдин непременно хочет его найти, потому что… Эйдин, можно я расскажу миссис Джеймсон всю эту историю, или лучше не надо?
Да, у бабушки точно не все шарики на месте.
Даже здесь от ее комода пахнет Маргитом – неповторимым запахом соленых водорослей и горящего угля. Он пропитал насквозь всю бабушкину одежду и все прочие вещи, способные удерживать запах, – как будто в ее доме не одно десятилетие плескались океанские волны. Вскоре Эйдин добирается до последнего неисследованного вместилища: пластиковой корзинки для мусора, стоящей у двери. Рассматривает и ее неприглядное содержимое – ватную палочку, всю в ушной сере, коричневую сердцевинку яблока, – а затем удрученно опускает корзинку на пол.
– Ты его, наверное, выбросила.
– Она еще позвонит, не волнуйся. И я ей скажу, что ты хочешь поговорить с Шоном. Но, слушай, детка, пока ты не ушла: у тебя деньги есть?
Эйдин пожимает плечами, достает телефон и вытаскивает из чехла свернутую пятерку.
– Вот все, что у меня есть. Бери.
Лицо у бабушки делается такое, будто она вот-вот заплачет.
– Ты просто самый настоящий…
– Да ладно. Бабушка, пожалуйста, подумай еще – куда мог подеваться этот номер?
– Самый настоящий бриллиант. Ты это знаешь? Ты самая…
– А зачем тебе деньги?
Бабушка понижает голос до театрального шепота:
– Завтра мне снимут эту штуку. – Она шевелит рукой в повязке и морщится от боли. – Видела, я там кое-что приготовила?
– Это ты про нож?
– Именно. Вдруг мне придется отбиваться.
– Столовым ножом?
– Вот соберу все вещи и уйду отсюда. Они запретили мне ходить в комнату отдыха, я сижу здесь целыми днями, с меня хватит. А твой отец даже не говорит, когда собирается увезти меня домой. Мне, кажется, нужна для этого его подпись или бог знает что там еще, а я подозреваю, что он решил законопатить меня сюда насовсем.
– Ну нет, он этого не сделает.
– Не знаю, но на всякий случай об этом – ни одной живой душе. Ведь ты не проболтаешься?
– Я не стукачка. – Эйдин серьезно качает головой, но на самом деле она просто хочет успокоить бабушку, ведь безумный план побега, конечно, никогда не осуществится. – Знаешь, я тебе, наверное, смогу еще денег достать, но не раньше следующих выходных.
– «Принцип пирата», – бормочет бабушка. Она подходит к прикроватной тумбочке миссис Джеймсон, где громоздится стопка романов в мягкой обложке, берет один из них и листает страницы. На пол падает бумажный листок.
– Et voila!
– Ну, ты даешь!
Бабушка сияет.
– Похоже, я уже стала из ума выживать, а, Эйдин? Совсем забыла, что читала эту книгу вслух миссис Джеймсон – видишь ли, у меня такое впечатление, что она понимает больше, чем кажется. Как знать, правда? Это только врачи думают, что все знают.
Но Эйдин не слушает – она торопливо хватает листок. Десять цифр, выведенных дрожащей бабушкиной рукой. Эйдин достает телефон и тут же начинает набирать номер.
– Я наберу, а ты поговоришь, ладно? – спрашивает она, замирая от подступившего ужаса. И в то же время она уверена, что еще несколько секунд – и она получит объяснение, которое избавит ее от этой тоски, от этой мучительной неизвестности. Сейчас наступит ясность! Первые попытки оказываются неудачными: приходится вначале разбираться с международными кодами. Но вот, с третьего раза, после небольшой паузы, слышится длинный американский гудок. Сделав знак бабушке и затаив дыхание, Эйдин слушает – один гудок, другой, а затем щелчок. И следом:
– Набранный вами номер больше не обслуживается. Пожалуйста, проверьте номер и попробуйте позвонить позже.
– Странно, – говорит бабушка.
– Вот дерьмо, – говорит Эйдин.