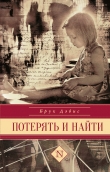Текст книги "He как у людей"
Автор книги: Ребекка Хардиман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Ребекка Хардиман
Не как у людей

Rebecca Hardiman
GOOD EGGS
1
Уже преодолев три четверти пути до магазина – пути, о котором она впоследствии горько пожалеет, – Милли Гогарти замечает, что до сих пор едет на второй скорости, не слыша утробного рокота в чреве своего «Рено». Она переключает передачу. Мысли ее и впрямь заняты совсем другим: соображениями, чего бы купить к чаю с Кевином; новым романом в мягкой обложке, который, пожалуй, стоит захватить с собой в большое путешествие; неожиданно сдохшим телевизором. Вчера вечером, как раз во время повтора «Золотых девочек», экран погас – в тот самый момент, когда героинь приняли за пожилых путан (ну да, глуповато, по-американски, утрировано до неправдоподобия, зато не скучно). Милли задала телевизору заслуженную трепку – отвесила несколько крепких плюх по бокам в тщетной надежде, что у него откроется второе дыхание, – и вернулась в спальню покойного Питера, где он когда-то провел свои последние дни в постели. После того как у Милли в комнате, на втором этаже, загадочным образом взорвалась лампа, перепугав ее до смерти, она перебралась сюда. В спальне Милли раскопала под старыми шерстяными одеялами радиоприемник на батарейках и наконец-то устроилась в постели вместе с верным «Филипсом». Она уютно умостила его между подушкой без наволочки и здоровым ухом, и тот зажурчал в него последние новости о мире. Тревога понемногу улеглась. Похожий эффект производил на Милли бокал хереса вместо вечернего чая под постапокалиптические завывания морского ветра за окном. Даже самые мрачные репортажи – рецессия, коррупция, проливные дожди – как ни странно, действовали ободряюще: все-таки хоть где-то, хоть с кем-то, хоть что-то происходит.
Вдруг боковым зрением Милли замечает неведомо откуда взявшийся БМВ, который резко виляет в сторону – неужели она выехала из своего ряда? – и водитель издает в адрес Милли оглушительный гудок. Та в ответ лишь жизнерадостно машет рукой. Вскоре приходится остановиться на светофоре, и их машины оказываются рядом. Милли опускает окошко и делает знак водителю БМВ сделать то же самое. Полированное стекло ползет вниз медленно и вальяжно, как в президентском авто.
– Прошу прощения, – говорит Милли. – У меня синдром замороженного плеча после аварии. – Травма не имеет никакого отношения к ее рискованным маневрам, но Милли хочется как-то объясниться. Она высовывает в окошко правую руку, согнутую в локте куриным крылышком. – Все еще побаливает.
Милли прощается с оторопевшим водителем тремя дружелюбными коротенькими гудками и катит дальше.
Дома, перед тем как выходить, она позвонила сыну – технически Кевин ее пасынок, хотя все техническое ей глубоко чуждо, но, как бы там ни было, он ее мальчик, а она его мамочка с первых месяцев жизни. Милли начала с того, что поведала о трагедии с телевизором.
– Бланш по ошибке заселила девушек в отель для проституток, – рассказывала Милли, – а полицейские…
– Мам, я же детей в школу везу.
– Может, заедешь, посмотришь? Я без телевизора не могу.
– А батарейки ты проверила?
– Да нет там батареек. Это же телевизор.
– В пульте.
– А-а… – тянет Милли. – Погоди, а как же…
– Давай я тебе перезвоню через пять сек.
– А может, к ужину приедешь и посмотришь заодно?
– То есть?
– Ты что, забыл? Это твой последний шанс вообще-то. Я же в субботу уезжаю.
– Да помню я.
– И, может быть, уже не вернусь.
– Да ладно, брось эти шуточки.
– И кого-нибудь из детей привози с собой. Да всех привози! У меня есть бараньи отбивные с картошкой.
На самом деле ни того, ни другого. Беглый осмотр кухонных шкафчиков, на время которого Милли оторвала телефон от уха, совсем забыв, что сын еще на связи, показал, что нет ни оливкового масла, ни картошки. Заглянув в холодильник, встретивший ее привычной волной кислого запаха и ослепительной вспышкой света, Милли обнаружила одну-единственную бутылку молока, уже скисшего, три-четыре дряблых кочешка брокколи и одинокое битое яйцо с вытекающим желтком.
– Мозги у меня, похоже, тоже вытекли, – пробормотала Милли, снова поднося телефон к уху.
– Вот в этом, – отозвался сын, – у меня никогда не было сомнений.
***
В магазинчике Доннелли Милли, в знак общего приветствия, легонько дотрагивается кончиками пальцев до своей фетровой шляпы леопардовой расцветки с лисьим мехом. Здесь, в Дун-Лаэре, Милли Гогарти знает многих, да и дальше тоже, вплоть до Долки и Киллини. Она добровольно взяла на себя эту миссию – останавливаться поболтать со всеми подряд, где угодно и когда угодно, при любой возможности – на прогулке вдоль продуваемого всеми ветрами Восточного пирса, на парковке торгового центра, в очереди в банке (раньше она никогда не упускала возможности налить себе кофе в кассовом зале Банка Ирландии – пока он был бесплатный), да вот хотя бы и в этом магазинчике.
Она подходит к Майклу Доннелли, прыщавому подростку, сыну владельца магазина, который каждый день, кроме выходных, торчит после школы за прилавком.
– А знаешь, через три дня мы с Джессикой Уолш будем праздновать Рождество в Нью-Йорке. Мой прапрапраправнучатый племянник (по обыкновению Милли вставляет парочку лишних «пра») жил когда-то в Огайо, но мы туда не поедем. Конечно, там же нечего делать! Я ездила к нему как-то раз… не помню когда, неважно. – Она скрещивает руки на груди, принимая позу поудобнее. – Рождественское утро – а на улице ни души. Мы с Кевином, ему тогда только-только восемнадцать исполнилось, вышли прогуляться – кругом горы снега, и мы такие стоим посреди улицы и кричим: «Эй! Америка! Есть кто живой?»
– Вот как, миссис Гогарти? – переспрашивает Майкл, и улыбка у него даже не совсем равнодушная. Он поворачивается к следующему покупателю, Брендану Тьерни. Брендана Милли тоже, конечно, знает, но он сосредоточенно разглядывает свои растоптанные лоферы и, кажется, совершенно поглощен этим занятием.
Милли лучезарно улыбается обоим сразу и направляется к микроскопическому отделу канцелярских товаров. Это всего пара полочек с пыльными открытками, кроме людей ее поколения на них и внимания никто не обратит. Молодежь давно отвыкла писать ручкой по бумаге. Взять хоть ее внуков – только и делают, что тычут пальцами в телефон с лихорадочной быстротой, вызывающей у Милли зависть: когда ее саму в последний раз с такой силой тянуло общаться?
Она берет с полки открытку с тисненым букетом – «Любимой доченьке в день рождения!» – и читает сиропное поздравление внутри. Едва открытка, абсолютно ненужная Милли Гогарти – у которой и дочери-то нет! – оказывается у нее в руках, как соблазн стянуть ее становится все сильнее, и наконец Милли отчетливо понимает: она должна это сделать – и сделает.
Она оглядывается на кассу, где Майкл уже пробивает Брендану шоколадки. В последний раз их с Бренданом пути пересекались в аптеке: он покупал там крем для задницы. Вспомнив об этом, Милли подавляет смешок. Чувствуя, как влажнеет под мышками, она раскрывает потрескавшуюся на сгибах сумочку, уминает всякую всячину внутри – вышедшие из обращения монетки, окаменевшие комочки бумажных платков, древние записочки, – и сумка распахивает перед ней зияющую пасть, настойчиво требуя корма.
Желудок у Милли то подкатывает к горлу, то падает вниз. Сердце, столько дней подряд выполнявшее одну лишь унылую биологическую функцию, теперь бешено колотится в груди. Отчаянным, судорожным движением, которое она потом спишет на помутнение сознания, Милли сует открытку в сумочку.
Она переводит дыхание. С делано непринужденным видом берет еще одну открытку – на ней изображен пухлый младенец со слоном. Милли сдерживает смех.
«Может быть, Кевин и прав: я все-таки тронулась умом!» Она бросает еще один взгляд на Майкла. Тот, встретившись с ней взглядом, едва заметно кивает, и Милли хихикает – будто бы над нелепым поздравительным текстом. Милли Гогарти всегда ощущала тягу к актерскому ремеслу и до сих пор лелеет тайную надежду проявить свои таланты. На мгновение ее даже охватывает восторг от собственной дерзости, от того, с каким хладнокровным видом она стоит тут на виду у всего Дун-Лаэра, и никто не догадывается, как бешено стучит кровь у нее в ушах. Вспомнив о предстоящем ужине – вдруг придет кто-то из внуков, – Милли невозмутимо направляется к стойке с чипсами и выбирает пакетик с сыром и луком, а потом еще один, с луковыми кольцами.
Сама не своя от радости и облегчения, она ловко запрыгивает обратно в машину, заботливо пристраивает рядом на сиденье свои утренние трофеи. Ставит левую ногу на сцепление, а правую на газ, уже готовая рвануть с места и катить домой, в Маргит, – и тут слышит робкий стук в стекло.
Это Доннелли-младший, и он уже не улыбается. От внезапного страха у Милли темнеет в глазах. Она нехотя приоткрывает окно.
– Мне очень жаль, миссис Гогарти, но я вынужден попросить вас вернуться.
– Я что-то забыла?
Майкл указывает глазами на ее сумку.
– По-моему, у вас там неоплаченный товар.
Наступает молчание – долгое, многозначительное.
– Что? – переспрашивает Милли, включая заднюю передачу.
– Вот здесь. – Толстый грязный палец утыкается в сумку. Мальчишка (ему едва шестнадцать исполнилось, ровесник двойняшек, небось, первый год в старшей школе) переводит глаза с руля на сумку и обратно.
– Отец велел, если такое случится еще раз, звонить в полицию.
В полицию!
Милли старается как можно правдоподобнее изобразить смущенную улыбку в надежде сойти за безобидную рассеянную старушку. Но телесные реакции выдают ее с головой: лицо вспыхивает, на лбу под волосами выступают капельки пота. Такова печальная участь всех стариков: тело не в ладу со все еще острым умом. Прорастают опухоли, кости ломаются, стоит только поскользнуться на льду, и сердце может однажды просто отказать, как это случилось с ее Питером. А теперь вот и у самой Милли оно уже второй раз за день начинает колотиться с такой силой, что, кажется, вот-вот вырвется из груди, взмахнет крыльями, как птица, и улетит прочь.
Доннелли-младший продолжает сверлить ее взглядом. Она прижимает ладонь тыльной стороной ко лбу, словно утонченная дама из прошлого века, готовая вот-вот лишиться чувств. Сознание того, что на нее смотрят, невыносимо. И тут же в голову приходит ужасная мысль: если в дело вмешается полиция, узнает и Кевин.
Нет, Кевин ничего не должен знать.
Он и так-то давно уже принюхивается, компромат собирает – с убийственной показной нежностью, от которой у Милли кровь стынет в жилах, готовится законопатить свою бедную матушку в какое-нибудь богом забытое заведение для усохших старых овощей. Ну уж нет, Милли Гогарти не намерена доживать свои дни в компании сморщенных развалин, пускающих слюни в углу Ее любимую подругу Гретель Шихи вот так сплавили в пансионат Уильямса – рядышком, каких-нибудь пять километров по шоссе. Надо ли говорить, что Гретель там долго не протянула.
И вторая, не менее жуткая мысль: а что, если теперь и ее внуки, и соседи Фицджеральды, и весь южный Дублин – все узнают, что она воровка? Грозящий ей позор настолько ужасен, что Милли поспешно отбрасывает от себя эту мысль, заталкивает в самый дальний ящик сознания, куда уже не один год спихивает свои многочисленные неприятности – хоть это, возможно, и не самое мудрое решение.
В отчаянии она лихорадочно прикидывает, не попытаться ли симулировать какой-нибудь приступ – инсульт, например? Вроде бы что-то подобное уже выручало ее в прошлом. Но мысли в голове путаются, Милли никак не может припомнить, когда в последний раз пользовалась этой уловкой, и смутно подозревает, что именно здесь, в Дун-Лаэре.
– Мне очень жаль, – снова говорит Майкл. Несмотря на свои прыщи, он, в общем-то, недурен собой. – Если честно, я уже позвонил в полицию.
2
Звонок застает Кевина Гогарти за кружкой пива в «Медном колоколе» – одном из старейших пабов в центре города, знаменитом тем, что здесь, на крошечной импровизированной эстраде наверху, выступают восходящие звезды комического жанра. Кевин и сам много лет назад, когда мечтал о карьере эстрадного комика, как-то раз сунулся здесь к микрофону. Провалился с треском: его искрометные шутки о минетах и священниках, как ему стало очевидно позже, сильно опередили свое время. Но резная мебель красного дерева ему по-прежнему нравится, и медные пивные кружки, и вся эта обветшало-викторианская обстановка, поэтому они с Миком, его бывшим коллегой и лучшим другом, встречаются здесь в тех редких случаях, когда Кевину удается вырваться.
В преддверии рождественской недели пьяниц набился полный паб – со всей страны стянулись, чтобы налакаться. Кевин протискивается сквозь толпу к бару не меньше минуты, постоянно извиняясь и похлопывая по спинам незнакомцев, и облегченно вздыхает. Наконец-то он выбрался из дома, наконец-то увидится с Миком, а тот уж непременно угостит его свежими сплетнями об их журнале.
Бармены, как всегда, в запарке: разливают эль, стаут и сидр – по три-четыре пинты разом, принимают заказы вдоль всей длиннющей барной стойки. И как только они умудряются не накосячить – безошибочно подбивают счета, мгновенно выдают сдачу без всяких там кассовых аппаратов, смешивают ром с колой, ликер с красным, ирландский кофе, чего душе угодно. Вот если бы бармены управляли страной, думает Кевин, тогда и экономика не скатилась бы в такую задницу.
Он видит, как за дверью, несмотря на мороз, толпятся жалкими кучками курильщики, как колышутся над ними роскошные канцерогенные шлейфы. В самом баре курить запрещено – кому бы раньше такое пришло в голову? Кевин чувствует себя старым пнем и все же не может втайне не удивляться тому, как разительно изменилась Ирландия. Раньше здесь всегда висели клубы дыма, и народу к обеду было битком в любой день недели. Но пресловутого кельтского тигра[1]1
Термин, описывающий ирландский экономический бум. – Здесь и далее примеч. пер.
[Закрыть] постигла Жестокая и бесславная смерть, и лишнего бабла у людей больше не водится. За эти несколько месяцев, пока Кевин развозил детей туда-сюда в своем огромном минивэне, пока усаживал их за уроки, пока выступал третейским судьей в жарких семейных баталиях, пока готовил рыбу с жареной картошкой и горохом, мир, кажется, стал совсем другим. Из еще недавно жизнерадостного Дублина словно весь воздух вытек. Да, прошли те беззаботные деньки, когда можно было ни о чем всерьез не задумываться.
Первый звонок с незнакомого номера Кевин сбрасывает. Тут же замечает Мика и машет ему издали рукой. Сквозь гам пробивается музыка – а, да это же Zeppelin – «Over the Hills and Far Away». С двумя пинтами «Гиннесса», по одной в каждой руке, Кевин умело и ловко прокладывает путь к столику, который занял для них Мик. Наверняка приятель выбрал именно это место не случайно: рядом расположились две очень хорошенькие, очень молоденькие цыпочки – чуть за двадцать, самое большее, и перед каждой стоит бокал и маленькая бутылочка шабли.
– Вы не против, если мы сюда втиснемся? – спрашивает Кевин.
Та, что поярче – большие умные глаза, грудь, явно еще нетронутая (губами младенца, во всяком случае), ослепительные, как у американки, зубы, – окидывает его взглядом и в ту же долю секунды теряет к нему интерес. Кевин принимает это безразличие с разочарованной гримасой.
Ну вот, свобода, – говорит Мик. – До будущего года, во всяком случае.
– Живем, чувак!
Мужчины обмениваются долгим рукопожатием, и Кевин от избытка чувств (елка уже наряжена, кухня забита едой и выпивкой, Грейс приедет домой, пусть хоть на пару дней, а там, может, и до постели дело дойдет – бывают же рождественские чудеса!) обнимает Мика.
– Слушай-ка, у меня есть для тебя предложение.
– Не уверен, что смогу выкроить время.
– Да иди ты… Знаешь такого – Ройстона Клайва?
– Шутишь? Он же, говорят, придурок, каких свет не видел?
– Ну, придурок-то придурок, а, между прочим, собрался кое-что замутить. Ищет того, кто возьмет на себя все дела. А денег у них там«– жопой жуй.
У Кевина снова звонит телефон – все тот же незнакомый номер. Червь беспокойства начинает точить его склонную к сомнениям душу. А вдруг это Грейс звонит с дороги? Или мать с какой-нибудь дурацкой просьбой. А может, сестра Маргарет хочет сообщить, что Эйдин опоздала в школу или прогуляла урок. Или сама Эйдин опять рванула куда-то автостопом, только на этот раз какой-нибудь двинутый ублюдок связал его любимую доченьку, запер в заброшенном сарае, заткнул рот тряпкой с хлороформом и теперь звонит, чтобы затребовать выкуп.
С Эйдин с ее бунтарским характером станется – от нее же чего угодно можно ожидать.
Кевин пытается снова сосредоточиться на словах Мика – тот как раз несет самую упоительную похабщину о ночном свидании на столе издателя в их бывшей конторе. Для Кевина этот рассказ представляет особый интерес, поскольку в нем фигурирует его бывший босс Джон Бирн, напыщенное самоуверенное трепло с масляной рожей. Так что Кевину ужасно хочется дослушать до конца – посмаковать эту грязную интрижку со всеми ее отвратительными подробностями.
– Ты, может, помнишь еще, а может, и нет, – понижает голос Мик, – но наш уважаемый издатель – большой любитель ролевых игр, и не в смысле Шекспира по ролям читать. – Мик ухмыляется. – Ты не поверишь, какой у него любимый сюжет. Кроме шуток: непослушный ученик старательно выпрашивает, чтобы ему хорошенько надрали задницу.
Мик хохочет, показывая потемневшие клыки.
Кевин реагирует как положено, убедительно изображает подходящее к случаю выражение лица, но из головы все никак не идет незнакомый номер – и тут он вспыхивает на экране в третий раз.
– Погоди-ка минутку, Мик, – говорит Кевин. И уже в телефон: – Кевин Гогарти.
Хотя Кевин не так давно сидит без работы, он уже взял манеру с наигранным техасским акцентом именовать себя «временным отцом-домохозяином» – однако по телефону до сих пор отвечает так, словно ждет звонки из типографии, от креативного директора или менеджера по продажам.
– Мистер Гогарти? Это сержант Брайан О'Коннор из полицейского участка Дун-Лаэра.
Кевин обмирает.
– Что? С Эйдин все в порядке?
– С Эйдин? Какой Эйдин? Нет-нет. Сожалею, что приходится вас беспокоить, но у нас здесь ваша матушка. Не могли бы вы подъехать и забрать ее? Она немного не в себе.
– Что? – Кевин затыкает свободное ухо большим пальцем. – Что с ней? Что случилось?
Девицы, расслышав встревоженные нотки в голосе Кевина, тут же прекращают разговор и оглядываются, но теперь они сами для него – лишь мутный фон.
– Она что, упала?
– Нет-нет, с ней все в порядке, – говорит О’Коннор. – Извините, если напугал. Нет, она в полном порядке – физически, я имею в виду. Просто… у нас тут произошел небольшой инцидент. К сожалению, ее задержали с крадеными вещами в сумке.
Кевин выдерживает длинную паузу и за это время успевает пройти привычную эмоциональную дугу: первоначальное раздражение перерастает в жгучую ярость, но та вскоре спадает, и остается лишь тоненькая струйка жалости к самому себе. Кевин благодарит полицейского, сбрасывает звонок и смотрит на Мика. Хорошо ему, холостяку – все тревоги лишь о том, где заказать очередную пинту пива, кого еще затащить в постель и какой футболист станет главным героем страницы сплетен. У Мика же нет семьи с кучей детей – а у него, у Кевина, четверо: две девочки и два мальчика! За восемнадцать лет Кевин так и не привык к тяготам жизни многодетного отца: лежи без сна, изводись тревогой в три часа ночи, присматривай, корми и воспитывай из них достойных членов общества. Не говоря уже о фокусах матушки-клептоманки, которую в очередной раз придется вытаскивать из неприятностей. Он допивает пиво и встает.
– Извини, Мик. Надо идти.
– Ничего серьезного?
– Да нет, самая заурядная херня, – с горечью говорит Кевин. – Мою мать только что задержали за кражу в магазине. Сидит в участке с полицейскими и наверняка уже довела их до грани массового самоубийства. Помнишь этого, как его там – Джима Джонса? Ну так ему до Милли Гогарти – как до луны.
3
В трех километрах к югу от Дун-Лаэра, в милом прибрежном городке Долки, Эйдин Гогарти, сидя за отцовским ноутбуком, вводит в строку поиска на сайте thesaurus.com слово «томиться». Она сочиняет стихи для Чёткого. Чёткий, последняя сенсация в мире современной ирландской поп-музыки, в основном перепевает хиты софт-рока середины семидесятых и начала восьмидесятых. На самом деле Чёткий – бородатый детина баскетбольного роста с лохматой отбеленной гривой, забавно контрастирующий с четверкой скромненьких и аккуратненьких бэк-вокалистов. Просмотрев синонимы (изнывать, изнемогать, страдать, убиваться, млеть, тосковать, маяться, мучиться, вздыхать, скучать, тяготиться, грустить, печалиться, скорбеть, горевать, жаждать, алкать, терзаться, сохнуть, мыкаться, мытариться), Эйдин отвергает все по очереди: все звучат по-дурацки, и вообще хрень какая-то.
Она обшаривает книжную полку и груды бумаг на отцовском письменном столе в поисках студенческого тезауруса Роже[2]2
Распространенный идеографический словарь, изначально составленный британским энциклопедистом Питером Марком Роже.
[Закрыть], который до отца принадлежал еще дедушке. На него Эйдин возлагает больше надежд – все-таки вещь, проверенная временем, а значит, настоящая. Эйдин всегда тянется к настоящему… или как там – жаждет? Алчет?
Наткнувшись наконец глазами на обшарпанный переплет, она замечает рядом еще кое-что – фотографию улыбающейся во весь рот веснушчатой девицы в коричневой школьной форме, с ярко-красным ноутбуком в руках. Похоже на обложку рекламного буклета какой-то школы. Фото, конечно, отвратное – какой идиоткой надо быть, чтобы согласиться так тупо пиарить свою школу? – но Эйдин становится любопытно, и она начинает разглядывать другие фотографии, рассыпанные по глянцевой обложке. Стайка девушек с крикетными битами на девственно чистом игровом поле, вскинувших руки в знак победы, «жилая комната» с продуманно разбросанными подушками цвета фуксии и, наконец, самое главное – кованый указатель на заросшем травой холме: «Миллбернская школа для девочек». Ниже школьный девиз: «Честь, лидерство, отличная учеба», хотя Эйдин где-то уже слышала другой: «Выше носы, ниже трусы».
На последней странице Эйдин, к своему изумлению, обнаруживает пришпиленную скобкой собственную фотографию – крошечный, но отвратительный прыщ на переносице сразу бросается в глаза.
Эйдин пытается осознать произошедшее – очевидное и в то же время немыслимое. Но даже про себя она не в силах выговорить ничего, кроме: «Э-э-э?..» Она перебирает в памяти последние семейные стычки и гадает, что же могло стать поводом к такому радикальному шагу у нее за спиной. Да, в последнее время она и впрямь вышла из берегов – нарочно разбила зеркало сестры (так ей и надо!), слишком часто совала нос в мамину сумочку, ну, и в школе есть проблемки. Оценки у нее паршивые, что верно, то верно.
И все-таки… Анкета ведь пока не заполнена – наверное, это хороший знак?
Но фото…
Эйдин слышит крики и видит в окно своего младшего брата Кирана – тот по-обезьяньи кувыркается на брусьях на игровой площадке в саду за домом. За ним на фоне выцветшего дублинского неба четко рисуются хмурые тучи. Ага, а вот и сестрица Нуала (кодовое имя – Чума). Чума медленно бредет к дому, обшаривая взглядом горизонт, несомненно, в поисках парней, и перекидывая свою длиннющую черную русалочью гриву то влево, то вправо, то снова влево – будто с одной стороны улицы на другую. Ни дать ни взять калифорнийская цыпочка из видеоклипа Кэти Перри, а не насквозь фальшивая пустышка из скучного провинциального Долки.
Эйдин проверяет историю браузера на ноутбуке за последнюю неделю, и сердце у нее замирает, и хочется вдруг немедленно зарыться в постель. Да, точно, папа заходит на сайт Миллберна по три-четыре раза на дню.
Пипец.
Эйдин начинает обшаривать отцовские полки и ящики в поисках каких-либо улик – за или против (ну пожалуйста, пусть будет против!) того, что она обречена окончательно и бесповоротно. Миллбери – закрытая школа, где наверняка полно надутых самодовольных девиц, которые мгновенно ее возненавидят. Хлопает дверь черного хода. Эйдин быстро сует брошюру обратно под ворох бумаг – ровно в ту самую секунду, когда в дверях возникает Чума вместе со своим новым, в кои-то веки довольно симпатичным воздыхателем, Гэвином Муни.
Красота сестры – неприятный факт из жизни Эйдин, может быть, даже самый неприятный, особенно потому, что они двойняшки Такое чувство, что их так или иначе сравнивают, явно или исподволь, каждый божий день, и, хотя никто никогда не произносил этого вслух, Эйдин уверена, что если она и умница, то уж точно не красавица. Как-то раз Чуму остановил в Стивенз-Грин охотник за моделями, сунул ей свою визитку, подмигнул и сказал, что она непременно должна сделать несколько фото крупным планом, что она – «готовый образ» (угу, олицетворение редкой стервозности), и что у него в городе студия, где можно организовать съемки. Чума приклеила визитку скотчем к зеркалу и захлебывалась восторгами, пока они не опротивели Эйдин до рвоты (что и привело к расправе с зеркалом). И парни Чуме каждый день названивают.
А вот Эйдин Гогарти ни разу в жизни еще не звонил ни один человек мужского пола, и сознание этого переполняет ее стыдом и печалью. Больше всего на свете она боится, как бы кто-нибудь об этом не проведал.
А тут еще мама с папой захлебываются розовыми слюнями: наша Нуала такая спортивная, лучшая гимнастка в школе! Наша Нуала такая талантливая, она сыграла главную роль в школьном спектакле! Наша Нуала такая добрая, смотрите, как чудесно она нарисовала наш семейный портрет, ах, какая прелесть!
Всюду славилась дева прелестная
Как модель и актриса известная.
Всех пленяла она —
Пусть и грош ей цена,
Но зато репутация лестная.
– Мне нужен компьютер, – заявляет Нуала, нетерпеливо подскакивая на цыпочках.
– Привет, – бросает Гэвин. На нем темно-синий спортивный костюм и белые кеды.
– Moгла бы и поздороваться с Гэвином.
Но Эйдин не до того: перед ней на экране отцовского компьютера сияет во всей красе готического шрифта вывеска Милдбернской шкоды. Не желая допустить, чтобы кто-нибудь, а тем более сестра-двойняшка, пронюхал о таком деле (закрытая школа!), она ничего не отвечает и стоит прямо перед монитором, загораживая его от Нуалы.
– Ой, никак у тебя там тайны завелись? – недобро фыркает Чума.
– Привет, Гэвин.
– Как хочешь, – говорит Чума, – а мне нужен компьютер.
– Мне тоже.
– А мне нужнее.
– Перетопчешься.
Чума грозно щурится, но в мужском присутствии сдерживается и удаляется молча. Гэвин, конечно же, хвостом плетется следом. Эйдин решает отложить сбор разведданных до той поры, когда все уснут. Только в эти краткие часы и можно заполучить хоть какую-то информацию о том, что происходит в семействе Гогарти. Мама с папой только болтают об открытости, честности и прочей фигне, а сами тщательно скрывают все, что представляет хоть какой-то интерес или ценность. Однажды Эйдин нашла в мамином туалете тест на беременность – отрицательный, как она поняла, изучив коробку, а затем и саму полоску бумаги. Этим, вероятно, и объяснялось мамино дурное настроение в последующие дни. Для Эйдин, правда, полнейшая загадка, зачем маме еще дети, когда она постоянно пропадает на работе.
А еще было письмо, адресованное папе: Эйдин тайком сложила его из обрывков, валявшихся сверху в мусорном ведре: «С сожалением вынуждены сообщить, что вакансия, на которую вы претендовали…»
Эйдин направляется на кухню, разогревает лазанью в точности по занудным инструкциям отца – он вечно все разжевывает до последней мелочи и дергается из-за каждого пустяка. Она подкидывает дров в затухающий огонь, ворошит в камине кочергой, все еще не в состоянии отойти от шока. Спору нет, обстановка в семействе Гогарти непростая, особенно теперь, когда мамина консалтинговая фирма по туризму заполучила нового крупного клиента, а папа, потеряв работу в журнале, бродит по дому с несчастным видом и лезет в каждую бочку затычкой. К тому же, хотя родители и талдычат, что Эйдин вся такая умная и наблюдательная, что она отличается «эмоциональным интеллектом» (а это еще что?), она знает, что постоянно разочаровывает их, Она вечно «делает глупости», по родительским понятиям, – то есть поступает не так, как поступили бы они. Хорошо, пусть так, но отправить ее в изгнание, жить среди чужих людей?
– Эйдин! Ты этот сайт искала, да? – окликает ее Чума из кабинета. В голосе ее слышится издевка, а когда Эйдин входит в комнату, на губах сестры уже играет садистски-злорадная ухмылочка. Именно в такие моменты Эйдин больше всего не хватает старшего брата Джерарда, уехавшего в сентябре изучать психологию в университете Корка, который, в отличие от родителей, действительно всегда готов ее выслушать.
Гэвин опускает голову, отводит глаза и потихоньку пятится задом из комнаты. Эйдин подходит к монитору и видит на нем сплошные ряды фотографий – какие-то увеличенные пятна, что-то медицинское. Это страница о прыщах: засохшая короста, назревшие, выпирающие белые головки… Чума запрокидывает голову, ведьмински-злобно хихикает и проматывает страннцу вниз, к черно-белой ретро-рекламе. На ней изображена несчастная, усыпанная прыщами девочка-подросток, по виду годов из пятидесятых, а внизу подпись: «Доктор, у меня останутся шрамы на лице?»
Да, Нуала права: она, Эйдин, непривлекательна внешне, и никогда не будет привлекательной, и это настоящая трагедия, ведь ее самое тайное, самое заветное желание – чтобы кто-то желал ее. Чёткий бывает мил с ней во время раздачи автографов в магазинах HMV, и за кулисами VIP-фанзон, и даже в личной переписке в твиттере (правда, всего-то дважды), но это просто потому, что она преданная фанатка – она боготворила его и его группу еще в те дни, когда они были никому не известными мальчишками из Ратфар-нема. Какой парень, какой уважающий себя парень станет смотреть на Эйдин Гогарти, тем более на фоне ослепительной красоты ее сестры? Эйдин даже своей паршивой семейке не нужна. Уродливый черный клубок гнева – или обиды на несправедливость, или, может, просто зависти, к сестре – разрастается у Эйдин в груди и разжигает искру ненависти к самой себе, которая тлела в ней столько месяцев.
Наверное, в какой-то мере это можно считать оправданием тому, что происходит дальше. Эйдин хватает первое попавшееся оружие – кочергу, как раз случайно застрявшую между двумя жарко пылающими поленьями. Теперь это раскаленный докрасна, неоново светящийся металлический прут – приспособление для клеймения скота или какой-то жуткий пыточный инструмент ЦРУ.
Самое то.
Эйдин замахивается на сестру. Обе визжат. Чума бросается наутек, и начинается беготня по всему первому этажу, совсем как когда-то в детстве, когда они затевали веселые игры в догонялки. Нуала на шесть минут старше, но Эйдин была непререкаемым лидером их детских забав. Она принимала все главные решения: «Скрзббл» или «Монополия», когда меняться местами на двухъярусной кровати (тогда они еще спали в одной комнате), кому искать, а кому прятаться. Нуала годами ходила за Эйдин тенью – невозможно понять, когда и почему все изменилось. Теперь же они яростно грохочут пятками по огромным комнатам с высокими потолками, Эйдин издает леденящие кровь вопли, словно хочет превратить в камень отвратительного злого тролля – и тролль верещит в один голос с ней, только тоненько, по-девчоночьи. Гэвин поначалу гонится за ними с криком: «Хватит!», но быстро выдыхается.