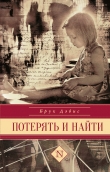Текст книги "He как у людей"
Автор книги: Ребекка Хардиман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
Эйдин, конечно, не пытается по-настоящему обжечь эту безмозглую дрянь кочергой – просто хочет попугать. Позже она попытается это объяснить, но никто не станет слушать. Никогда ее никто не слушает. В конце концов погоня заканчивается там же, где и началась: у камина, и наступает тишина, прерываемая лишь утробным рычанием. Летят выдранные клочья волос, раздаются звонкие пощечины, идет обмен щипками. Когда Гэвин наконец подбегает и останавливает свалку, Эйдин сидит на сестре верхом, прижав ее тонкие слабые руки к полу костлявыми коленками. Занесенная кочерга дрожит в воздухе, и от нее все еще тянется вверх легкая струйка дыма.
4
Милли сидит, нахохлившись, на металлическом стуле в неуютной комнате без окон, насквозь пропитанной запахом сигарет – это же надо так надымить! – и с этой позиции ей видно, как ее красавец-сын влетает в участок. Стягивает пальто и остается в стильном сером джемпере и шерстяных брюках без отворотов. Кевин, до сих пор стройный и подтянутый, с годами становится все представительнее. Густые волосы, лишь местами тронутые сединой, почти незаметные залысины, и доброе, выразительное лицо с легкой тенью щетины. Милли, пожалуй, сказала бы – лицо ученого: четко очерченный подбородок и лоб, очки в тонкой металлической оправе, совсем как у Йейтса. Прибавить сюда актерские наклонности и разнообразие мимических приемов (изогнутая бровь – самоуничижение, привычный прищур – напускной скептицизм, вскинутые кверху крупные ладони – знак капитуляции), и станет ясно, что ему не составит труда очаровать публику где угодно: хоть в провинциальном пабе для рабочих, хоть на бонтонном суаре, хоть на недавней домашней вечеринке. Милли рассказывали (саму ее по непонятной причине не пригласили), что он, раздвинув столы, устроил импровизированный танцпол и выступил не хуже модного диджея.
Но подействует ли его обаяние в дун-лаэрском полицейском участке?
Сейчас Кевин стоит в позе футболиста (он ведь когда-то играл) во время совещания игроков и внимательно слушает сержанта О’Коннора, того самого, что доставил ее сюда. Ей часто кажется, что Кевин так любит спорт – бег, теннис, сквош, – потому что много лет наблюдал за болезнью Питера, и изо всех сил старается избежать участи отца. Сейчас он то и дело кивает, затем, кажется, прерывает сержанта длинной тирадой, и снова кивает, скрестив руки на груди. Всю ее жизнь, думает вдруг Милли, мужчины обсуждают ее дела между собой и принимают решения за нее. Интересно, как бы поступили в сложившейся ситуации «Золотые девочки»?
Наконец эти двое – грозная боевая единица противника, маленькое темное облачко, предвестие смертоносной бури – направляются к Милли Гогарти, и у той кружится голова от странного ощущения: будто все вдруг перевернулось с ног на голову, будто Кевин тут старший, а она – маленькая непослушная девчонка. Что он будет делать – ругаться, угрожать, кричать? Или пожалеет свою непутевую мать, простит и забудет все?
– Вы меня слушаете, миссис Гогарти? – уточняет О’Коннор, когда все трое – сам сержант, второй полицейский и ее сын – со скрежетом придвигают стулья поближе к ней. Давным-давно уже Милли не оказывалась в окружении мужчин, тем более таком близком окружении, и неистребимая слабость к противоположному полу слегка придает ей бодрости. Она застенчиво улыбается, начиная соображать, что дело еще можно повернуть в свою пользу. В конце концов, она ведь даже с инсультами Питера как-то справилась, со всеми тремя, и говорить его заново выучила! И смерть его пережила, а задолго до того похоронила малышку Морин. А сейчас-то что – пустяк, можно сказать. Кевин сидит почти вплотную к ней, отчужденный и строгий, и избегает встречаться с ней глазами.
– Принести вам чего-нибудь? – спрашивает О’Коннор. – Кофе, чаю?
Милли отказывается и кивает в знак того, что она спокойна и готова слушать.
– Проблема вот в чем: вы ведь уже не первый раз прихватываете что-то в магазине мистера Доннелли, верно? Он готов был закрыть на это глаза разок-другой, но теперь это уже похоже на издевательство, понимаете?
– Джентльмены, – бодро начинает Милли, хотя голос у нее заметно подрагивает. – По-моему, это просто недоразумение. Видите ли, я была в магазине, и моя подруга Кара О’Ши… знаете ее? Мать Райана и Дары О’Ши – они оба превосходные моряки, переплыли Ла-Манш на такой малюсенькой лодочке, величиной с ванну… когда же это было? Нет, постойте…
– Прошу прощения, – неожиданно вмешивается Кевин, вскакивая на ноги. – Вы позволите мне переговорить с матерью наедине? Одну минуту.
Не успевает кабинет опустеть, как он резко разворачивается к Милли, обжигает ее грозным взглядом, и ей становится ясно, как день: ни на милосердие, ни на амнезию с его стороны рассчитывать не приходится.
– Они хотят предъявить тебе обвинение в краже, мама, – шипит Кевин, – так что игра в полоумную бабулю тут не прокатит.
Капля слюны с его губ летит прямо в Милли, она инстинктивно увертывается и смотрит, как капля падает на металлическую табуретку, отполированную, должно быть, задницами сотен закоренелых преступников.
Про себя Милли гадает, где сейчас копы – можег, торчат в соседней комнате, за стеклом, прозрачным только с одной стороны, как в «Законе и порядке», и подсматривают сквозь него за разворачивающейся драмой. И правда, замечает она – вот же оно, квадратное окошечко в стене напротив. Милли тут же принимает невозмутимый вид и улыбается своему дорогому мальчику – она ведь его, разумеется, нежно любит, несмотря ни на что.
– Вот бы узнать, – говорит Кевин, – чему это ты улыбаешься в такой-то момент.
– Все это можно уладить. Я ведь хожу к Доннелли уже столько лет. Я их постоянный клиент.
– Постоянный клиент! – У Кевина отвисает челюсть, а глаза сужаются в сердитые щелочки, словно проделанные игрушечным ножом дошкольника на пластилиновой рожице. – Я уже всерьез начинаю сомневаться в твоей вменяемости.
По спине у Милли пробегают мурашки. Вот такие профессионально-жаргонные словечки непременно застряли бы в мозгу у того, кто ищет способы выставить свою мать слабоумной и сплавить в специальное заведение.
– Да нате, забирайте все! Я даже луковые кольца не съела! – кричит она, переворачивает сумку вверх дном, и все ее содержимое высыпается на пол фантасмагорическим дождем. Позже Милли сама будет изумляться собственной глупости: ведь если полицейские и вправду наблюдали за ней, она своими руками дала им неопровержимую улику. Из сумки вываливаются краденые чипсы, поздравительная открытка и, наконец, тяжело шлепается уже начинающий темнеть банан. Милли подбирает его с пола: за всеми тревогами и волнениями этого дня она забыла пообедать.
– Ради бога, скажи, что ты не собираешься это есть.
– Я умираю с голоду.
– Слушай, ты хоть соображаешь, во что влипла? Ты в курсе, что, если тебе предъявят обвинение, это попадет в газеты?
– Ха! – свирепо взвизгивает Милли. – За какой-то сраный пакетик чипсов?
– Каждую сраную неделю! В одном и том же сраном магазине! Я же тебя предупреждал в прошлый раз. – Кевин встает и начинает расхаживать по комнате взад-вперед, как леопард в клетке. Милли не может понять – не то он нарочно распаляет свой гнев, не то, наоборот, старается его подавить. – У них есть уже целый список всего, что ты успела за это время стянуть.
– О чем ты?
– Доннелли поставил камеры видеонаблюдения месяц назад, – поясняет Кевин.
Милли кое-как поднимается на ноги.
– Кевин, прошу тебя! Прошу! Я не могу идти в тюрьму! Нет. Нет. Нет. – Чувствуя, как кружится голова, она упирается ладонями в шаткий столик – он идиотски скрипит, чуть до него дотронешься. Вот сейчас она и впрямь готова рухнуть на пол, без всякого притворства. Еще девчонкой она то и дело норовила тайком сунуть в карман то мятную конфетку, то карандаш, пока отец со своим обычным серьезным видом не пригрозил, что скажет кассиру – а тот уж наверняка упрячет ее в тюрьму Маунтджой. Тогда это сработало, а теперь силы воли уже не хватает, и она не в состоянии сдержать свои шаловливые пальцы, побороть эту чудовищную тягу.
Милли слышит шаги сразу нескольких человек, и у нее мелькает внезапная надежда: может быть, полицейских за стеклом все-таки растрогал вид благонамеренной дамы, к тому же такой улыбчивой, которая едва стоит на ногах, держась за стол в кабинете для допросов, и умоляет о пощаде? Но шаги проходят мимо и затихают.
– Ну-ну, возьми себя в руки. Успокойся. – Кевин подходит к матери, помогает ей сесть и тоже садится. – О тюрьме пока что речи нет. Не будем преувеличивать. – Он протягивает к ней руку, но тут же опускает. Ласковые жесты Кевина слишком часто обрываются на полпути. – Понимаешь, они просто хотят, чтобы до тебя дошло, чтобы ты осознала, насколько это серьезно. Тебе предъявят обвинение.
– Публично?
– Попытаемся уладить дело без огласки, но не могу ручаться, что это не выйдет наружу.
Милли закрывает лицо руками – когда-то она ими гордилась, а теперь они напоминают птичьи лапки с толстыми, как черви, жилами. Аристократические руки – так говорил ее Питер. Как у настоящей леди.
Сын вздыхает, легонько постукивает по столу кулаком, а затем потирает ладонями макушку – жест, который всегда выдает у него сильный стресс.
– Они готовы прийти к соглашению, но на определенных условиях.
– На любых.
– Тебе придется признаться в том, что ты сделала, извиниться перед Доннелли. И показать, что искренне хочешь исправиться.
– Да, конечно, сколько угодно.
– Ты должна это прекратить. Поняла, мама? Это. Должно. Прекратиться.
Милли с невыразимым облегчением роняет голову на руки.
– Что бы я только без тебя делала?
– И еще одно. – Он откашливается. – Мы наймем помощницу, которая будет приходить в Маргит.
– Кого?
– Человека, который будет наведываться, сиделку…
– Домой наведываться?
– Нет, в конюшню! Домой, куда же еще. Господи ты боже мой! Или так, или идти в суд и положиться на удачу. А учитывая, что у них есть видео, где ты пихаешь барахло Доннелли в сумку, не думаю, что у тебя много шансов.
– Не нравится мне это, Кевин. Чужой человек в доме…
– Всего несколько раз в неделю. Двадцать часов.
– Двадцать часов!
– Это на три месяца, на время испытательного срока – он начнется сразу же, как только мы найдем подходящего человека… У Мика сестра как раз занимается подбором кадров, может быть, она нас выручит. Если ты выдержишь испытательный срок, обвинения снимут без огласки.
– То есть мирно договориться никак нельзя?
– Это и есть мирный договор, мама. Ты совершила преступление. Ты не в том положении, чтобы диктовать условия.
– Извиниться я не против, это справедливо. Но сиделка…
– Это меньшее из зол.
Милли наклоняется за разбросанными вещами и медленно выкладывает в ряд на столе всю эту совершенно не нужную ей чепуху. Она же вообще не из тех, кто гоняется за материальным. На свете очень мало вещей, имеющих для нее какую-то ценность: старая фотография Кевина, которую когда-то показал ей Питер, молитвенник, оставшийся с похорон малышки Морин, фамильное обручальное кольцо Питера с обрамленным бриллиантами изумрудом – стоит кучу денег, между прочим.
– Так что, я иду говорить с сержантом О’Коннором? – спрашивает Кевин.
– Ладно, – кивает Милли. – Пусть так. Разберемся со всем, когда я вернусь из Америки.
– Ну нет, мама, – говорит Кевин, отводя взгляд. – Боюсь, с Америкой придется подождать.
5
Когда Кевин распахивает входную дверь и решительным шагом входит в прихожую, заваленную всяким хламом (тут и грязные туфли, и в придачу – японский бог! – забытая миска кукурузных хлопьев), его встречают лишь два полосатых питомца Грейс – кот Беккет и кошка по имени Кошка, из которых ни один к нему особой приязни не питает. Они мяукают и наперебой трутся о штанины. Кевин вздыхает: и тут он уже кому-то нужен. Эйдин даже кошек не покормила. И на звонки не отвечала, а он трижды пытался дозвониться до нее, прежде чем везти мать, слава богу, примолкшую, обратно в Маргит. Ответом было лишь хамское сообщение голосовой почты: «Это я. Ты знаешь, что делать». Бип. После третьей попытки Кевин наконец отрезал: «Ты тоже знаешь», и яростно щелкнул пальцем по красной трубке на экране мобильного телефона. Это нисколько не помогло выпустить пар. То ли дело раньше – хоть трубку можно было швырнуть. Кевин представляет, что сейчас делает дочь: сидит с хмурым видом наверху, не замечая вокруг себя ничего, кроме экрана ноутбука, и истязает свои нежные барабанные перепонки блеянием какого-то безмозглого и бездарного сопляка.
Кевин наклоняется погладить Беккета, и кот цапает его зубами за руку. Он успевает дать улепетывающему зверюге шлепка и кричит:
– Эйдин, Нуала, Киран!
Потолки в доме не меньше четырнадцати футов высотой, и комнаты напоминают пещеры. Чтобы вас услышали в доме Гогарти, нужно орать во всю глотку. Кевину вдруг приходит в голову: это же и есть то самое, чего он клялся не допустить в своей жизни – семья, где все постоянно орут друг на друга.
С нарастающим беспокойством Кевин перебирает в уме все, что предстоит сделать в ближайшие часы. Рассказать Грейс о позоре матери, опять попавшейся на мелком воровстве, – хотя Грейс ведь в Дубае, а там, кажется, уже перевалило за полночь и началась среда. Позвонить Мику и узнать, как найти сиделку. Упаковать огромную и все растущую посреди этого адового бедлама гору рождественских подарков и впихнуть детям в глотки хоть немного зелени. Одно из очень немногих исключений в родительской философии невмешательства, которой придерживается Грейс, – настойчивое требование, чтобы дети съедали как можно больше полезных и разнообразных овощей. И это, конечно, правильно. Грейс родилась и выросла в Англии: заботливая и старательная старшая сестра – у ее неугомонно-хлопотливой матери-одиночки было пятеро детей. Отец смазал лыжи к соседке – замужней, хоть и жившей отдельно от мужа адвокатше по банкротствам. В доме всегда питались как попало: вместо моркови – чипсы, а мясо в любом виде, кроме жареного, вообще за мясо не считалось. Даже хлеб, и тот жарили. Насмотревшись на мать, мечущуюся между кухней и детьми, пытаясь свести концы с концами работая на трех низкооплачиваемых работах одновременно, Грейс навсегда уяснила для себя, что главное в жизни – карьера.
Если вспомнить, с этого и началось знакомство Кевина с будущей тещей – она хотела накормить его жареной картошкой с колбасой. Она уже собиралась спать, когда Кевин и Грейс заявились в дом после нескольких кружек в местном пабе. Грейс подошла к засуетившейся на кухне матери сзади, обхватила ее руками и осталась стоять в этой позе. Как будто выражение родственных чувств не ограничивается быстрым поцелуем или похлопыванием по спине, каким-то неловким моментом, который хочется поскорее оставить позади. Для нее это было чем-то естественным, как дыхание, удовольствием, которое хотелось растянуть подольше, как и для всех остальных в этой семье. Грейс сказала матери не переживать насчет Кевина, поскольку ее парень – она впервые назвала его так вслух – вполне может приготовить себе что-нибудь и сам. «Да ну?» – переспросил он тогда, изобразив на лице ужас. Теща засмеялась, она была смешливая, как и дочь. Чудесное свойство, подумал он тогда: способность развеселиться вот так сразу, без всяких усилий. А потом Грейс отправила своих братьев и сестер спать, отвела его в гостиную, плотно закрыла дверь и поставила фильм «Уик-энд у Берни» – в итоге они так и не увидели ничего, кроме первой сцены. Это стало их кодовой фразой: «Посмотрим “Уик-энд у Берни”»?
Шаркая ногами, он плетется на кухню, наливает щедрую порцию мальбека в единственную чистую емкость – пластиковую чашку-поильник с динозавриком, от которой почему-то до сих пор не избавились, и только тут до его сознания постепенно доходит глухой, отдаленный стук – будто где-то колотят-по дереву. Кевин идет в заднюю часть дома, и стук делается громче. Это Нуала молотит кулаками в дверь снаружи. Кевин открывает и начинает с порога:
– Ну сколько раз повторять…
– Папочка! – отчаянно вскрикивает Нуала и бросается к нему в объятия. Вся застывшая, как сосулька, нос красный, как у пьяницы, и из него течет. Она что-то говорит сквозь слезы, но в этом хлюпающем бормотании ничего не разобрать.
– Тихо, тихо, солнышко, возьми себя в руки, – говорит Кевин, похлопывает ее по спине и уводит в дом. – Успокойся.
Да сколько же можно ему сегодня плачущих женщин утешать?
Но ведь это не кто-нибудь, это его красавица Нуала, самая уверенная в себе и жизнерадостная из всего их семейного экипажа, и вот она жмется к нему, совсем как раньше – раньше все они так делали. И он обнимает ее. В его руках она кажется бесплотной, почти невесомой. Вечно он забывает, какие они еще юные и невинные, его дети, какие маленькие и простодушные, какие еще по-ребячьи беззащитные, а потом сам думает – каким же надо быть ослом, чтобы про это забыть? От волос Нуалы исходит резкий химический запах кокоса, и Кевину даже делается не по себе: он хоть не ядовитый, этот ее шампунь? Он целует дочь в макушку – раз, другой.
– Боже мой, я сто лет за дверью простояла, – выдавливает Нуала сквозь судорожные всхлипы. Кевин ведет ее на кухню, достает какао и сахар и ставит молоко на плиту.
– Бедняжка, – говорит он. – Как же ты умудрилась дверь изнутри запереть?
– Это Эйдин!
Кевин хлопает ладонью по столешнице. Больно, между прочим.
– Она кинулась на меня с кочергой, – продолжает Нуала. – Хотела меня обжечь, правда.
– Черт возьми! Да что ж вы… – Он сжимает ее плечо. – А Киран где?
– У соседей.
Кевин вздыхает.
– А Эйдин где сейчас?
– Не знаю и знать не хочу.
Желание отомстить за пострадавшую дочь – ее же чуть было не обожгли, а потом выставили из дому на арктический мороз! – и немедленно схватить за шиворот обидчицу, сорвать зло за весь этот дурдом на своей умной, сложной, вечно несчастной девчонке охватывает Кевина с такой силой, что пол буквально уходит из-под ног. Он взлетает вверх по лестнице, перемахивая жилистыми ногами бегуна через две, а то и через три ступеньки враз, и бросается к двери Эйдин, куда вход строго воспрещен для всех Гогарти, пока не постучишь дурацким кодовым стуком и вежливо не попросишь разрешения.
Но сегодня он вламывается без всяких церемоний. Комната – точное отражение дочкиного возраста, или душевного состояния, или того и другого вместе. Повсюду, за исключением того угла, где в идеальном порядке хранятся реликвии святого Чёткого, царит бардак. Пол завален хламом: дезодорант, весь облепленный ворсинками от ковра, разномастные джинсы и носки, вывернутые наизнанку, пакет из торгового центра, откуда торчит целый ворох бюстгальтеров: недавний поход по магазинам с матерью закончился полным фиаско, как нередко случается в последнее время. Рядом с кроватью Эйдин стоит чашка холодного чая, затянутого молочной пленкой, и тарелка с остатками утренних тостов – Эйдин, все более склонная к отшельничеству, с недавних пор взяла моду есть в своей комнате.
Кевин заглядывает во все остальные комнаты в доме, все сильнее закипая, наконец в спешке запинается о кровать Джерарда – большой палец ноги со скоростью пули врезается в металлический каркас, и Кевин во весь голос разражается смачным: «Япона мать!» Затем он спускается в подвал. Иногда Эйдин прячется здесь – устраивается с книжкой на покрытом плесенью кресле-мешке в тесной кладовке, куда он уже сто раз просил ее не соваться. Но ее нет и здесь.
Запыхавшийся Кевин возвращается на кухню и включает телефон. Набирает номер Грейс, затем Джерарда – Эйдин иногда откровенничает со старшим братом, – но телефон не отвечает. Хоть Кевина и тревожит полное отсутствие у Джерарда каких-либо амбиций – опасная черта в этом безжалостном мире, тем более когда вокруг полно пабов, откуда можно не вылезать, – но тому уже восемнадцать, и, слава богу, следить за ним Кевин уже не обязан.
Ему так и не удается ни до кого дозвониться.
Кевин вручает уже совсем успокоившейся Нуале кружку какао. Расхаживая по комнате, он залпом допивает вино и мысленно подводит итоги своего дерьмового дня: мать пришлось вытаскивать из полицейского участка, неуправляемая дочь шляется неизвестно где (ну, хоть остальные трое живы-здоровы, мрачно думает он, – не все еще прогадил), от жены, как обычно, ни совета, ни поддержки – ее дело толкать речи, обхаживать иностранных клиентов в закрытом частном клубе или поедать самсу где-нибудь в палатке посреди пустыни.
Кевин открывает последнюю банку кошачьего корма, и тут звонит телефон.
– У вас там что-то случилось?
Мама.
– О чем ты?
– Эйдин пришла, но из нее ни слова не вытянешь. – Эйдин у тебя?
– Я ей всегда рада. Может, и ты все-таки зайдешь – на телевизор взглянуть? Нам не вредно бы сейчас немного отвлечься. Как там называется этот фильм – ну, про ту американскую проститутку, с зубами которая, где она по магазинам ходит? Как он называется, Эйдин?
– Можно ей переночевать у тебя сегодня?
– Она не захочет, Кевин.
– Скажи, что у нее нет выбора. Она здесь такую бучу устроила, что теперь надо разрядить атмосферу. – Точно, «Красотка»! Умница.
Кевин откладывает телефон в сторону, направляется прямиком к письменному столу и отыскивает заявление о приеме в Миллбери.