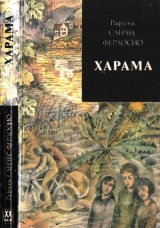
Текст книги "Харама"
Автор книги: Рафаэль Ферлосио
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
– Такой уж порядок. Мы должны оставить тело как есть и никого к нему не подпускать.
– Плохой порядок. Нельзя держать человека в таком виде.
– Да им-то что, мертвым, они ничего не чувствуют и не переживают, – вмешался посетитель, который слушал, облокотившись о стойку.
– Этого ты не знаешь, – возразила женщина, – все равно им или не все равно. Но даже если и все равно, это нехорошо: мертвого надо так же уважать, как и живого.
– Нет, не так же, а больше. Больше надо его уважать, чем живого, – сказал жандарм. – Ему причитается больше уважения.
– Конечно, – сказала Аурелия, поворачиваясь к посетителю. – Вот послушай, допустим, оскорбляют твоего отца. Когда тебе будет обиднее: если он жив или если уже умер?.. Беги, Гумерсиндо, тебя соединили.
Зазвонил телефон, и жандарм поспешно снял трубку.
– Слушаю!..
В павильоне стало еще тише, все повернулись на стульях, чтобы услышать Гумерсиндо.
– Слушаю! Сеньор секретарь?..
Кто-то из сидевших за столиками в самом дальнем углу шикнул на пьяную компанию, чтобы не мешали слушать разговор.
– Сеньор секретарь, говорят из Сан-Фернандо-де-Энареса, жандарм Гумерсиндо Кальдерон к вашим услугам!.. Что вы говорите? – Пауза. – Да, сеньор. – Он покивал головой. – Да, да, сеньор, из патруля на реке Хара… Что вы говорите?..
Теперь слушали все посетители, игра была прервана, карты лежали рубашками кверху на мраморе столика.
– Докладываю, – продолжал Гумерсиндо, – что здесь сегодня вечером произошел несчастный случай, утонула молодая девушка, по предварительным данным проживавшая в Мадриде, которая участвовала в купанье со своими… Слушаю, сеньор секретарь! – Пауза. – У плотины, да, сеньор, неподалеку от… – Снова пауза. – Хорошо, сеньор секретарь! – Пауза. – Конечно, понял, сеньор секретарь! Да?.. – Он слушал и кивал. – Да, да, да, сеньор… До скорой встречи, сеньор секретарь, к вашим услугам.
Немного подождав, он повесил трубку. Разговоры за столиками возобновились. Жандарм вернулся к стойке, взял свою треуголку и надел ее.
– Спасибо, Аурелия. – Он вышел из павильона.
Тито и Даниэль несли одежду. В роще к ним присоединился Рафаэль с товарищем, которые успели уже одеться. Выйдя из-под деревьев, они увидели силуэты оставшихся на мысу: все сидели, только жандарм шагал взад-вперед по берегу. Хосе Мариа подошел взглянуть на труп. Жандарм сказал:
– Передайте мне вещи… – и кивнул на Луситу. – Ее надо прикрыть.
Одежду свалили в кучу на песок, и Даниэль, присев на корточки, принялся разыскивать вещи Луси.
– Отойди, Тито, мне ничего не видно…
Он поднимал одежду к свету, который шел от закусочных, чтобы разглядеть, и наконец нашел свернутые все вместе вещи Луситы.
– Давай сюда, – сказал жандарм.
Пока сверток переходил из рук в руки, он развернулся и выпали босоножки и белье.
– Осторожнее, – сказал жандарм Даниэлю. – Подними. Ничего больше нет?
Уже возвращался пожилой жандарм, слышно было, как скрипели доски мостика.
– Еще что-то должно быть, по крайней мере сумка и судок.
Даниэль снова стал рыться. Себастьян и Паулина искали свою одежду.
– Вот они. Кажется, все.
Молодой жандарм принял вещи. Второй уже подошел к толу и платьем накрыл Луситу с головой. Платье было из набивного ситца, красные цветы на желтом фоне. Ноги оно не прикрывало.
– Посмотри в сумке, нет ли еще чего-нибудь.
Молодой жандарм нашел полотенчико в синюю полоску и передал его Гумерсиндо, который закрыл им ноги Луситы. Потом сложили в сумку босоножки и белье, поставили ее судок рядом с трупом.
Даниэль спросил:
– Надо мне, наверно, подняться наверх предупредить остальных. Как вы думаете?
– Спроси сначала у этих, разрешат ли.
– Да, конечно.
Гумерсиндо подошел к молодым людям, громко сказал, обращаясь ко всем:
– Послушайте меня: я только что связался с властями, с секретарем суда, и доложил о случившемся, он сказал, что сеньор следователь и он сам прибудут сюда максимум через три четверти часа. Я сообщаю вам об этом для того, чтобы вы не проявляли нетерпения и знали, как обстоят дела. Вот и все. Можете одеться.
Пятеро пловцов стали разбирать свою одежду. Что-то упало на мокрый песок, блеснул никель – из брюк выпала губная гармоника.
– Ты смотри, вон что нашлось! – сказал один из них.
Наклонился, поднял гармонику и постучал ею о ладонь, стряхивая песчинки. Тот, который был в мокрых брюках, вытащил из кармана едва начатую пачку «Честерфилда».
– Вон сколько пропало, жалко, – сказал он, показывая товарищам раскисшие сигареты.
– У тех вон потери побольше.
– Это верно.
Он швырнул сигареты в воду, потом стал на берегу отжимать свои брюки, глядя, как пачка разваливается и медленно плывет к плотине.
Паулина сказала:
– Мне страшно идти одной, Себастьян. Пойдем со мной, постоишь поблизости, пока я переоденусь за деревом. Одна я боюсь.
Они вдвоем пошли к роще, а Даниэль заговорил с Гумерсиндо.
– Вы знаете, с нами приехали еще ребята, и сейчас они ждут нас там, наверху. Я хочу пойти сказать им, ведь они ничего не знают, предупредить, если можно.
– Как вы сказали, где они?
– В кафе по ту сторону шоссе, знаете?
– Да, да, у Маурисио. – Жандарм задумался, вытащил часы. – Ладно, идите, но только быстренько, туда и обратно, поняли? – И показал на часы: – Пятнадцать минут я вам даю на оба конца, не опоздайте, а то, может, вдруг сеньор следователь приедет, а вас еще не будет. Договорились?
– Не беспокойтесь.
– Тогда идите. Быстро!
Даниэль повернулся и пошел к мостику. Тито, уже одетый, лег на бок, подперев голову рукой. Студенты курили, стоя на берегу и глядя на огни, отраженные в воде.
Владелец губной гармоники спросил:
– А каким транспортом мы сможем вернуться в Мадрид?
– Боюсь, что никаким, когда окончится вся эта процедура.
Рафаэль поднес часы к глазам, повернув руку к свету.
– Четверть одиннадцатого, – сказал он, – до последнего поезда осталось пятьдесят минут. Этим придется очень уж торопиться, чтобы отпустить нас вовремя на поезд.
– Не попадем, – сказал студент-медик.
– Ну так вот: либо ночевать в поселке, либо топать на своих двоих, третьего не дано.
– Пешком? Ну, ты даешь.
– А сколько по шоссе?
– Семнадцать километров.
– Не так уж много. От силы три часа ходьбы.
– Да еще при луне, – сказал студент-медик, оборачиваясь, чтобы взглянуть на нее, – по ночному холодку прекрасно можно дойти.
– Допустим, тут все кончится к двенадцати – в три дома.
– Я вообще не понимаю, Хосе Мариа, – сказал Рафаэль, – почему бы тебе не уехать. Тебе ведь не нужно давать показания. Дурака сваляешь, если не пойдешь на поезд.
– Я остаюсь с вами. Вместе приехали, значит, всем должно быть одинаково.
– Ну, как знаешь, твое дело. Мы не обидимся, если ты уедешь.
Паулина и Себастьян уже оделись и сели рядом с Тито. Себастьян прижался лицом к коленям, Паулина склонила голову ему на плечо.
Хосе Мариа сказал:
– Вот что надо, так это предупредить домашних. Кому-нибудь из нас позвонить домой, а там пусть предупредят остальных, как вы думаете?
– Ну вот ты это и сделай, ты свободен. Жандарм только что ходил звонить. Спроси у него, откуда можно.
– Я спрошу. Должно быть, в каком-нибудь из этих павильонов.
– Наверно. Ты все номера помнишь?
– Не трудитесь звонить ко мне в пансион, не надо, – сказал тот, у которого были мокрые брюки. – Не думаю, что кого-нибудь обеспокоит мое отсутствие.
– Хорошо. А какой твой номер, Луис?
– Мой? Двадцать три, сорок два, шестьдесят пять.
Хосе Мариа отошел, твердя про себя номер телефона. Вскоре они увидели, как он разговаривает с жандармами, – тот, что постарше, давал ему пояснения, указывая рукой.
Луна стояла уже высоко над равниной, и по ту сторону плотины, внизу, блестела извилистая лента Харамы, временами прячась меж холмами и снова появляясь, становясь все тоньше к югу, пока не терялась вдали, за последними холмами у горизонта.
Заскрипели доски мостика под ногами Хосе Марии. Паулина вздохнула.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил Себастьян, поднимая голову.
– Ну как я могу себя чувствовать? – ответила та чуть не плача. – Хуже некуда.
– Да, понимаю тебя.
Себастьян снова опустил голову, на плече у него беззвучно рыдала Паулина.
Жандармы прохаживались взад-вперед по песку, не отходя далеко. Тито казалось, что в свете, падавшем с набережной, он видит только один силуэт.
Тень проходила туда и обратно над прикрытым трупом Луситы. На той стороне, на террасе, у закусочных, несколько лампочек внезапно погасли.
– Ну, конец нам! – воскликнул владелец губной гармоники.
Жандармы на мгновение остановились, оглянулись на погрузившуюся в темноту террасу и снова принялись молча вышагивать. Теперь видны были только две горящие лампочки возле закусочных, да еще из дверей павильона на черную ленту набережной падала желтая полоса света. Кто-то вошел в эту дверь, заслонив свет, должно быть, Хосе Мариа. На мысу осталось совсем мало света. Лишь лунное сияние алюминиевой белизной дрожало на песке и обрисовывало фигуры людей, разбрасывая по земле молочно-белые пятна и полосы, будто кто-то брызнул на землю известкой.
Паулина два раза чихнула. Себас вытащил из сумки полотенце и набросил его невесте на плечи. Она взяла концы полотенца и стянула их на груди. Полотенце было влажное.
– Все здесь влажное!.. – пожаловалась она.
Говорила Паулина тихо и в нос, потому что много плакала. Она похлопала себя по плечам и, все еще дрожа от холода, продолжала:
– Нитки сухой не осталось… Господи, кругом сырость!.. Какое несчастье!.. – И снова разразилась рыданиями. – Я больше не могу, Себастьян, не могу, не могу… – твердила она и рыдала, уткнувшись в полотенце.
– Сами-то мы, – сказал Лусио, – гроша ломаного не стоим, даже и полгроша, когда надо что-то сделать. Но вот опыт, это да, – тут он улыбнулся, – кое-каким опытом мы с вами, молодыми, можем поделиться.
– Ты – конечно! – откликнулся Маурисио. – В самый раз бы тебе школу открыть – глядишь кто-нибудь и станет слушать.
– А что, и не сомневайся!
– Еще бы! У тебя к концу дня накапливается столько новостей! Жаль, что ты никто. Все пропадает ни за понюшку табаку.
– Ты не насмехайся, – улыбнулся Лусио. – Речь не о том, что я лучше других, тут дело в возрасте.
– В возрасте! Хорош будет тот, кто поймет твои мудрые советы буквально. Броситься под поезд – и делу конец.
– Мне кажется, ты не уважаешь старость. Что же ты оставляешь старикам?
– Помалкивать и дать жить другим. Больше ничего. Пусть вперед выходит молодежь. Не думай, что жизнь не изменилась. То, чему мы подчинялись, уже сколько лет как сошло на нет!
– Полегче, полегче. В конце концов человеческие заблуждения остаются такими же, или кажутся такими же.
– Ну да, вот ты попробуй обращаться с ними, как раньше, и увидишь, как сядешь в лужу.
– Но послушай, если бы кто-то придерживался хороших советов и не ошибался так, как ошибались до него, разве не меньше ему досталось бы синяков, кто бы он ни был?
Маурисио, улыбаясь, согласился:
– Вот это точно. Тебя можно брать в пример, только если поступать наоборот: учиться у тебя, как не надо делать. Тут ты, безусловно, прав.
– Слыхали? – обратился Лусио к присутствующим. – Как вам это нравится? Стоит себя грязью облить, как он уже с тобой согласен. Но вот что, Маурисио, я-то имел в виду только те беды, что выпали на мою долю, не надо путать. Одно дело сказать, что такая дорога нехороша из-за того, что ты повстречал на ней свору злых собак, другое – раскаиваться в том, что ты избрал именно ее. Тут большая разница.
– Да вы не очень-то его слушайте, сеньор Лусио, – прервал его Чамарис. – Пусть-ка он лучше нальет нам на дорогу по стаканчику, как это полагается, потому что пора уже уходить. – Тут он взглянул на мясников: – Верно?
– Да, да, – сказал Клаудио. – Мы тоже пойдем.
– Уже? – спросил Лусио.
Маурисио стал наливать вино.
– Пора. Нас ждут ужинать, – ответил Чамарис. – А как вы думаете? У вас семьи нет, а сами-то вы можете святым духом жить, с утра до вечера ничего, кроме жидкого, в рот не брать, вот и решили, что мы тоже способны на такое? Ошибаетесь.
– Пусть ваши домашние поужинают и ложатся спать, – сказал Лусио. – На то и воскресенье, чтобы мужчина поразвлекся. Настоящий мужчина домой в воскресенье не вернется, пока не опустеет карман.
– Только не этот, – возразил низенький мясник, указывая на Чамариса. – Он так не может. Стоит ему задержаться, ну, минут на десять-пятнадцать сверх назначенного часа, – сразу пришлют за ним нарочного, тут как тут и явится девчушка, вот как сегодня днем. – Он обернулся к Чамарису. – Правильно я говорю, любимчик своей семьи?
– Ну что из того? Они так делают, потому что не могут без меня и скучают. Как и положено. Оно и лучше, а то у иных как бывает: чем реже муж появляется дома, тем спокойней и веселей кажется ему жена, – ведь не надо целый день терпеть его присутствие.
– Так это ж и есть свобода в браке, – возразил мясник. – Ни больше, ни меньше. Просто молод ты еще, оба вы зеленые, как говорится, но будет время, не беспокойся, придешь и ты к этому и все сам поймешь.
– Ему даже лестно, – вмешался, смеясь, Клаудио, – ему лестно пока что, когда за ним посылают, – дескать, папочка, пойдем домой и всякие такие штучки.
– Еще как лестно! – подхватил первый мясник. – Так и тает от удовольствия! По лицу сразу видно. Но подожди, пройдут года, не так уж и много, начнет женушка у тебя расплываться, и увидишь, все пойдет иначе, сам увидишь. Тогда, голубчик, тебе только того и надо будет, чтобы тебя оставили в покое, понимаешь? Семейный долг свой выполнил и – будьте здоровы, мои милые. Вот как будет.
– Бог с вами! – сказал Лусио. – Вы, никак, хотите расстроить семейное счастье нашего друга?
– Мы? Да что вы, куда там. Попробуй расстрой. Когда у человека молодая жена, никакая на свете сила его не образумит. И думать нечего.
– Конечно, – поддержал коллегу Клаудио. – Он в своей Росалии души не чает. Его от нее за уши не оттащишь.
– Может, хватит? – запротестовал Чамарис. – Слишком, кажется, долго я служу вам темой для разговора. Довольно вы меня пощипали, смените пластинку. Да и пора уже идти. Что с меня причитается, Маурисио?
– Да, да, он прав, пусть отдохнет до завтра.
– С тебя девять пятьдесят.
Чамарис искал деньги между листками блокнота в захватанной желтой обложке. Кока-Склока все еще листал воскресный номер «АБЦ».
– Там, в саду, поют, – сказал Кармело, обращаясь к Маурисио; глаза его загорелись, он слушал, повернувшись лицом к коридору.
– Слышу.
Маурисио дал Чамарису два реала сдачи. Мужчина в белых туфлях уставился в пол, держа левую руку на выгнутой спинке стула Лусио.
– До завтра, – попрощался Чамарис.
С ним вышли оба мясника.
– До свидания.
– Доброй ночи, сеньоры.
– До завтра.
– До свидания.
Они ушли в темноту.
Алькарриец продолжал свое:
– Вот я и говорю, дон Марсиаль, шутки шутками, а я уж не раз подумывал, не собрать ли мне пожитки и не махнуть ли с семьей в Америку.
Пастух сказал:
– Куда тебе!
– На словах – куда угодно! – крикнул Кока-Склока. – На деле – никуда.
– Помолчи ты, рахитик. Неужели нельзя поговорить серьезно?
– Ха-ха, серьезно! Скажет тоже! – смеялся инвалид. – Он хочет, чтобы мы приняли всерьез его планы отправиться в Америку, ты слыхал? Ничего себе серьезный разговор! Да тут лопнешь со смеху!
– Ты-то что знаешь?
– Что я знаю? Видали его? Откуда мне знать! И это ты говоришь мне? Да сколько лет слышу одно и то же? Как себя помню, ты всем рассказываешь эту сказку. И хочешь, милый мой, чтобы тебя принимали всерьез? Ты уже отплывал в Америку побольше раз, чем сам Христофор Колумб!
– Это еще ничего не значит, – вступился дон Марсиаль. – Бывает, жуешь, жуешь какую-нибудь мысль, пока не разжуешь как следует. А когда никто уже этого не ожидает – бац! – и все в порядке!
– Ну да, как же, жди. Скорей пойдут мои ноги, как бы тяжелы они ни были, чем этот дядя стронется с места, попомни мое слово. Фантазия это все, игра воображения у него под кумполом.
– Так оно и есть, – подтвердил пастух. – Это все котелок его гудит и гудит, не переставая, вроде как осиное гнездо. Сам-то он, может, и верит в то, что говорит, но уж нас этой сказкой не убаюкает, мы ее наизусть знаем. Уедет он, как же, дожидайтесь.
– Да послушай, я же не отрицаю, что иногда задумываешь что-нибудь, лишь бы душу отвести, отключиться от своих забот, – ответил алькарриец. – Но только не пустые это мечтания. Как знать, может, если долго бить и бить в одну точку, в конце концов продолбишь дыру. И тогда как бы вам не опростоволоситься. Так что на вашем месте я бы поостерегся клясться и божиться.
– Не будь я Амалио, если тебя не похоронят здесь! Верно?
– Верней не бывает, – подтвердил Кока-Склока. – Какие тут могут быть сомнения? Готов дать расписку.
И все засмеялись.
– Много вы знаете! Насквозь все видите. Только во мне-то вы ошибаетесь, совсем вы меня не знаете, это уж мне поверьте.
– Ничего, – вступился дон Марсиаль. – Пришла им охота немного потешиться на ваш счет, они нарочно пытаются вас разозлить. Не обращайте внимания на все их шуточки да прибауточки.
– А я и не обращаю. Будто я не понимаю, куда они клонят. Только разозлить меня им не удастся. Дудки, не на того напали!
– Просто любят они придираться, больше ничего. Ну-ка, кто из нас не подумывал в какой-то момент об Америке более или менее серьезно?
– Вот видите? Значит, не такая уж это пустая мысль. Вопрос только в том, как на это решиться.
– Только в этом, правильно. Немало надо мужества, чтобы сделать такой шаг в жизни. Собраться с духом, взять да и сделать.
– Конечно. Кто не понимает, как трудно оторваться от места, где ты родился и прожил столько лет? Легко сказать – покинуть здешние края и здешний народ, каков бы он ни был, хорош или плох, но ты так или иначе всю жизнь с ними уживался! А тут вдруг с бухты-барахты отправляйся на чужбину, в такие места, которых ты сроду не видал даже на картинке и не имеешь никакого понятия, что там за народ, какие там нравы и обычаи. Тут всякий призадумается, если это, конечно, не отчаянный какой-нибудь, которому все нипочем.
– Самое трудное – свыкнуться с этой мыслью, – ответил дон Марсиаль. – А потом, как прибудешь туда, тоже поначалу растеряешься – кто это может с налету разобраться в том, что видит в первый раз? Но, я думаю, понемногу начнешь понимать что к чему и волей-неволей приноровишься к обстоятельствам, станешь на ноги. Нужда быстро всему научит, и будешь во всем разбираться не хуже местных.
– Еще бы, конечно. И говорить-то привыкают по-иному, слышал я эмигрантов, которые так и не могут вспомнить, как нужно говорить по-кастильски. Скажет что-нибудь на людях – смех один.
– Ага, что-то вроде этого показывают в фильмах с Кантинфласом[28] или с Хорхе Негрете[29], верно?
– Точнехонько. Как в этих лентах. Поначалу без хохота и слышать-то не можешь. В точности как в кино, никакой разницы. И это еще несмотря на то, что наши приехали из Венесуэлы, а эти, с лент, Кантинфлас и Негрете родились в Мехико, от Венесуэлы, как известно, очень-очень далеко, и не по той мерке далеко, к которой мы здесь, в Испании, привыкли, а по тем понятиям, которые там у них, то есть черт знает как далеко. А разговор везде почти такой же, не отличишь. В общем, как я понял, там наш испанский переломали совсем.
– И смотри-ка ты, как это прилипает! Все начинают говорить одинаково.
– Ну, знаете, если б только в этом была вся сложность, я завтра же сел бы на пароход. Пусть бы потом всю жизнь всё не так говорил, и пусть бы надо мной народ потешался, когда вернусь…
– Это я понимаю, – прервал его Амалио. – Подумаешь, новость сообщил! В том-то как раз и вся штука, что не так все просто, дело это тонкое, щекотливое. Я к тому и вел. Осложнений не хочет никто. Вот потому-то и знаю, что никуда ты не уедешь.
Кока-Склока опять стал читать газету.
– Ладно, погоди, настанет день, когда мне все осточертеет, вот тогда ты и скажешь, уеду я или нет, – возразил алькарриец. – До сих пор, кроме нужды, ничего я в жизни не видел, и теперь – никакого просвета, так что скоро, вот увидишь, переплыву я эту большую лужу, и навсегда кончатся все наши невзгоды и бесконечные неудачи.
– А что ты найдешь там, по другую сторону большой лужи, как ты говоришь? Ты, видно, думаешь, там чудеса в решете тебя ждут, не успеешь с парохода сойти.
– Хуже, чем здесь, не будет. В этом я уверен.
– Ну надо же, как люди сами себя обманывают, – воскликнул пастух. – Думают, стоит уехать куда подальше и тут же их житье само по себе станет лучше. Чем дальше, думают, отобьются от своего стада, тем счастливее будут жить. Подумаешь, переплыть лужу! Только как бы быстро ты ее ни переплыл, оказывается, не такая уж это лужа, а порядочный кусок моря, не так-то просто через него перескочить, и уже только из-за этой воды ты не сможешь вернуться, если там у тебя ничего не получится. Не знаю, и что вы думаете об океанах, так о них рассуждаете, будто, подумаешь, ничего не стоит проглотить какой-нибудь из этих океанов, раз – и готово.
– Никто так не думает. Я говорю только, что в Америке все иначе. В Америке…
– Ладно, не распинайся… – прервал его пастух. – Про то, как там в Америке, расскажешь мне, когда вернешься оттуда, хорошо? Если, конечно, когда-нибудь уедешь и тебе повезет и если ты вернешься и, вернувшись, еще застанешь меня в живых. Давай так и договоримся. А сейчас – поменьше сказок. Будет лучше и тебе и мне. Мои мозги и так здорово поджаривает солнце, которое печет голову с утра до вечера, пока я гоняюсь за овцами по этим богом проклятым пустошам.
– Ну и жарься тут всю жизнь, мудрец доморощенный. Так тебе и надо, и хорошо бы, ты еще лопнул, как каштан на углях, тогда перестал бы думать, что умнее всех!
– Я не говорю, что знаю больше того, что знаю на самом деле. Я только не ношусь со всякими глупыми баснями, как те недоумки, которые воображают, что все хорошо в дальних краях и чем дальше от родимых мест, тем легче живется. Работать надо везде, и чтобы кому-нибудь из нас заработать деньжат, надо гнуть спину, и никаких других способов нет, что тут, что в Америке, что на луне, если б можно было туда забраться. Без работы бедняку вроде нас с тобой нигде не прожить. Вот это я знаю твердо. И если некоторые привозят из Америки больше денег, чем увезли с собой, так знай, что они вылезали там из кожи и надрывали кишки точно так же, как это делают в Мадриде или где еще, а сами сбивают с толку людей, задуривают им голову. Жирные куски – не для тех, кто живет своим трудом, ты о них и не мечтай. Вот как, если без брехни. И как бы ни припекало, как бы ни жгло мне загривок в здешних адовых полях, я по-прежнему знаю, что в Америке ничего не потерял и что прожечь меня глубже, чем здесь прожгло, нельзя.
– Ты гляди, как он наскакивает, а? – воскликнул Кока-Склока, поднимая голову от газеты и улыбаясь. – Ай да Амалио, вот это оратор!
– Зануда он высшей марки, – сердито сказал алькарриец. – Хорошо еще, что я его знаю и не собираюсь принимать к сердцу его речи. Как и твои: вам обоим только бы довести меня до белого каления своими шпильками и подкусываниями. Но шалишь: терпения у меня хватит.
– И горе вам, если у вас его не хватит, – сказал дон Марсиаль. – Вон тот, кто там сидит, – и, протянув руку, он указал пальцем на Коку-Склоку, – вот этот. Это – самое вредное насекомое на сто тысяч гектаров вокруг него. С ним надо обходиться без всякой жалости: взять розгу и стегать, да покрепче! Всыпать как следует. И уверяю вас, я – единственный человек, который дружен с этим раздавленным навозным жуком, одетым в человеческое платье, который зовется Марсело Кока, а прозывается Кока-Склока, Слепень, Огрызок и Марсианин, и каких только еще прозвищ ему не надавали за его жизнь…
– Надо же! Достал из нафталина старое тряпье!.. – крикнул Кока-Склока. – Я, обладатель всех этих титулов, позабыл их, а он помнит. Какой ты чудесный друг, Марсиаль! Другого та-ко-го не сыщешь: ты бережно хранишь в памяти все ласкательные имена, которыми награждали твоего маленького обожаемого Кокиту! Подойди ко мне, подойди, я тебя облобызаю!..
– Он еще и смеется! Глядите, как ему весело, как он радуется, хоть и прикован к своему стулу!.. Вот он, глядите!..
Все четверо рассмеялись. Послышалось тихое грустное пение – это алькарриец запел тем особым фальцетом, каким поют в его краях, протяжно и монотонно:
Серая куропатка – красный гребешок.
Серая куропатка – поймать ее не мог…
– Ну, запел жаворонок в поле! – сказал пастух про алькаррийца.
– Сегодня он в ударе, – засмеялся дон Марсиаль. – Поет тихонечко, но с душой.
– Так поют у нас, – ответил алькарриец, скромно потупившись.
Вошел мужчина в перепачканной известкой одежде, поздоровался.
– Привет, Макарио, – отозвался хозяин.
Кока-Склока крикнул:
– Грека, Грека! Откуда ты в такой час? Разве не знаешь, что работать по воскресеньям запрещено?
– Другого выхода нет. Надо пользоваться. Изворачиваться, как можешь. Хватать, где удастся. Нужда заставляет – вот и работаешь.
Он не выговаривал «р», этот звук получался у него картавым, похожим на «г». Кока-Склока его передразнил:
– Это очень дугно, надо делать пегегыв в габоте хотя бы в воскгесенье. Нельзя так терзать себя, не то в один прекрасный день сердце откажет. Тогда – крышка!
– Если уж оно откажет, значит – все, – ответил Макарио. – Тогда спасайся, кто может, то есть настанет их черед, их и жены, перебиваться, изворачиваться и существовать как-нибудь. А пока выдерживаю, для меня ничего другого не остается, только физическая работа.
– Сколько их у вас? – спросил дон Марсиаль.
– Пять, к полдюжине идет.
Кто-то присвистнул.
– Значит, шестой уже в проекте? – спросил шофер.
– Ну да, если ничего не случится, будет шесть.
– Ничего не случится, можете не беспокоиться, – сказал Лусио, улыбаясь.
– Да я и не беспокоюсь. Ничего не случится. Выскочит и этот, как все его братья и сестры. Бог даст, ничего не случится.
Он говорил это, весело ворочая глазами, будто крутил их.
Все рассмеялись. Только мужчина в белых туфлях спросил вполне серьезно:
– Значит, пока что все появлялись на свет? И не было никаких недоразумений?
– Смотря что вы называете недоразумениями. Родиться – родились все, ни один там не остался.
Слова Макарио снова всех рассмешили.
– Доброе семя, ничего не скажешь!
– Разве только во мне дело? Что вы! Она тоже, со своей стороны, старается, как может, она – вроде тех породистых кур, которые выращивают всех, кого высидят, ни один не пропадет.
Дон Марсиаль заметил:
– А хорошо бы еще троих-четверых, правда?
– Это как посмотреть… Кто его знает.
– Чего тут смотреть – конечно, хорошо, – убежденно сказал пастух. – Надо же как-то увеличивать доходы. Пройдет несколько лет, и увидите, какая будет красота: один жалованье принесет, другой, – песеты так и потекут в дом. Для бедняка это самый верный способ бороться с нуждой. Вы правильно делаете, да, правильно, сеньор.
– Это если со мной не случится того, что предсказал Кока, если прежде я сам не загнусь от такого приращения семьи. В этом случае – а такое вполне может быть – боюсь, не придется мне увидеть собственными глазами ту красоту, которую вы только что описали.
Кока-Склока откликнулся со своего стула:
– Ладно, я беру обратно свое предсказание, не расстраивайся. Чтоб дожил ты до ста лет и не оплешивел.
– Ну, столько мне и не надо. За глаза хватит и восьмидесяти. Больше желать – это уже жадность.
Дон Марсиаль повернулся к Коке-Склоке и показал на свои часы:
– Милый мальчик, погляди, который час. Мне, во всяком случае, пора идти, так что, если хочешь, чтоб я тебя отвез…
– Ну подожди немного, в самый интересный момент ты вдруг заторопился. Не вредничай.
– Я не могу дольше задерживаться ни на минуту, меня ждет дон Карлос. Если хочешь, оставайся, но тогда уж добирайся до дома сам.
– Да нет, я поеду с тобой, раз тебе так приспичило. Дай мне хоть допить этот стакан, а? Чтоб не работать рычагами, я на все готов. Жду не дождусь того часа, когда я буду моторизованный и не придется мне больше рассчитывать на свои руки или зависеть от других.
– А что это значит быть моторизованным? – спросил мужчина в белых туфлях.
– Ну, знаете, сейчас ведь придумали мотороллеры и всякие другие штучки, вот и я надумал моторизоваться, чем я хуже других. В том смысле, что я хочу приделать моторчик к моему драндулету и тогда буду носиться метеором, как и полагается в атомный век. Я уже каждый месяц понемножку откладываю, чтоб вы знали. Надо только изучить техническую сторону вопроса, решить, какой моторчик и как его приспособить. Тогда увидите: я буду бегать быстрее вас всех.
– Это ты хорошо придумал; если денег хватит, остальное – ерунда.
– Вот уж будет на что посмотреть: ты носишься туда-сюда по улицам Сан-Фернандо и по окрестностям на своей таратайке: трр-трр-трр… – закричал алькарриец.
– Ты, наверно, думаешь, что я не видал таких колясок с моторчиком? Погоди, придет зима, и еще попросишь у меня прокатиться. И все вы будете кричать, чтоб я остановился, подождал вас, когда выйдем прогуляться на Главное шоссе.
– Пошли, Кока, пожалуйста, не задерживай меня.
– Вот пристал! Ну ладно, вытаскивай меня отсюда.
Алькарриец взял за спинку стул, на котором сидел Кока, и отодвинул его от столика. Инвалид протянул руки, дон Марсиаль нагнулся и взял его под мышки:
– Иди, сыночек… – сказал он женским голосом, подражая ласковой матери. И легко поднял его.
– Получи, мамочка!
Раздался звонкий звук пощечины, которую Кока залепил своему другу.
– Ну и ну! – воскликнул алькарриец.
Присутствующие рассмеялись. Дон Марсиаль, у которого покраснела щека, пояснил:
– И приходится терпеть. Разве поднимется рука на такое вот?..
И он показал всем, приподняв повыше, скрюченное тело: голова без шеи, втиснутая в грудную клетку, руки почти нормальной длины, несоразмерные по отношению к туловищу, и безжизненные, атрофированные ноги, болтавшиеся как плети, оттянутые тяжестью безобразных черных ботинок.
– Спокойной ночи, сеньоры, – сказал он, сидя на руках у дона Марсиаля.
Вдруг он потянулся к Макарио и ухватил его за отворот куртки:
– Иди-ка сюда, плодовитый папаша, – смеясь, закричал он и потянул Макарио к себе.
– Чего тебе? Отпусти!
У Макарио под курткой и рубахи не было: голая безволосая грудь. Кока-Склока с силой дергал его за отворот куртки, запачканной известкой.
– Ну же, Грека! – говорил он. – Повтори-ка: «Ехал Грека через реку…» Послушаем, как ты это скажешь!
– Да брось ты свои шуточки! – запротестовал дон Марсиаль. – Отпусти его!
– Ну, слышишь? Тебе говорят, отпусти!
Кока-Склока замахнулся левой рукой:
– Дать тебе, что ли? Сейчас ты у меня схлопочешь!
Все засмеялись. Макарио пытался вырваться из рук инвалида, но тот вцепился изо всех сил и продолжал дергать его:
– Ну же, давай; «Ехал Грека через реку…» Быстро скажи!








