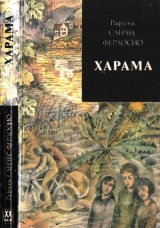
Текст книги "Харама"
Автор книги: Рафаэль Ферлосио
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Дон Марсиаль тоже качался от резких рывков инвалида, как и Макарио.
– Да отпусти ты его, чертово семя! – вышел из себя дон Марсиаль. – У меня руки устали тебя держать! Из-за тебя я опоздаю! Отпусти его! Отпусти, не то я тебя брошу!
– Ну пусть он скажет! Давай, скажи! Скажи!
– Не приставай, Кока! Не старайся, ничего я не скажу. Отпустишь или нет?
Кока-Склока отпустил лацкан.
– Ну ладно, Грека, не хочешь брать у меня уроки… Никогда в жизни не научишься произносить «р»! Не видать тебе успеха, ничего ты не добьешься, никем не станешь! Никто и никогда тебя не вытащит из темноты, в которой прозябаешь сейчас! Так на веки веков и останешься деревенщиной!..
Макарио, освободившись от Коки, отошел к остальным. Все смеялись. Дон Марсиаль с инвалидом на руках дошел уже до дверей, на пороге обернулся:
– Видали, какое вредное насекомое? А я его ношу на руках, будто это невинный ангелочек! – Он покачал головой. – Доброй ночи всем!
И шагнул через порог, но тут Кока-Склока вцепился в косяк и в занавеску и задержал дона Марсиаля, подтянувшись на руках и повиснув на занавеске. Через его плечо он прокричал:
– Ехал Грека через реку! Ехал Грека через реку!..
Дон Марсиаль тащил его, пытаясь оторвать от двери, а Кока-Склока кричал и бился у него на руках, занавеска тянулась за ним в ночную темень, пока не выскользнула из рук инвалида. Покачавшись, она, наконец, спокойно повисла. С улицы донесся голос дона Марсиаля:
– Господи боже, ну что за зловредная букашка! За что мне такое наказание?..
Он усадил Коку-Склоку в его кресло. В последний раз донеслось:
– Ехал Грека!!
И дон Марсиаль покатил кресло по дороге.
– Ну и чертенок этот Кокита! – заметил шофер. – Сегодня он, видать, хватил лишнего…
– Какое там лишнего! – сказал Маурисио. – Он всегда такой взбалмошный, даже когда вовсе и не пригубит.
Мужчина в белых туфлях сказал:
– Бедняга. У него только и удовольствия в жизни, что поднять шум. А что еще? Весь интерес в том, чтобы побыть на людях и сцепиться то с одним, то с другим, пошутить, поскандалить.
Подошли Макарио и пастух. Лусио сказал, указывая на Макарио:
– Он его из себя вывел с этим «р» и стишком про Греку.
Макарио ответил:
– Видели, как он пристал и как заупрямился? И не говорите, немало мне стоило от него отделаться.
– Ну да. Он думает, вы так и будете повторять для него этот глупый стишок, только чтоб посмешить его, как ребенка.
– А он не так далеко и ушел от ребенка, – заметил мужчина в белых туфлях. – При его увечье человек в своих поступках и желаниях только и может уподобиться ребенку.
– За это ему все прощается, – сказал Макарио, – за то, что он такой, какой есть. Ну и, конечно, сам по себе он забавный и симпатичный, этого у него не отнимешь. Даже при том, что сегодня он оторвал мне пуговицу, – он шарил глазами по полу, – когда дергал за куртку. Да еще обозвал деревенщиной. – Тут он перестал искать пуговицу и поднял голову. – Так я и есть деревенщина, кем же мне еще быть?
Его уже не слушали. Говорил Лусио:
– Такое увечье я считаю самым большим несчастьем, которое могло бы со мной случиться. Не знаю, что может сравниться с этим. Я предпочел бы десять раз вновь пережить все мои беды, только бы не стать таким, как он. Я хочу сказать, лишь бы тело мое оставалось, какое оно есть. Пусть любой смертельный недуг, но чтоб я оставался собой, как говорится. Я даже простой зубной боли, какая бывает у каждого, панически боюсь, боюсь больше, чем всех хворей и напастей, которые рыщут по свету, отыскивая, на кого бы обрушиться.
– Да, конечно, – вступил в разговор Кармело. – Хуже зубной боли нет ничего. Самая страшная ночь – это когда разболится зуб. Не помогут ни таблетки, ни компрессы, ни коньяк, не отвлечет ни сигарета, ни журнал, ни радио, ни что другое. Остается только уткнуться в подушку и страдать, пока не настанет утро, а потом галопом скачешь к зубодеру. Правильнее сказать – к стоматологу, как написано на дощечке, прибитой к дверям. Так что щипцы – и вон, конец всем мученьям. Самое верное дело. Это единственное, что помогает от зубной боли, а всякие там успокоительные, полоскания – все ерунда, только щипцы и спасают.
Он посмотрел на лица собеседников и умолк. Потом взглянул на свои пальцы, выглядывавшие из рукава, и стал с любопытством наблюдать за пальцами, как за живыми существами, которые шевелились сами по себе, теребя медные пуговицы мундира. В саду шумели все громче. Амалио сказал:
– Там веселятся вовсю.
– Молодость, – откликнулся алькарриец. – Все мы так или иначе прошли через это.
Макарио сказал:
– Вот именно. Несознательный возраст. Безумствуют себе и знать ничего не хотят.
Наступила тишина. Наконец шофер сказал:
– Сеньор Маурисио, налейте-ка нам на дорожку. Пора уж и по домам.
Маурисио взял бутылку и принялся наполнять стаканы.
– Пейте… – И посмотрел на дверь.
Вошел Даниэль, спросил:
– Они там?
Все посмотрели на него.
– Скажите, они еще не ушли?
– Нет, нет, – ответил Маурисио. – Они еще там. Что-нибудь случилось?
– Да, несчастье.
Он быстро прошел через зал и скрылся в коридоре.
– Глядите-ка, кто пришел! – воскликнул Лукас, увидев Даниэля.
– Давно пора! – крикнул Фернандо. – Все пришли?
– Мы уж уходить собрались.
– Мигель! – сказал Дани. – Можно тебя на два слова?
Все забеспокоились.
– А что случилось?
– Мне надо поговорить с Мигелем.
Тот вышел из-за стола. Даниэль взял его под руку и вывел на середину сада.
– Что такое? – сказала Алисия. – Так таинственно.
– Хочет нас заинтриговать.
– Нет, я уверен, что-то случилось. Что-то серьезное. По нему видно!..
Все замолкли, глядели на тех двоих, о чем-то тихо говоривших под лампой. Даниэль стоял спиной. Вдруг они увидели, как лицо Мигеля исказилось ужасом и как он, схватив Даниэля за плечи, встряхнул его. «Алисия, сюда! Все идите сюда! – крикнул он. – Случилось ужасное несчастье!» Все бросились к ним, обступили. Мигель глядел в землю, все застыли в молчании, ожидая, что он скажет.
– Скажи ты…
Мели принялась кричать, хватая за руки то того, то другого, требуя, чтобы они все им сказали наконец, все сказали, что бы там ни случилось. Даниэль опустил голову: «Лусита утонула в реке». Все содрогнулись. Бросились к Даниэлю: «Но как? Как? Скажи, ради бога, как это могло случиться?..» Вцепились в него, тянули его за рубашку: «Даниэль!..» Мели сжала руками голову: «Я знала, знала, что это Лусита! Я знала, что это Лусита!..»
– Недавно. У плотины. Они купались.
– Надо идти вниз, – сказал Мигель.
– Кто-то из девушек, что приехали с вами? – спросил стоявший позади парень из Аточи.
– А ну тебя… – отмахнулся от него Фернандо. – Идем, Даниэль, идем сейчас же туда…
Они кинулись к двери. Мели хотела пойти с ними.
– Не ходи, – остановил ее Сакариас. – Лучше не ходи. Это произведет на тебя ужасное впечатление.
– Что?.. – сказала она, глядя ему в глаза. – Мне не ходить,? Да что ты говоришь, Сакариас? Как это я ее не увижу!.. Ведь всего каких-то… – И она зарыдала. – Совсем недавно, боже мой, совсем недавно она была с нами!.. Как это мне не ходить!.. Как не пойти!..
Ребята из Легаспи принялись собирать вещи.
– Мы не пойдем, – сказал Лукас. – Зачем?
– Да, нам лучше уехать. Мы еще успеем на поезд. Забирай патефон, и пошли.
Марияйо подошла к Сакариасу.
– Иди с ней, Сакариас, – сказала она. – Обо мне не беспокойся, побудь с ней, идите. Я поеду с Самуэлем и этими ребятами. В самом деле…
Он посмотрел на нее:
– Спасибо тебе, Марияйо.
– Не за что. Как же иначе? – сказала она и отошла.
Сакариас и Мели направились к реке вслед за Мигелем, Алисией, Фернандо и Даниэлем. Остальные стали собираться на станцию вместе с парнями и девушками из Легаспи, сложили вещи и медленно пошли по коридору. Поскольку первые четверо прошли мимо стойки не задерживаясь, Маурисио спросил у тех, что спешили на поезд:
– Что случилось, ребята?
– Утонула в реке девушка, – ответил парень из Аточи.
– Черт побери, вот беда-то! – воскликнул алькарриец, качая головой.
– Которая из девушек?
– Не могу сказать, я ее не знал. Она приехала с ними. Наверное, они ее знают, – указал он на Самуэля и Марию Луису.
– Не та, что приехала на мотоцикле?
– Что? На мотоцикле? Нет, ту зовут Паулина, – ответил Самуэль. – А эта – пониже, у нее каштановые волосы…
– В голубом платье?
– Ой, не знаю, в чем она была, я сегодня ее не видел. Звали ее Луси…
– В голубом была Кармен, – вмешалась Мария Луиса. – Нет, не она.
– Эта девушка была, ну, как вам сказать, тоненькая, с лицом таким немного… нет, не знаю, какие приметы вам назвать…
– Скажите, сколько мы вам должны? – спросил Федерико.
Маурисио обернулся к нему:
– Что вы брали?
Пастух не переставая качал головой:
– Боже мой! Ни один праздник не проходит спокойно! Всегда должно случиться что-нибудь, чтоб испортить и нагнать тоску. Ну откуда можно было ждать…
Сакариас и Мели догнали Даниэля и других уже за виноградниками. Шли молча и быстро, почти бежали. Мигель повернул было к лестнице с земляными ступенями, по которой они поднимались днем, но Даниэль остановил его:
– Не сюда, Мигель, с другой стороны.
Они пошли к закусочным и деревянному мостику, проскрипели под ногами доски, и они очутились на мысу. Показались темные силуэты, прежде всего заметили жандармов. Мели увидела лица, когда их осветила луна. Навстречу им направилась Паулина.
– Алисия, Алисия! – воскликнула она и, обняв подругу, снова разрыдалась.
Подошли к телу Луситы.
– Не приближайтесь, – сказал пожилой жандарм.
Но Мели уже склонилась над Луситой и открыла лицо. Себас стал рядом с Мигелем и крепко сжал его руку, не говоря ни слова, прижался лбом к плечу товарища, который глядел на труп. Жандармы поспешили к Мели, один из них поднял ее за руку.
– Отойдите, сеньорита, разве не слышали? Нельзя трогать.
Она в ярости обернулась, рванула руку:
– Отпустите меня! Не прикасайтесь! Оставьте меня в покое!..
Все стояли вокруг тела, глядя на лицо девушки, почти скрытое волосами. Только Тито остался лежать на песке, приподнявшись на локтях. Мели снова склонилась к лицу Луситы.
– Будьте любезны повиноваться мне, сеньорита, отойдите от погибшей. – Жандарм снова взял ее за руку. – В противном случае…
– Отпустите меня, грубиян, скотина!.. – плача, крикнула она и стала вырываться, колотя свободной рукой по державшей ее клешне.
– Без оскорблений, сеньорита! Придите в себя! Не заставляйте применять к вам другие меры!
Все подошли к ним.
– Людишки вы, вот вы кто! – кричала Мели, снова вырвавшись. – Людишки! Видишь, Сакариас, видишь, какие они?
Плача, она уткнулась ему в плечо. Шел поезд: белый луч прожектора, ряды освещенных окон, мелькавшие высоко на мосту.
– В таком случае, сеньорита, – сказал жандарм по имени Гумерсиндо, вытаскивая из кармана записную книжку, – сейчас же сообщите ваше имя. Вы узнаете, что такое неподчинение властям.
Второй жандарм приблизился к трупу и снова закрыл лицо. Подошли студенты.
– Простите, одну минуту, – обратился к Гумерсиндо студент-медик. – Вы, может быть, скажете, что не мое это дело… Но должен обратить ваше внимание на то, что девушка сейчас от сильного потрясения…
– Да, да, я согласен с вами: она взволнована и все прочее. Но это не дает ей права оскорблять кого бы то ни было. Тем более нас, представляющих здесь то, что мы представляем.
– Я это понимаю и совершенно с вами согласен, – ответил студент примирительным тоном. – Единственно, что я хочу сказать, так то, что естественно и извинительно человеку в подобных условиях потерять контроль над собой, тем более девушке, в состоянии нервного шока…
– Но вы также должны понять, что мы здесь выполняем постановление, специальную инструкцию относительно того, как действовать в подобных случаях, и ответственность наша велика, так что нам вовсе ни к чему неповиновение и сопротивление, которое оказала нам эта сеньорита.
– Никто с этим не спорит, мы совершенно с вами согласны, я просто хотел попросить вас о снисхождении, чтобы вы учли, под каким впечатлением она сейчас находится, ведь в таком состоянии девушка не может отдавать себе отчет в том, что говорит. Только об этом и идет речь, мы просим извинить ее и не принимать к сердцу ее слова.
– Да, да, ясно, что мы здесь лишь выполняем свой долг, но вы заметьте – дело это очень серьезное, как вы сами понимаете, а вот не все и не всегда знают, насколько оно серьезно и что мы при исполнении служебных обязанностей, а раз их на нас возложили, это, наверно, тоже не зря, а, как вы думаете? А некоторым кажется, что это игрушки, верно? И не понимают, что совершают преступление, ни больше ни меньше, как уголовно наказуемое преступление, вот что. Вот и посудите, можем ли мы позволять… – Он убрал записную книжку в карман: – Ладно, на этот раз ей сойдет, а наперед пусть думает. Надо немного прислушиваться к словам, которые произносишь. Простое волнение не дает права говорить что попало. Так что я вас предупредил.
– Ну хватит, – вмешался второй жандарм. – Теперь отойдите все отсюда, и не будем нарушать порядок. Шагайте.
– Будьте добры, – сказал первый жандарм, – разойтись по своим местам. И держитесь как положено, соблюдайте уважение к бренным останкам жертвы, а также к представителям власти. Сеньор следователь, должно быть, скоро уже прибудет.
Все отошли, встали вокруг Тито. Мели уже успокоилась.
– Это те ребята, которые бросились в воду спасать ее. Они сделали все, что можно, но было уже поздно, – вполголоса пояснял Себастьян.
Даниэль сел на песок рядом с Тито. Снова заскрипели доски мостика, вернулся Хосе Мариа.
– Мы пошли окунуться, – продолжал Себас, – смыть с себя грязь и пыль, так, зайти и выйти. Она первая пожаловалась, что ее раздражает грязь и песок. – Он обхватил голову руками. – И надо же было, чтоб мне пришла в голову эта злосчастная мысль! Как вспомню об этом, Мигель, убил бы себя, ей-богу!.. Хочется биться головой о стену, клянусь тебе. – Он помолчал и закончил потухшим голосом: – Хоть бы уж этот следователь приехал.
Все вокруг него молчали, глядя на реку, на редкие далекие огоньки. Хосе Мариа, ходивший звонить по телефону, уже подошел к своим друзьям.
– Все в порядке, – сказал он. – Я ничего не стал рассказывать, сообщил только, что мы приедем поздно, что опоздали на последний поезд. А рассказывать всего не стал, чтоб зря не всполошились.
– Правильно сделал. Ты же знаешь, что такое родители: скажи им только «утонул», они сразу начнут строить глупые предположения и не успокоятся, пока не узреют тебя. Расскажем завтра.
– А эти откуда взялись?
– Только что пришли. Тоже, видно, друзья девушки.
– Понятно.
Жандармы снова принялись расхаживать взад-вперед.
– Пока ты звонил, тут снова чуть не вышла заваруха.
– А что?
– Да ничего особенного, этих деятелей оскорбила одна из девушек, они не позволили ей открыть лицо мертвой и взглянуть на нее. Вздумали схватить ее за руку, а она чуть не кинулась на них, как пантера, обругала так, что один жандарм уже вытащил записную книжку, хотел записать ее имя, да вот он вступился и отговорил – настоящий дипломат.
– Слишком уж они держатся за инструкцию. Не возьмут в толк, что люди-то не каменные.
– Да и у них работенка незавидная, – сказал владелец губной гармоники. – Потому и лезут в бутылку из-за пустяков. Веселенькое дело – дежурить у трупа, отбывая номер до конца, и все за те же деньги. Так что сами понимаете.
– И это верно. Слушайте, есть у нас еще сигареты?
Тито и все, кто был с ним, сели. Только Мигель и Фернандо оставались на ногах. Сакариас, сидя рядом с Мели, глядел на тени, возникавшие в лунном свете, руками он пересыпал песок.
– Никак не могу поверить! – сказал Фернандо. – Бывают вещи, которые не можешь представить себе, какими бы реальными они ни были. Так и здесь: все ясно, я вижу собственными глазами, но не могу себя убедить, что это так, не умещается в голове.
Мигель молчал. Сакариас поднял руку, и песок посыпался между пальцами. Там, где стояли студенты, светился огонек, который двигался от одного к другому: они прикуривали.
– Утром такие веселые приехали…
– Так уж жизнь устроена, – сказал Макарио, – что в какой-то момент, когда этого меньше всего ожидаешь, возьмет вдруг да и трахнет тебя по голове. Ни о чем не беспокоишься, и вдруг – раз тебя дубинкой по голове!
Маурисио кивнул, соглашаясь:
– Да, действительно, кто мог сказать этой девушке, когда она утром вошла сюда, что уже больше домой не вернется, что останется здесь навсегда?
– На веки веков, аминь, – сказал пастух. – И кто мог сказать отцу, когда он провожал ее на пикник, что видит дочь в последний раз, что в последний раз целует ее?
– Вот именно! Именно об этом я сейчас думаю! – глухим голосом воскликнул мужчина в белых туфлях. – Я думаю о родителях, которые так внезапно потеряли дочь, в одно мгновение, раз – и никого нет… Вот она была, и нет ее – исчезла, будто молния. Когда такое случается из-за болезни, долгой ли краткой, все равно, конечно, тяжело, но это совсем другое дело. А тут, что говорить, еще утром видел ее здоровой и веселой, чего доброго, поставил для нее прибор к ужину, как вот сейчас наверняка сделали родители этой девушки, и ни минуты не сомневаешься, что она жива, а вот в одну секунду, мгновенно – бац! Телеграмма, записка, телефонный звонок… И ее уже нет. – Он сделал жест, как бы подводя черту. – Вот что меня ужасает.
– Все верно, – заметил шофер. – Страшное дело.
Мужчина в белых туфлях продолжал:
– Вот почему, когда кто-то умирает и начинаются охи да ахи, «бедненький» да «бедняжечка», я всегда задумываюсь: а как же те, что остаются? Ведь вот кому действительно больно, вот кого проняло до самых печенок! Их-то и надо жалеть. Я согласен, что девушка испытала страшную муку, это понятно, но сейчас-то она уже отмучилась, для нее все кончено. И сочувствовать теперь нужно не ей, а родителям, тем, кому еще долго будет больно, по-настоящему больно.
– Ну как можно говорить такое! – возразил алькарриец. – Как можно все переворачивать! Что уж так жалеть родителей: они свой век прожили, и от жизни им ждать почти что нечего. Иное дело молоденькая девушка, которая только начинает жить, только начинает входить во вкус жизни. Что из того, что она уже не страдает? Все равно она оставила этот мир, когда жизнь в ней кипела, когда ей только бы жизнью и наслаждаться. Вот чего жаль, и беда эта побольше, чем то горе, что ожидает ее родителей, во сто крат больше! Такое и сравнивать нельзя!
– Нет, дружище, тут мы с вами не сойдемся. При всем к вам уважении я смотрю на это дело с фактической стороны. Один факт, каким бы прискорбным он не был, уже свершился. Другой – растянется надолго: родители горевать будут до конца своей жизни.
– Э, нет, сеньор, это уж оставьте! Вы не берете во внимание такой вещи: родители, как бы им ни было тяжко сегодня, через восемь, десять, ну, сколько угодно месяцев или даже лет, если хотите, успокоятся, забудут о дочери, станут жить, как прежде, разве не так? А вот к девушке то, что было прежде, уже не вернется, то, что она потеряла, ей никогда не вернуть, смерть отняла у нее все, для нее все кончилось сегодня. И никто ей жизни не вернет, разве не так? А все остальное рано или поздно возвращается в прежнее русло.
– Да нет, это не так, ясное дело, не так, – сказал Кармело. – Тут не за что ухватиться. С какого бока ни посмотри, все равно плохо, как на кооперативной ферме. Плохо и лучше не будет. Такая же штука вот и с этой лютой смертью, чего уж хуже.
Алькарриец продолжал, обращаясь к мужчине в белых туфлях:
– Если б речь шла о какой-нибудь трясогузке, клянусь, я бы с вами согласился. Но когда речь идет о молодой девушке, как вот сегодня, тут дело поворачивается совсем по-другому. Ничего похожего.
– Вот чего бы я не стал говорить так уверенно, – сказал Лусио, – так это что жизнь молодым милее, чем старикам. Мне-то кажется, что чем ты старше, тем тебе жизнь дороже. К старости от нее много уже не возьмешь, тут я согласен, но кто вам сказал, будто за ту малость, что нам остается, мы не цепляемся куда крепче, чем в молодости за то многое, что нам было дано?
Мужчина в белых туфлях слушал с одобрением и собрался было ответить, но его опередил шофер, прервавший дискуссию:
– Ладно, при всем при том я и так пробыл с вами дольше, чем собирался. Давно уж нацелился уходить и все еще здесь. Так что ваш покорный слуга желает всем спокойной ночи и убегает. Мы в расчете?
Маурисио кивнул, и шофер быстро осушил свой стакан:
– С богом.
– До завтра.
– Завтра не приду, – обернулся он с порога, – послезавтра, наверно, тоже. Поездка в Теруэль, так что до среды, а может, и четверга сюда не загляну.
– Тогда счастливого пути.
– Благополучного возвращения.
– Спасибо, до свидания.
Шофер вышел.
– У этого тоже собачья жизнь, – сказал Лусио. – Черт-те что! Сегодня в Теруэль, завтра – в Сарагосу, послезавтра – в тартарары. И так без остановки.
– Ну, не скажите! – возразил Макарио. – Этому живется – лучше не надо. Хотел бы я так пожить. Мне бы хоть краешком глаза взглянуть на разгульное житье, какое он ведет в этих столицах. – Он произносил «кгаешком» и «газгульное». – Он там не теряется, я-то уж знаю. Шоферы – все равно что моряки, сами понимаете.
– Я этому не верю. Глупости, ну, выпьет водочки, что ж тут такого?
– Как бы не так, водочки! Я вам вот что скажу: хотел бы я на эту жизнь посмотреть, водочку он там пьет или еще чем занимается. Да и правильно делает, какого черта, если организм выдерживает? Мы все на коротком поводке или просто горемыки, потому что не хватает у нас духу наплевать на совесть и урвать от семьи какие-нибудь жалкие пять дуро. Тут нам за ним не угнаться. Кто как живет, в этом все дело.
– Послушай, Макарио, – прервал его Маурисио, – он мой клиент, и мне не нравится, что ты о нем здесь распускаешь слухи. Так что прошу тебя, прекрати эти разговоры.
– Ну конечно, он – единственный, кого мы здесь не обсудили.
– Я знаю, люди любят посудачить друг о друге, – сказал Маурисио. – Только учтите, в этом доме каждый завсегдатай – особа неприкосновенная. Всякий, кого я допускаю сюда, с той минуты, как он принят, может быть вполне уверен, что имя его будут здесь уважать как при нем, так и в его отсутствие. Тебе такая гарантия тоже дана, и тебе она приятна, верно? Так не нарушай ее в отношении других.
– А мне наплевать, что обо мне говорят, – засмеялся Макарио. – Всякое заведение теряет половину своей прелести, если там не соберешь сплетен, не почешешь язык.
– Мне можете об этом не говорить, – с горечью произнес мужчина в белых туфлях, – этой самой прелести у меня в салоне мужских причесок хоть отбавляй. Но вот мне от этой прелести, клянусь вам, проку никакого. И если бы все заведения, открытые для публики, как гигиенические, так и увеселительные, придерживались бы правил Маурисио, то этим воспитывалось бы уважение к гражданину. И от этого отношения в обществе между людьми не стали бы хуже, поверьте мне, они просто стали бы более культурными.
Из коридора появилась Фаустина:
– Маурисио, а куда ушли эти молодые люди? Выхожу я в сад прибрать за ними, думаю, совсем ушли, и вижу их велосипеды, в такой-то час.
– Несчастье у них случилось, разве не знаешь? Утонула одна девушка.
– Да что ты говоришь! Которая? Они же все были тут, в саду!..
– Нет, Фаустина. Они не все поднялись сюда, некоторые остались у реки.
– Ах, господи боже мой!.. – покачала головой Фаустина. – Какая беда! Хотя можно было ожидать… Приехали кто как, делали что вздумается… Как тут не быть беде? И гляди, какое страшное несчастье случилось, какой ужасный случай! Нет, я не удивляюсь, нисколько не удивляюсь… Видит бог, мне жаль девушку, но я не удивляюсь, могло случиться что-нибудь и похуже… – И снова скрылась в коридоре, продолжая ворчать.
– Интересно посмотреть на их лица, когда они вернутся обратно, – сказал Лусио.
– Так вы их увидите.
Стало тихо.
Заговорил Маурисио:
– Река эта – предательская. Каждый год кого-нибудь уносит.
– Да, каждый год, – подтвердил пастух.
– И всегда кого-нибудь из Мадрида, – заметил алькарриец. – Вот в чем штука; обязательно из Мадрида, других не признает. Вроде только мадридцы ей по вкусу.
– Вот именно, – согласился Макарио, – здешних, похоже, она знает и не связывается с ними.
– Скорей они ее знают и понимают, что с ней шутки плохи.
– Это верней будет, – сказал Амалио, пастух, – конечно, верней. Река она и есть река, очень ей нужно кого-то знать и с кем-то считаться. Правильно вы сказали. В разгар лета она такая, как сейчас, вроде и воды-то в ней кот наплакал, но ей это нипочем: пусть хоть треть воды в ней осталось – на тебе! – ухватит за ногу и заглотнет. Да еще как быстро, жадно, будто с голодухи. И кого она ухватит как следует, того из ее пасти не вытащит сам Тарзан с его гривой, ножом и штанами из тигровой шкуры. Ни за что!
– Что и говорить, – добавил алькарриец, – дорогонько обходится мадридцам неуважение к реке. Научатся плавать в бассейне и приезжают практиковаться на Хараму: ну, пустяки, она такая мелкая, бассейн и то в два раза глубже, вот и забывают, что в лесу и звери есть. Ну да, она мелкая, конечно, она летом мелкая. Только не знают они, что у здешних вод есть и руки и когти, словно у живой твари, и что река эта может схватить человека и заглотнуть его в мгновение ока, – вот чего они не знают.
– Это тебе не бассейн, – сказал Амалио. – Тут омуты, держи ухо востро! Смотри куда угодишь! У этих вод семь слоев со всякими ямами, водоворотами, двойным течением. Река – она как живая, в ней хитрости больше, чем у лисы, и коварства столько, будто в русле ее сплетаются не струи, а змеи. Это тебе не человек. Такой реке доверяться нельзя, она с подвохом. – И пастух засмеялся.
Алькарриец сказал:
– Зимой, зимой бы им приехать да посмотреть на нее, когда она взъяряется и нападает, тогда бы знала, с кем имеют дело.
– Хорошо сказано, – заметил пастух. – Приехали бы в марте, когда вода поднимается и река раздувает шею, как бойцовый петух перед дракой. Паводок так и гудит, и она уносит твой огород со всеми яблонями и глинобитными стенами, со всем, что там, за стенами, было, а потом, когда отхлынет, голое место останется – все равно что пляж, и нужны тут одни разноцветные навесы да будки, модные теперь в дачных местах, скажете – нет?
Присутствующие засмеялись, алькарриец пояснил:
– Ну как же у нее нет ни рук, ни когтей, когда она даже выворачивает из земли деревья? Разве вода сама по себе может такое?
– Не может, понятное дело, – подтвердил Амалио, пастух.
Он замолчал и с улыбкой всех оглядел. Обеими руками он опирался на посох, прижавшись к нему впалым животом, скрытым под необъятными штанами из желтоватого вельвета. Когда он стоял так, опершись на посох, плечи у него поднимались, так как роста он был невысокого, и под рубашкой проступали ребра и ключицы. Плоская голова уходила в плечи, и улыбка растягивала все его лицо, как бы сдавленное широким большим лбом сверху и квадратной, как у лягушки, челюстью снизу.
– Свирепа, ох как свирепа, когда разбушуется, – говорил он, опираясь на посох и слегка раскачиваясь. – Хоть и не из больших, но все же река, не ручей, нет, не ручей. Как в марте начнет вздуваться, так и закипит кровавыми струями, забурлит, будто похлебка на большом огне, и потащит на себе ветки и кусты, которые, как живые, ворочаются и прыгают на воде, понесет и виноградные лозы, и большие деревья, и мертвых животных – кошек, собак, зайцев со вздутыми, как шар, животами, и овец, и даже коров, потом она их, когда надоест тащить на своем хребте, оставит вонять на берегу, и нет скотины, поминай как звали. – Он все больше горячился. – Утащит у тебя овцу в Сан-Фернандо и отдаст ее на жаркое компании бездельников в Васиамадриде, снесет старую мельницу в верховьях и смирненько крутит всякие самые новые машины на фабрике, где крупу рушат, аж в самом Аранхуэсе. Поди потом угадай по отрыжке этих бродяг из Васиамадрида, мою овцу они съели или еще чью! Да и на здоровье, прах их побери! – Пастух засмеялся. – Коль река унесла у тебя что-нибудь, не горюй: внизу кто-нибудь выловит, кому повезет. Она у кого-то отнимет, кого-то одарит, наделает шума – сама себя и развлечет.
– Ну, знаете! – сказал Лусио. – Вы, кажется, хотите сделать Хараму такой многоводной, какой не сумели ее сделать самые большие дожди.
– Да, я тоже думаю, что нынче вечером у нас получился слишком уж высокий паводок, – улыбаясь, подтвердил Маурисио. – Если в августе она такая, то в феврале унесет всю провинцию. По-моему, вы самую малость преувеличили.
Пастух засмеялся:
– Конечно, вам просто так показалось. Все дело в том, как рассказать: если к какой-нибудь цифре добавить нолик-другой…
– Я вижу, вам нравится ее вздувать, – сказал Лусио. – Вы говорите, что река вас приводит в ярость, а сами воодушевляетесь и еще как распаляетесь, когда о ней рассказываете. Видно, в конце-то концов вы ей верите, правда?
– С надлежащим уважением, – ответил пастух, – и на расстоянии. Ополоснуть ноги да посидеть на берегу – вот и все доверие, которое я ей оказываю. А на что я люблю посмотреть, так это на первый ее наскок, когда она разъяряется, как бык, и набрасывается на все, до чего может добраться, я такое не раз видел. Зрелище это, честно скажу, мне по душе. Особенно первый наскок. Здорово!
– Должно быть, когда вы без овец.
– Конечно, скотина в загоне. Нет уж, пока я пастух, в Васиамадриде баранинки больше не поедят, даю вам слово.
– Интересно, как овцу могло унести так далеко, пусть даже при самом большом паводке. Как это случилось?
– Очень просто, – ответил, смеясь, пастух. – Во-первых, они такие тощие, крупный кузнечик и то больше потянет, а во-вторых, я все выдумал. И выдумывать это мне пришлось потому, что хозяин стал от меня требовать, чтоб я нашел овцу, которую унесла Харама, и показал ему шкуру, когда еще непогода не кончилась. И ругался последними словами. Я, конечно, ответил, что хорошо, мол, сейчас иду, пошел и взял колоду карт, да и просидел до самой ночи, а утром явился к хозяину серьезный, как король треф, и рассказал, что овечка пошла на обед бродягам в Васиамадриде, а шкуру ее продали за гроши первому встречному. Хозяин-то и принял все за чистую монету, – мол, что поделаешь, бог с ней, больше искать не надо. Он остался в полной уверенности, что так и было, потому что в деле совсем ничего, ну ничего не смыслит, а я преподнес ему этот бред с самым серьезным видом. Вот и вся история.
Мужчина в белых туфлях поднял голову:
– Вы нас очень развлекли, Амалио, порассказали про року и про все эти штучки, но сегодня она кому-то принесла большое горе.
– Так уж водится, – сказал пастух, – кому радость, кому слезы. Иначе и не бывает: одно и то же кого-то рассмешит, а кого-то заставит плакать. И на Хараме это не впервой, так бывало испокон веков. Сюда давным-давно приезжают купаться, еще войны в помине не было, а уже приезжали, так что это вошло в обычай с доисторических времен, и каждое, каждое лето тонут то три, то четыре мадридца. Как давно вы в Косладе?








