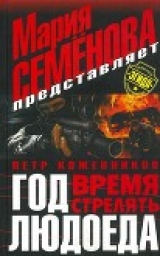
Текст книги "Год Людоеда. Время стрелять"
Автор книги: Петр Кожевников
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц)
Глава 40
ПТИЧКИ НА ОБОЯХ
– Мать, а ты чего с отцом перестала жить? – решился Ваня на вопрос, который давно хотел задать Антонине. Он уже жалел о том, что завалился в квартиру Нетаковых, чтобы посмотреть, нет ли там сейчас его матери или кого-нибудь из ее компании, кто мог бы сказать, где она, что с ней, жива ли она вообще, поскольку мать тоже была на заводе во время всех этих пожаров и взрывов, да и вообще она всегда лезет куда не надо! – Денег не давал?
– Денег?! Ну да, если бы в деньгах было дело да если бы в деньгах было счастье?! – Антонина положила руку сыну на плечо и мягко его погладила. Сейчас они сидели на пахнущем сыростью топчане, призрачно освещенные огарком свечи, а иногда всполохами рекламы казино, которая пылала на другой стороне улицы. – Сынок, ты меня своим вопросом серьезно озадачил! А как же, скажи мне на милость, можно жить с человеком, который тебя специально пугает, чтобы только свое мужицкое удовольствие лишний раз испытать?
– В каком смысле? – юноша вспоминал, когда в последний раз мать его как-нибудь ласкала, и затруднялся с ответом. – Он тебя бил, да?
– Ну, это, я тебе честно замечу, дело объективно не столь простое, а для такой, прости меня, мрази, как твой папаня, и вообще недоступное! – Ремнева переместила руку сыну на спину и продолжала его поглаживать. – Нет, он, иуда, другие системы для моего шокирования разрабатывал: то сам ляжет на пол, а ноги в дверях вывалит. Я иду домой, на наш этаж подымаюсь, вся картохой да туалетной бумагой обвешанная. Мама мия! Никак наш отец-кормилец и взаправду окочурился? Я мигом к нему, а он на меня навалится и давай ломать, как привидение, а сам в ухо-то мое все слюнит: «Испугалась, дура, да взаправду, что ли, так испугалась, что штаны обмочила, не обманываешь?» И вдогонку похабства всякие посылает, что я не только тебе, а и попу на смертном одре не продублирую! Вот таков он, твой папуля!
– Ну ты же еще, это, ведь жила же там с другими, да? Ну вот хоть тот же Парамон, которого завалили? Да и раньше, я же помню! – Ремнев выпрямил спину и привалился к сырой стене в надежде, что мать уберет руку, но она, наоборот, словно воспользовалась его новым положением и, тяжело вздохнув, переместила руку на его колени. – Ты свою-то жизнь, ма, значит, как-то решала, да?
– А ты что, меня, сынок, никак за что-то осуждать вздумал? Под сыновний трибунал меня, что ли, подводишь? Я тебе этого, мой милый, не советую! – женщина угрожающе засипела, но продолжала свое путешествие по сыновьим ногам. – Родителей корить – это, по всем раскладам, последнее дело!
– А батю что, можно корить? – не унимался Ваня и резко встал с топчана. – Вы же меня, кажись, вдвоем делали?
– Тут ты все сам решай, уже, чай, не маленький! Вон какое себе шутило-то отрастил! Прямо на ВДНХ не стыдно представить! – и Ремнева с неожиданной для ее мощной комплекции мягкостью прихватила сына за дугу, обозначившуюся под его брюками. – Ого, да у тебя, сынуля, еще тот отбойник скомплектован! По этой части ты весь в папашу!
Ваня стоял возле стены, и ему было некуда отступать, а резко отторгнуть материнскую руку ему почему-то не пришло в голову, он медлил с освобождением из неплотно сомкнутых женских пальцев, и в этой своей медлительности юноша ощущал преддверие чего-то, возможно, более для него неожиданного и очень мрачного, того, чего он еще мог избежать, мог, но… Еще он медлил и потому, что думал: мать с ним так неловко пошутила и сама его сейчас отпустит. К тому же в его голове промелькнула мысль о том, что она, конечно, совершенно пьяна, одинокая и даже, наверное, не совсем нормальная.
Между тем Антонина продолжала свои старания, и Ваня, несмотря на то что отдавал все свои силы Софье, которая, казалось, каждый раз стремилась навсегда его опустошить и осушить, он вдруг поймал себя на том, что ему, в общем-то, становится приятно и предмет, который уже усердно обследовали материнские пальцы, отзывается на их теплые пожатия. Юноша почувствовал невероятный прилив крови к своему лицу – это были стыд и даже какой-то завораживающий страх. Уловив свое утяжеленное дыхание, Ваня все-таки попытался избавиться от запретной материнской ласки.
– Ма, ну что ты на самом деле, а? – юноша опустил свою руку поверх материнской и начал ее отводить в сторону. – Ну не надо, ладно? Перестань! Давай это кончи…
– Да чего ты, дурачок, мамочки родной испугался, что ли? Ну и глупый же ты у меня, щегленок! – сипло засмеялась Ремнева, расстегивая сыну брюки и пересаживаясь на скрипучую табуретку. – Да это же я тебя родила, а не твоя ментовская генеральша! Могла бы ведь и не родить! Плавал бы ты тогда, сынок, с другими выкидышами в канализации! Я ведь у тебя каждое твое местечко наизусть помню! Ну что же ты, мой мальчик, вырос таким неблагодарным и жадным? Да не жадничай ты, Ванька, убери свои ручонки! Ну не мешай же! Мать я тебе, мать, никто меня за это не осудит! Мой ты сын, мой! Другим бабам с твоим хером можно играться, а мне нет?! – женщина не только не уступала Ване свою добычу, но и потянула левой рукой его штаны вниз, и он чувствовал, как они постепенно сползают, ее же правая рука вдруг ослабила хватку, штаны пали, и рука напрямую коснулась его возбужденного члена. – Да погоди ты, жеребец, отринь руки, отвлекись! Я же вижу, что ты заводишься, котик, вон как он у тебя поднялся, прямо как флаг победы! Ух ты, какая у тебя штуковина! А чего на родную мать и не подняться, чем я других-то баб хуже, вот чего покамест в толк не возьму! А бенцалы-то какие налитые и темные, как каштаны, ну точно как у твоего батьки, мудака голимого! Он хоть и ростом невелик, а тоже, как говорится, весь в корень пошел! Может, оттого его и Корнеем назвали?
И тут случилось самое ужасное событие в Ваниной жизни, которое он, кажется, еще мог предотвратить, то есть и не предотвратить уже, поскольку оно совершилось, но как-то оборвать, наверное, даже любым, пусть даже и самым грубым путем, но…
Ваня смотрел на то, как его мать отбрасывает голову, на ее багровое лицо, зияющий вишневой темнотой рот, который вновь и вновь готовился поглотить его плоть, и не верил своим глазам. Ремнев всмотрелся в материнскую голову, периодически освещаемую рекламой, и обнаружил существование на ней своего особого мира: редкие сальные волосы, сквозь которые просвечивают синеватая кожа и белеющие, словно какие-то личинки, колонии рассыпанной перхоти. «Деревья, глинистая почва… Нет, трава, ил, – мелькали в голове юноши, скорее всего, неуместные сейчас метафоры, заплетаемые в одну словесную косу с повторяющимся: – Мама, это ты?»
Юноша почувствовал укол, конечно зубом, и первым делом подумал, не заразится ли он какой-нибудь болезнью, после этого закрыл глаза, стараясь сейчас ни о чем не думать или думать о том, что поможет ему поскорее покончить со всем этим очень неловким и, наверное, неприятным делом, потом вновь открыл глаза, посмотрел вниз и услышал виноватый и не очень внятный голос: «Не помещается!»
Женщина (а была ли это еще его мать?) развернула Ваню лицом к стене, потянула его за бедра к себе, потом нажала ладонями на спину, заставляя согнуться, и тут он услышал ее усердное сопение, и почувствовал еще одно совершенно новое ощущение, и понял, что до этого они с Софьей пока еще не доходили.
– Попка-то у него закрытая, целка еще, никто не трахал, чистый мальчик! – сглатывая слюну, прокомментировала Антонина как бы о ком-то совершенно ей постороннем, и после этих слов юноша испытал более уверенное вторжение, отчего в его анусе стало как бы меньше места. Он подался вперед, чтобы освободиться от этого все более бурного визита. – Да тише ты, пацан, не дергайся! Не бойся, так все делают, это полезно! Сейчас захорошеешь! Запомни, сынок: родная мать тебе никогда ничего дурного не сделает!
…………………………
Ваня уже некоторое время понимал, что он перед собой что-то различает. Для того чтобы понять, что же изображено на обоях, прелостью которых он сейчас дышал, Ремнев должен был собраться с мыслями. Он это сделал и вдруг понял: на обоях нарисованы разные цветастые птички. Да, они очень веселые и, наверное, замечательно поют, да и летают очень резво. Вот если бы он тоже, как они, на воле… но сейчас темно, холодно, на улице снег, в квартире сыро, а его все еще зовут Ваней, правда?.. Господи, что же будет потом?!
Антонина резко опустилась на топчан, отчего раздался скрип и даже удар, – возможно, от соприкосновения ее ягодиц с полом.
– Ого! Натекло-то с него, как с жеребца! – ухмыльнулась Ремнева, как будто перед ней в темной комнате, озаряемой рекламой казино, постанывал кто-то посторонний, а не ее собственный сын…
ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ
Глава 41
ОМРАЧЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
Прощание с телом Раисы Власовны Кумировой было назначено на десять часов. Саша с Наташей подъехали к моргу раньше всех, и первое, что привлекло их внимание, стала дверь, на которой были неумело, но понятно изображены цветы и птицы. Рисункам сопутствовали загадочные надписи, в которых кириллица перетекала в некое подобие иероглифов, вследствие чего безнадежно терялся смысл каждого начатого слова.
Кумиров и Бросова переглянулись и подошли к дверям. Саша потянул за круглую ручку, но дверь оказалась закрыта. Тогда он надавил на маленькую, словно игрушечную, панель звонка, но им никто не открыл. Молодые люди сочли, что они явились преждевременно или же работник морга запаздывает, и вернулись в машину, чтобы там покурить, погреться и, конечно, обсудить странные рисунки, запечатленные на высоких двустворчатых дверях. С утра ребята уже навестили Клеопатру, и врачи их порадовали тем, что Кумирова уже приходит в себя, хотя никого еще не узнает и почти не разговаривает.
Следующими явились Софья с Ваней. Ребята вышли из машины, чтобы их поприветствовать и пригласить погреться в салоне. Потом Саша решил, что ему лучше поговорить с Ремневым без свидетелей, и в машине остались Морошкина с Наташкой Хьюстон, а ребята отошли к забору, чтобы поведать друг другу о тех событиях, которые произошли с ними за последние дни. Кумиров сразу обратил внимание на то, что Ванька как-то странно выглядит, будто бы он здорово постарел, но ничего путного у него выведать не получилось, зато Сашка быстро рассказал ему о том, как он лихо замочил отцовских бойцов, да и обо всем остальном тоже, – надо хоть кому-то во всем исповедоваться, и почему бы не своему другу, каковым он давно считал Ремня?
Ваня тоже обратил внимание на разрисованные двери, да и как это было не сделать, когда за ними находятся десятки покойников? Сегодня Ремневу не хотелось жить, и он бы никуда не двинулся с места, а так бы и лежал на смердящем нетаковском топчане, поедаемый клопами, но он обещал Софье пойти с ней на похороны и никак не мог ее подвести. Ваня подумал, что, даже будучи мертвым, он каким-нибудь, пока совершенно неведомым ему, образом ухитрится сопроводить свою любимую женщину.
В начале одиннадцатого во двор въехал микроавтобус Бороны, и из него кроме самого Данилыча вышли Зинаида, Станислав, Борис и Олег. Они заметили машину Кумирова и направились к ней. Морошкина и Бросова покинули салон, а со стороны бетонного забора уже возвращались Саша и Ваня.
Все сошлись у дверей морга и остолбенело уставились на росписи. Борис предположил, что санитар, может быть, еще спит, на что все собравшиеся отреагировали понятным удивлением: сейчас уже не раннее утро, тем более что на десять часов было назначено прощание.
Неожиданно дверь в морг начала медленно открываться. В этот момент все ожидали увидеть на пороге некоего человека, но проем оставался темен. Конечно, у присутствующих еще была возможность вглядываться в черный прямоугольник, увеличивающий свою ширину соразмерно с открытием двери, но это вряд ли могло что-либо добавить к предъявленной пустоте.
– Он, наверное, внутри? – предположил Следов и шагнул к дверям. – Пойдемте посмотрим?
– А что нам еще остается? – опередил молодого человека Борона. – Да, хорошо у вас здесь дело поставлено! Самообслуживание, что ли?
– Федя, давай мы лучше вначале с тобой вдвоем зайдем, а? – предложил Весовой и поравнялся с педиатром. – Мало ли что?
– Там как бы моя бабуля, так что я тоже имею право! – Кумиров погладил по руке Бросову и присоединился к мужчинам. – Странно, да? Дверь открылась, а никого нет. Мы же звонили, а нам не открыли. Ну и дела!
Федор первым зашел в морг. Он нащупал на стене с правой от себя стороны выключатель и нажал на панель. Коридор осветился. Здесь тоже виднелись рисунки и бессмысленные надписи. Двери были закрыты.
– А что это тут у вас какие-нибудь экологи так постарались? – на ходу поинтересовался Борона. – Решили, так сказать, слегка оживить сложившуюся обстановку?
– Да я не знаю, – с тяжелым присвистом ответил Следов. – Когда же я тут был? Наверное, дня два назад, но ничего этого не помню. Да нет, тогда ничего этого точно не было! Я бы запомнил!
– Чистейшей воды авангардизм! – резюмировал Весовой. – Уже до мертвых добрались!
– Может быть, сюда кто-нибудь ночью забрался? – предположил Кумиров. – Ну и пошутил так неудачно? Так могли и наркоманы приколоться, и сатанисты.
– А кто сегодня на вахте? – обратился Борона к шедшему сзади него Борису, будто только он один отважился зайти в морг вслед за педиатром. – Ты не в курсе?
– Вчера был Филипп, – задумчиво произнес Следов, продолжая рассматривать росписи. – А сегодня? А сегодня не знаю, они могли и поменяться. Ну мало ли что у людей может приключиться?!
– Главное, сынок, чтобы у нас ничего не приключилось, – заметил Весовой и опередил Бориса. – Слушай, Федя, может быть, мы по разным сторонам пойдем? Ты в эти двери, а мы с Сашей – в те.
– Да разве я против? – отозвался Борона и приложил к уху ладонь. – Но мне кажется, что где-то что-то журчит. Так это?
Мужчины прислушались и действительно различили звуки, похожие на шум струящейся воды. Шествие возглавил Федор, и вслед за ним все решительно двинулись в сторону уборной. Дверь была закрытой, педиатр распахнул ее, и все увидели обнаженного мужчину, который стоял возле раковины и судорожно тер руки, омываемые струей воды из-под крана. Это был Филипп.
– Филя, что с тобой? Мы же пришли с Раисой Власовной прощаться, а ты нам не открывал, а теперь ты тут совсем голый стоишь, – Следов со смущением оглядывал санитара. – А ты чего все с себя снял?
– Я не Филя, я – топинамбур! – учтиво ответил Мультипанов измененным детским голоском, продолжая тереть покрасневшие ладони. Он лукаво скосился на мужчин и тем же кукольным голоском объявил: – Отправление цветочного экспресса с третьего перрона… Отправление цветочного экспресса с третьего перрона…
Филипп продолжал повторять текст про отправление экспресса, несмотря на то что Борона уже тряс его за плечи, а Борис, отстраняя Мультипанова от умывальника, ненароком терся полой своей куртки о его опухшие гениталии. Неожиданно Федор дал Филиппу несколько звонких пощечин.
– Филя, ты что, обширялся? – педиатр внимательно посмотрел в глаза санитару и сообщил: – Нет, по глазам ничего не видно! Скорее всего, он впал в психоз. Это уже больше по части Германа Олеговича.
– Саша, выйди во двор, скажи, чтобы еще немного подождали, – мы сейчас все выясним, – взял Кумирова под локоть Станислав и подтолкнул его по направлению к выходу, потому что Саша стоял как вкопанный и завороженно смотрел на санитара. – Ну и что?! И на войне такое бывает! А здесь работа такая! Сутками рядом с трупами сидеть, да еще их перед похоронами марафетить, это кто же выдержит?
– А зачем сюда идти работать? – резонно заметил Борона. – Шел бы тогда в какую-нибудь охрану или водителем бы устроился. Да что, на самом деле, мало работы, что ли?
– Там просили узнать, у вас здесь что-нибудь случилось или нет? – послышался голос Ремнева, а он сам уже шел навстречу Кумирову. – У вас тут все в порядке?
– Идем, Ваня, я сейчас тебе все объясню, – перехватил Саша друга. – Просто у здешнего санитара малёхо крыша поехала!
Одной из немногих привилегий бойцов охранного предприятия «Девять миллиметров» была возможность самим устанавливать время смены вахты, подменяться или даже вообще не появляться на работе, отдавая свою зарплату тому, кто отстоял твои дежурства. В больнице было решено меняться от девяти тридцати до десяти, хотя на практике это не всегда получалось: Рашид, пользуясь тем, что он «бригадир», мог появиться и в одиннадцать, и в двенадцать, мотивируя свое опоздание тем, что он был в офисе, получал оружие, сопровождал бухгалтера за деньгами или чем-то иным, что, конечно, никто не собирался проверять, потому что никто не хотел с ним связываться. Мясигин уже давно работал в этой конторе, и бойцы знали, что он, несмотря на свою манию изобличать стукачей, сам грешил этим делом. До прихода в охранку Рашид много лет отработал в торговле, и уже одно это давало бойцам основание для того, чтобы не оспаривать слухи о том, что их бригадир регулярно информирует Нашатыря обо всем происходящем на объектах.
Сегодня Мясигин пребывал в угрюмом веселье, и ребята сразу догадались о том, что он снова запил. От Рашида тянуло перегаром, дымом и поддельным французским парфюмом, которым он, видимо, пытался нейтрализовать запахи угарной ночи.
Мясигин и Уздечкин стояли сейчас на самом популярном в больнице месте, крыльце черного хода, они курили и судачили в ожидании Сидеромова, которого Рашид вызвал подменить его ввиду своей запойной расслабленности.
– Я торчу от того, как докторишки в этой больничке клиентов разводят! – Еремей кивнул головой в сторону пятисотого «мерса», из которого вышел значительного вида мужчина и поздоровался с врачом-хирургом, заранее ожидавшим его приезда. – Бомжей сразу сбрасывают в надзорную палату, а там на манер как в вытрезвителе: все в кафеле, чтобы потом кровь да блевотину удобнее смывать, а в пол четыре скамьи вмурованы.
– Да, я фам видел, как фанитары битых бомфей на пол фкидывают, а Куприяновна ефе их матом кроет: «Ах ты, чмо бефродное!» – подтвердил Рашид. – Не фотел бы я попафть на их мефто!
– У тебя чего, денег нет за себя заплатить? – улыбнулся Уздечкин. – Опа! А вот и наш борзописец! Здорово, пацан!
– Привет! – принял рукопожатия друзей Геродот. – Ну как вы тут без меня?
– Да вот держимся из последних сил, – Еремей протянул пришедшему пачку сигарет. – Отравись!
– А мы с тобой не бросили? – с деланым недоверием посмотрел на друга Сидеромов. – Или я что-то перепутал?
– Ладно, пафаны, я поканал, а то мне фегодня фену надо к врачу вефти, – замотивировал свой запой Мясигин и начал прощаться. – Вы тут беф меня рафберетефь?
– Если что – маякнем на «трубу»! – похлопал старшего объекта по неестественно прямой спине Уздечкин. – Старый, не горбись!
– Да это у меня иф-фа офтеохондрофа! – Рашид уже спускался по лестнице. – Пофивите с мое!
– Поторгуйте с мое! – поправил бригадира Геродот. – Вот бедолага, да? Тебе его жалко?
– Не больше, чем этих засранцев! – Еремей резко отщелкнул окурок в сторону о чем-то шептавшихся перед крыльцом сизых голубей, которые лениво взмахнули крыльями, но не улетели, а лишь переместились на несколько сантиметров в сторону от дымящейся сигареты. – Я вот смотрю на чаек и голубей и знаешь, Гера, чего думаю?
– Ну?! О бабах? – Сидеромов скосил глаза, сосредоточившись на красном камельке, образовавшемся на тлеющем конце сигареты. – Я, как всегда, угадал?
– Это, конечно, в первую голову, а уже во вторую – другое, – Уздечкин достал жвачку, распаковал один пластик и положил его на свой крупный розовый язык. – Скажи, брат, тебе эти голуби никого не напоминают? Особенно вон те, глянь-ка туда, – ага! – вот эти, нахохлившиеся, мокрые, такие, как будто только что долбаные?
– Да вообще, раньше эти пернатые олицетворяли символ мира, так их, во всяком разе, коммуняки на своих плакатах изображали, – Геродот перевел взгляд на плотоядно воркующих птиц. – А так на кого они еще похожи? Ну, я бы сказал, на булыжник. Вон смотри, они там кучкуются, будто попадали, – наверное, обожрались, как Димка Таранов, и развалились, как цыплята табака.
– Ты это, конечно, классно отметил, именно что булыжники! – довольно помотал головой Еремей. – А я у них еще другое сходство заметил: с бомжами или зэками, знаешь, такими, уже затраханными жизнью – в паршивых, засранных фофанах, – такое что-то мерещится, нет?
– Точно, как нищие на паперти! – согласился Сидеромов.
– А вот чайки – они совсем другое дело, – Уздечкин запрокинул голову, выискивая белых птиц, призывно кричащих где-то над крышами зданий. – У тебя насчет их никаких мыслей не бродит?
– Ну как, парят в небе, как планеры, а когда на воде качаются – это как бумажные кораблики, – Геродот докурил и бросил окурок в дырявое железное ведро, притулившееся на крыльце. – А у тебя какое сравнение?
– А по мне, чайки – это как достойные мореманы в кителях, – Еремей посмотрел на друга, возможно ожидая его усмешки, но ее не последовало. – Ты заметь, они ведь всегда чистые, даже на любой свалке. Ну бывает, конечно, их мазутом облепит, но это уже катастрофа, правда? А так это, по-моему, очень достойная птаха!
– Знаешь, Ерема, а у меня еще другая мысль возникла. Я, когда слушаю, как тут на стройке сваи в грунт загоняют, ну вот на этой, которую никак кончить не могут, – Сидеромов указал на долгострой, понуро маячивший в больничном дворе, словно затонувший корабль, – я в этих ударах нахожу какое-то подобие музыки, такой, в основном, тяжелой, рока, металла, но это только как вступление, а потом чайки закричат, позже еще воронье закаркает, – ну это точно уже какая-то композиция пошла!
– А чего, наверное, композиторы, особенно западные, всех этих шумов в свое время наслушались, а потом их и приспособили. Я это вполне допускаю, – несколько раз нервозно моргнул Уздечкин. – О, дядя Федя-съел-медведя! А с ним и Павлуха! Здорово, жертвы сексуальных меньшинств!
– Я тебе сейчас дам меньшинств! – с наигранной угрозой потряс прозрачным кулаком Мирон Евтихиевич. – Здорово, орлы! Или вы орлята?
– Ладно тебе брехать, дед Мирон, ты нам лучше что-нибудь продекламируй из русской классики! – Еремей пожал больным руки. – Только без матерщины и содомии, а то Гера за тобой все записывает, потом его еще за порнуху привлекут.
– А разве теперь привлекают? – осведомился Морошкин, приветствуя Сидеромова. – Мужики, курить будете?
– Да нет, мы только что отравились, – скрестил перед собой руки Геродот. – Теперь ваша очередь! Ну что, Мирон Евтихиич, побалуешь молодежь?
Старик затянулся и, выпуская дым, начал читать, сопровождая каждую строфу фиолетовыми клубами дыма:
Не прошел еще час,
А в двенадцатый раз
Без штанов я во двор выбегаю!
Подрищу-подрищу, старшину покричу, —
Что мне делать, и сам я не знаю!
Старшина прибежал
И касторки мне дал,
Еще хуже расстроил желудок!
– Да ты у нас, дядя Мирон, просто классик! – Уздечкин азартно зааплодировал подбоченившемуся старику. – Тебя бы на большую сцену с такими номерами, народ бы в зале просто лег!
– Или обосрался? – поддержал друга Сидеромов. – Ну чего, Ерема, пошли, а то там мало ли что без нас приключится.
– И то правда, мужики, нам пора! – Еремей распахнул дверь черного хода. – Бывайте, на этаже встретимся!
– Да я уже тоже пойду, мне надо на похороны, – спохватился Павел. – Я вам потом все расскажу!
– Дамы и господа, заходите, все в порядке: была маленькая техническая заминка, – вышел из морга, щурясь от яркого весеннего солнца, Весовой. – Нам в третий зал, это сразу налево. Только, пожалуйста, не обращайте внимания на стены – в данном вопросе у нас пока остается некоторая неясность!
К этому времени к близким Раисы Власовны добавилось еще несколько человек, которые в замешательстве поглядывали на здание морга, а от хирургического отделения приближался, прижав руку к животу, Павел. Отец Серафим находился здесь же, поскольку был приглашен для отпевания покойной.
По приглашению Станислава все стали заходить в морг и отпускать реплики по поводу возникших здесь фресок.
– Может быть, это какая-нибудь новая мода? – предположила Морошкина.
– Как на пирамидах, что ли? – возмущенно замотала головой Зинаида. – Ну так это же и не гробница вовсе! Не знаю, мне кажется, что это какое-то безответственное озорство, переходящее в хулиганство!
– Господи, помилуй! – перекрестился отец Серафим, замыкая процессию.
Заходя в третий зал, возле которого стоял Борона, все с выражением некоторого облегчения на лицах обращали внимание на гроб, в котором обозначилось тело, накрытое белой тканью. Впрочем, вошедшие тут же начинали осматриваться и краснеть от тех рисунков и надписей, которыми были испещрены все стены.
– Федор Данилович, как вы думаете, а я сегодня успею съездить к мальчишкам? Я хочу вначале к Пете, а потом к Коле, – нервно шептал на ухо педиатру Следов. – Только вы мне все-таки скажите, в какой больнице Махлаткин лежит, потому что я потом все равно узнаю, а он меня сейчас ждет!
– Коля за городом, там же, где Мария, заодно и ее навестишь! Давай только после прощания поговорим, ладно? – Борона кашлянул и негромко прочистил горло.
– Послушайте, а может быть, просто обратиться к администрации, пусть они нам объяснят, что здесь на самом деле происходит, – предложила Софья. – Мне кажется, что такое безобразие только какой-то сумасшедший мог учинить. Вы так не думаете?
– Да ладно тебе, Сонюшка! – дернула подругу за рукав Зинаида. – Знаешь, как мой Данилыч говорит: «Не убили, и слава Богу!» Вот так и мы: не украли нашу тетю Раю, и ничего нам больше не надо! Давай лучше нашего эскулапа послушаем.
– Уважаемые родственники и близкие Раисы Власовны! – обратился к собравшимся Федор Данилович. – Здесь действительно произошла одна очень неприятная вещь: вышел из строя санитар. Я думаю, что у него глубочайший психоз, хотя, возможно, и что-то иное, но это уже пусть определяют психиатры. Сейчас Боря действительно отправился к администрации, а нам пока ничто не мешает проститься со всеми нами любимой и уважаемой Раисой Власовной, павшей жертвой бандита и грабителя, тело которого в настоящий момент тоже могло бы находиться в морге, но от него ничего не сохранилось. Вы, наверное, все слышали о бойне на Судостроительном заводе имени капитана Немо? Так вот, человек, отнявший у нас Раису Власовну, был убит во время разборок на одной из заводских площадок. Я дал вам необходимую справку. Извините меня за то, что я взял на себя инициативу, а теперь мы просто постоим рядом с Раисой Власовной. Те, кто не сможет поехать на отпевание и на кладбище, могут проститься с Раисой Власовной сейчас.
Борона подошел к изголовью гроба, взялся руками за ткань, скрывавшую лицо Кумировой, и начал его открывать. Педиатр следил за тканью и не держал в поле зрения лицо покойной, которое уже привлекло внимание всех присутствующих.
Лицо Раисы Власовны было загримировано, но как! Левая щека выглядела чересчур красной и по цвету напоминала спелое яблоко. При подробном рассмотрении оказывалось, что на этой части лица покойной действительно было изображено яблоко, причем даже с небольшой веточкой, сохранившей два зеленых листочка.
Правая щека лица Кумировой была сине-черного цвета, и в этом можно было предположить халатность гримера, не удосужившегося должным образом приукрасить покойницу, но при более внимательном взгляде выяснялось, что так изображен какой-то по виду весьма несъедобный гриб.
Нос покойницы был разрисован под палец, впрочем, это могло показаться только вначале, позже нос обретал подобие иного органа. Глаза Раисы Власовны были открыты, но с веками, казалось, тоже что-то сделано. Те, кто успел приблизиться, смогли прочитать две надписи: на правом веке «Не буди!», на левом – «Не вижу!».
Мало того что лицо Кумировой стало для кого-то безответной палитрой, оно еще явилось и полигоном для упражнений в пирсинге: разноцветные стекляшки блестели в колечках и сережках, пронзивших брови, нос и губы покойной.
Уздечкин и Сидеромов сидели в вестибюле главного корпуса больницы. Здесь находился первый пост охраны. Второй пост находился перед приемной главного врача. В течение рабочего дня о втором посту можно было не особенно беспокоиться, потому что в приемной находилась секретарь, которая, как шутили бойцы ООО «Девять миллиметров», лучше всякого вооруженного охранника сможет обеспечить безопасность своему шефу. В конце же рабочего дня все кабинеты руководства сдавались под сигнализацию, так что об этом участке можно было особенно не волноваться. К тому же один из бойцов, обычно это был Рашид, работал только в день, а на ночь оставался всего лишь один человек, и этого, как показывала практика, вполне хватало.
– Слушай, Гера, а не пора ли нам с гардеробщиков свою долю получать? – Еремей похлопал дремлющего после утреннего чая друга свернутой газетой по плечу. – Ты как, вписываешься?
– А за что? – Геродот нехотя открыл глаза и поежился. – Чего-то знобит.
– Да это, как Марик говорит, на половой почве! – Уздечкин похлопал друга по другому плечу, словно опасался, что тот снова заснет. – Да хотя бы за бахилы! Ты чего, не въезжаешь, какие они на этой теме бабки рубят?
– Ну рубят, а мы-то здесь при чем? – обернулся Сидеромов. – Мы же с тобой на воротах стоим, а они пальто принимают.
– Ну и что, работаем-то мы вместе! Если бы мне не было в падлу, я бы тоже на гардеробе работал, только это не пацанское дело, и Сэнсэй тебе то же самое подтвердит! – Еремей громко зевнул. Гардеробщики и посетители обернулись. – Это ты на меня сон нагнал!
– Нашел крайнего! – потянулся всем телом Геродот. – А я вот почему-то так думаю, что Сэнсэй сам бы вперед тебя за стойку встал и сказал, что его туда пацаны направили, чтобы он на общак зарабатывал.
– Может быть, и так. С этого Квазимодо станется! – с улыбкой произнес Уздечкин. – Но ты только прикинь, сколько у них чисто по деньгам на кон выпадает. Я, правда, не считал, сколько в среднем за час через них человек проходит, но поток-то здесь постоянный! Да это просто золотое дно! А самое смешное то, что вон, глянь, чуваки стираются, а бахилы в урну бросают, а потом человек из гардероба эти же бахилы другому клиенту предлагает. Двойной оборот получается! Не хило, да?
– В принципе, да. А если после второго раза бахилы не прохудятся, значит, можно еще раз по кругу пустить, и так до полного обветшания, – Сидеромов встал, зевнул и еще раз потянулся. – А ты знаешь, Ерема, я уже давно замечаю, как все себе находят ниши для выживания. Ты возьми хоть эти платные парковки. Ну полная халява, согласись? Деньги, считай, ниоткуда, и, главное, люди-то, собственно говоря, ни за что их и платят! Эти обормоты их тачки даже на пять копеек не охраняют! Да и закона наверняка никакого такого нет, чтобы за то, что ты свою машину где-то в центре оставляешь, деньги с тебя брать. А они хапают себе и тоже, надо полагать, немало на том имеют.








