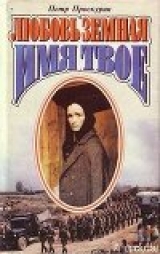
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 64 страниц)
– Судьба! Судьба! – Егор недовольно посопел, но вслух ничего не сказал, его сейчас смущала холодная замкнутость матери, и он заторопился ложиться спать; он угадывал, что решение матери остаться пришло к ней не так просто, и думать об этом откровенно и прямо было бы стыдно.
Он разделся и лег; скоро, погасив лампу, затихла и Ефросинья; изба сразу словно бы раздвинулась и наполнилась неясными шорохами. От темноты вокруг Егор приподнялся, наполняясь смутным страхом перед предстоящей жизнью; сердце забилось, он почувствовал холодный озноб, пошедший по коже, и напряженно спросил:
– Мам, а мам, спишь?
– Да уж глаза туманит, спи, Егорушка, утро вечера мудренее, спи, родной.
Опустив голову на подушку, он стал думать об Аленке, Николае, затем и об отце с Иваном; большая была семья, теперь же никого не осталось на месте, всех разметало, бабушка Авдотья умерла, от Ивана ни слуху ни духу. Решать, конечно, только матери, ехать к отцу или нет, а ему что, ему здесь нравится. Года через два в армию; отслужит, вернется назад, женится на Вальке Кудрявцевой, вот только больно она девка красивая, все парни на нее заглядываются, дождаться бы согласилась, ведь сколько раз, следуя примеру старших парней, старался где-нибудь на улице в темноте облапить, поцеловать, так она, черт, локтем в грудь саданула. Никуда она не денется, решил он с некоторой неуверенностью, а у него задумка насчет нее твердая, не отступится. Егор представил себе, как это все будет, наполняясь звенящим онемением в теле; станет на других засматривать, поколотит ее побольнее, как пить дать, поколотит хорошенько, уж совсем уверился он в своих силах, пусть тогда жалуется.
С этими полудетскими мыслями Егор повздыхал, потомился и заснул, накрепко уверенный в себе и своей правде в этом большом и грозном мире, и снилась ему Валька Кудрявцева и все то, что снится тысячи лет мужчинам его возраста, и от этого он жарко раскинулся на подушке и все чему-то улыбался во сне…
Ефросинья же так и не смогла закрыть глаза, а наутро, когда едва-едва забрезжил рассвет и пастух проиграл зорю и, собирая коров, вместе с подпаском огласил еще сонную тишину густищинских дворов бодрыми криками, щелканьем кнутов, ядреными шутками в перекидку с запоздавшими выгнать коров бабами, она пришла к крестному Захара Игнату Кузьмичу.
– Ну вот, дядька Игнат, – сказала она, войдя во двор к нему и присматриваясь, как он, несмотря на ранний час, строгает очередное косье. – Манька Поливанова вчера была у меня… Едет она к Захару, вроде позвал…
Быстро глянув из-под мохнатых бровей, Игнат Кузьмич стал еще усерднее шаркать осколком стекла по гладкой ручке косья, затем отставил его в сторону, к другим, и, хмуро полюбовавшись, своей работой, присел на чурбак.
– Сваляла ты, видать, баба, большого дурака, – сказал он, сворачивая «козью ножку», дурная привычка смолить табак завелась у него в войну, в партизанах, и он никак не мог покончить с него. – Как теперь одна будешь на свете? Умирать не пришла пора… Дети – они это, они до первого оперенья, там поднимутся на крыло – и поминай как звали…
Увидев ее лицо, он оборвал, с горечью отшвырнул от себя носком сапога обрезок доски.
– Сама решала, что ж ты сейчас-то заквохтала? – спросил Игнат Кузьмич. – Надо было раньше-то спросить…
– Не жалею я ни о чем, дядька Игнат. На душе как-то смурно, тянет душу-то…
– Еще бы не тянуло, – кивнул Игнат Кузьмич согласно. – Сколько лет прожили вместе, дети вон какие…
– Кабы дорого ему что было, другую бы не позвал. – Ефросинья, стараясь казаться спокойной, невесело улыбнулась. – Так уж, видать, суждено промеж нас.
– Он тебя, Фрось, почти год в письмах уламывал, – подосадовал Игнат Кузьмич. – Уперлась красной девкой, а жизнь – она без придумок себе ломит, дороги не разбирает… Ты как в той байке про журавля и цаплю… вот теперь одна и кукуй…
– Ладно, дядька Игнат, – остановила его Ефросинья. – Ты моего бабьего не поймешь, ладно, что говорить! Пойду я…
Игнат Кузьмич долго сидел неподвижно, не принимаясь за работу, остро пахло свежей щепой, небо совсем разгорелось, и солнце взошло, а он все сидел с потухшей цигаркой, уставясь в одну точку. А Ефросинья, ничего не замечая вокруг, прошла улицей к старым березам за околицей, затем, не задерживаясь, побрела в поле, прокладывая темный широкий след через овсы, отяжелевшие от росного серебра. В синевато-прохладном тумане дымился широкий луг, за ним вставали леса, манящие, гулкие, со своей потаенной жизнью. Она все шла и шла, и в ней сильнее и сильнее разгоралось мучительное желание сделать что-то такое, чтобы враз и навсегда все переменить. Она сейчас не думала ни о людях, ни о детях; она была одна в этом пустынном совершенно мире и, как смертельно раненный зверь, одиноко искала в нем исцеления. Что ж, что ж, звенел в ней незнакомый, чужой голос, что ж такого случилось? Ведь и раньше ты знала, что он к той, другой душой присох, чего же ты хочешь? Да еще и сама, боясь признаться, расчистила перед ним дорогу, мол, теперь уже все равно, раз совместной жизни не получилось. А видать, оно не все равно, значит, какая-то искорка в душе-то тлела, тлела, авось, мол, за войну что в нем и переменилось. Была это всего лишь дурная бабья надежда, теперь видно, а раз так, и жалеть не о чем, никто ей не нужен больше…
Над полем розовато светились рваные полосы таявшего под солнцем тумана, вставшие волнисто в небо столбы дыма над крышами села отдавали тусклым, переменчивым мерцанием.
* * *
И сейчас Ефросинья не могла решить, правильно ли она поступила; за прошедшие два года боль несколько поутихла, и теперь приезд Брюханова и разговор с ним разбередили, растревожили ее, но что сделано, то сделано, была в ее решении и какая-то своя правота и справедливость, и хотя тяжко ей досталось, она всегда знала, что и раньше, и теперь права.
– Ехать надо, Ефросинья Павловна, – вздохнул Брюханов, поднимаясь из-за стола.
– Может, переночуешь? – предложила Ефросинья, возвращаясь из своего далека и сразу стряхивая с себя все отжитое и уже ненужное. – Ночь на дворе…
– Что делать, мне к утру необходимо поспеть в Холмск…
– Поезжай, коли надо, – согласилась она. – Вот что я хотела спросить, Тихон Иванович, хоть, может, и не моего ума дело… Можно спросить-то?
– Отчего ж нельзя? – В голосе Брюханова прозвучало некоторое не вполне искреннее удивление, но Ефросинья не приняла его, прямо и открыто глянула в лицо Брюханова.
– Гляжу я, с Аленкой-то вы давно вроде, а ребенка все нету. Непорядок получается, я уж Аленке сколь раз говорила, да она все отшучивается. Ты постарше-то, Тихон Иванович, сам знаешь, ребенок – он слабая искорка, да в жизни железной цепью окует тебя кругом, не разорвешь. Какая семья без ребенка?
– Складывается, Ефросинья Павловна, именно так пока, по-другому пока не получается, – сказал Брюханов неопределенно, досадуя, что задержался с отъездом. – Закончит наша Алена Захаровна институт… теперь уже недолго, Ты лучше расскажи, как у вас в селе, как народ?
– Э-э, Тихон Иванович! – Ефросинья горько махнула рукой, опустила глаза. – Нашел о чем спрашивать… У меня вон дом поставили, корова на двоих, и то молока не вижу… по детишкам, по больным расходится… Тот просит, другой просит, не откажешь. Все одно стыдно перед людьми… половина села еще из землянок не вылезла, на трудодни после немца вот уж который год одно угощение – шиш с маком…
– Тебе, Ефросинья Павловна, стыдиться нечего, – заметил как-то сразу постаревший Брюханов.
В ответ на это Ефросинья лишь зябко поправила накинутый на плечи платок, слегка усмехнулась, тем самым как бы показывая, что все он и без ее рассказа понимает, но долго не удержалась.
– Председатели меняются, как лапти… Перед посевной опять нового привезли. Господи, и где вы только таких дураков находите? – спросила она неожиданно и опять безнадежно махнула рукой. – Стешка-то Бобок от колхозной кладовки недалеко живет, там, у кладовки-то, всегда зернеца натрушено, ну а Стешкины-то куры… и курей-то шесть штук, туда зачастили. Оно хоть курица птица неразумная, а есть и ей надо. Так он первым делом, председатель-то наш новый, курей у ней пострелял… Такой уж хорек скопидомистый, приказал с колхозной фермы курей пригонять, зерно-то у кладовки подбирать, словно Стешка с детьми с какого другого государства пожаловала. Смех и грех… их гонют, а они не идут… Вот так и живем.
– Поеду я, Ефросинья Павловна. – Брюханов тяжело поднялся, помедлил.
Они не сказали больше друг другу ни слова, и Ефросинья захлопотала, собирая Аленке и Николаю в город гостинец; в который раз уже, оценивая деликатность этой молчаливой женщины, Брюханов, прощаясь, все приглашал приезжать и погостить у них в городе подольше и уже в машине, рассеянно и привычно вглядываясь в бегущую навстречу дорогу, продолжал вспоминать Ефросинью, особенно ее последние слова; он заставил себя почти насильно переключиться на другое, на самые неотложные дела, на тяжелую обстановку, сложившуюся в области да и в стране после жесточайшей засухи, и к нему постепенно вернулось привычное состояние собранности, как бы готовности к новым любым неожиданностям.
На обратном пути он накоротке заглянул в Зежский райком; Вальцев, помня давний разнос, встретил его натянуто, держался вежливо и отчужденно, четко, по-военному, излагая самую суть, и Брюханов, слушая, думал о том, что с разворотом здесь, в Зежском районе, филиала моторного, дела начнутся большие, придется, видимо, укреплять районное руководство. Вальцев вряд ли потянет, за последние засушливые годы он как-то словно и сам подсох, ушел весь в себя, вон опять что-то о жалости говорит.
– Ладно, Геннадий Михайлович, – устало кивнул Брюханов, – думаю, пришла тебе пора перебираться в облисполком. Скажем, пока заместителем… а? Область получше узнаешь. Как прикажешь расценивать твое молчание?
– Мне как скажет партия…
– Ну-ну, – поморщился Брюханов. – Свой голос у тебя когда-нибудь прорежется?
– Надо подумать, Тихон Иванович, – поглядывая теперь с некоторым интересом и оживлением, размораживаясь, Вальцев достал папиросы.
– И еще, Геннадий Михайлович. – Брюханов взял у него папиросу, постукал мундштуком о ноготь. – В Густищах такой Дмитрий Волков есть, партизанский разведчик… Помнишь? Хорошо… Надо бы к нему присмотреться, поближе так, попристальнее. Сейчас он трактористом работает. Только и слышно: кадров не хватает, людей нет, – а если приглядеться получше? Растить кадры на месте надо, а вы туда этого Федюнина опять сунули… черт знает что, куда это годится?
– Просмотрел, Тихон Иванович, – согласился Вальцев. – А сейчас вроде бы неловко сразу снимать… может, думаю, притрется? И потом… – решившись, Вальцев, поднял глаза, и Брюханов выжидающе молчал. – Потом, Тихон Иванович, вы отлично знаете, не в Федюнине дело.
– Знаю, Геннадий Михайлович, именно поэтому мы должны направлять в колхозы умных людей. А такого Федюнина там только черт наждаком притереть может. – Брюханов говорил спокойно, но, понимая, что Вальцев ждет более конкретных указаний, улыбнулся. – Впрочем, решай сам, всякие ведь курьезы в природе бывают, случается, и курица петухом закричит. В войну парень чудеса творил, я говорю о Волкове, неужели тогда легче было?
Оба прикурили от зажженной Вальцевым спички, и Брюханов, повернувшись к темному распахнутому окну и глядя на тусклый одинокий фонарь, слегка раскачивающийся под легким ветром и окруженный призрачной сферой ночной мошкары, налетевшей на свет, пытался понять, правильно ли он решил поступить с Вальцевым и даже уже предупредил его об этом.
– Люди давно спят, – словно удивился он, вслушиваясь в густой шорох сиреневых кустов под окном, она росла здесь махровая, крупная и была одной из зежских достопримечательностей.
– Часа через два светать начнет, – отозвался и Вальцев, думавший о словах Брюханова по поводу своей новой работы и все прикидывавший, хорошо это или плохо, и слегка поежился от непривычной, как-то не замечаемой раньше тишины; что-то неприятное и враждебное почудилось ему за окнами. – Ночи короткие… с воробьиный нос.
9Над русскими селами, начинавшими помаленьку отстраиваться, над теми же Густищами, над Зежском с его восстановленным в два с лишним года моторным заводом, над Холмском, над всей страной шли годы; подростки становились мужчинами, старики еще больше старились, в селах и городах родилось послевоенное поколение, отмеченное печатью особого рубежа; в оплодотворяющих землю теплых весенних дождях уже затаился стронций и повел свой невидимый безжалостный отсчет, уже копилась не предусмотренная никакими предвидениями и прогнозами лавина, и в каком-нибудь двух-трехлетнем малыше, весьма далеком от всех проблем и сложностей мира, нежданно-негаданно начинало говорить насильственно нарушенное звено установившихся за миллионы лет связей, и дети росли, неизгладимо меченные цивилизацией ядерного распада.
В Густищах, как и по всей стране, отсчет времени и событий велся теперь с весны сорок пятого, и хотя война и окончилась, с каждым новым годом все больше становилось вдов и сирот; умирали не только в госпиталях безнадежно изуродованные войной, умирали надежды и у живых; все меньше оставалось без вести пропавших и все больше официально-лаконичных похоронок доставлялось в заскорузлые от работы бабьи руки. Скупые строчки оседали на тихое и упорное хранение в женских сердцах, вместивших в себе войну полной и горькой мерой.
Как и во всяком селе со своим замкнутым кругом жизни, со своими традициями, привычками и укладом, с хорошо знакомыми друг другу от рождения и до смерти людьми (а память, переходя из поколения в поколение, цепко удерживала самые неожиданные подробности об отцах и дедах), и в Густищах создавалась своя летопись, хранившаяся именно в памяти старых людей. В ней было все: рождения и смерти, неурожаи и свадьбы, грустное и смешное, – одним словом, все то, что и составляет жизнь человеческую.
Несмотря на послевоенные тяготы, на невиданную засуху сорок шестого года, заставившую есть траву, павший скот, собак и кошек, у густищинцев случались и веселые события, и некоторые из них, особенно приключившееся с Нюркой Куделиной, густищинцы часто и с удовольствием вспоминали.
Так, в один из майских вечеров сорок пятого года Нюрка Куделина, дотемна прокопавшаяся в огороде (подсевала плохо проклюнувшиеся огурцы и сажала капусту), устало опустилась на скамеечку у входа в землянку; отдыхая от работы, сидела, прислушиваясь к густому гудению майских жуков. Распустив волосы, она стала не спеша расчесываться алюминиевым, выпиленным из осколка обшивки немецкого самолета гребешком, такие гребешки наловчились делать подростки со стариками, бойко торговали ими в Зежске на базаре.
Тянул теплый, густой ветерок, в молодом саду, посаженном накануне войны Фомой, смутно белели стволы яблонек; третьего дня Нюрка густо обмазала их мелом и теперь, довольная своей хозяйственностью и расторопностью, предаваясь всяким мечтаниям, оглядывала нарядные деревца. В лугах пробрызнули первые цветы, война кончилась, и скоро должны были, начать возвращаться мужики домой, ясное дело, те, кому повезло и кто остался жить. Вот и ее Фоме, может, повезло, хотя рано загадывать, но, чует сердце: будет он скоро дома, шалопут, думала Нюрка, придет – ахнет… девки-то уже невесты, старшую, Танюху, хоть завтра замуж, только за кого теперь отдашь? Ни одного степенного парня, все больше зелень зеленая, на подросте, да ведь у тех и невесты еще с куклами забавляются. «Может, вот из армии кто вернется, а? – размечталась Нюрка. – Танюха девка видная, гляди, не пропустит своей доли», – вздохнула Нюрка, суеверно останавливая себя. Не годилось загадывать раньше времени, живая – и ладно, вон от сына больше года весточки нет, вот где беда горючая, ну как его и в живых-то больше нету?
Часто-часто заморгав, Нюрка нахмурилась: раньше времени нечего в мать сыру-землю укладывать собственное дитя, подумала она, не к добру это. Отмахнувшись от непрошеных мыслей, Нюрка вспомнила про посылку и повеселела; вчера она получила от Фомы из Германии посылку с мылом, двадцать пахучих желтоватых кусов, плотно уложенных, все печатями вверх. Этакое немыслимое богатство привело ее в полнейшую растерянность, и она даже ночью просыпалась и начинала думать, какой у нее хозяйственный, стоящий мужик, вспоминала все самое хорошее с ним и, немножко стыдясь, волновалась. Все эти годы приходилось стирать, отбивая грязь золой с глиной, теперь же на нее свалился целый клад, не годится самим такое добро переводить, решила она, даже боязно думать. Себе пару кусочков оставить надо, приберечь, головы девкам и себе помыть пахучим-то мыльцем за столько лет, остальное на базар – дырок в хозяйстве хватает, не знаешь, какую прореху латать. Девки обносились до срамоты, исподнее бы купить…
Сидя в погожий майский вечер на скамеечке перед землянкой, Нюрка еще и еще раз все прикинула и рассчитала, и так как завтра было воскресенье, она с вечера отрядила старшую дочь в Зежск, строго-настрого наказав ей держать на виду по одному-единственному куску и просить за него до двести рублей и меньше, упаси бог, ста пятидесяти не отдавать, как бы там ни ругались и зубы ни заговаривали, деньги же от всякой напасти прятать подале, наказывала она, куда бы никто не догадался сунуться.
Танюха, девка спокойная и на диво – ни в отца, ни в мать – красивая, слушала молчком, а наутро, едва заря прорезалась над слепненскими лесами, ушла с мылом в город; оставшиеся два куска Нюрка бережно замотала в тряпицу, засунула в сухое место.
Младшая, Верка, родившаяся вопреки желанию Фомы (хотел непременно второго сына), еще спала; Нюрка приготовила нехитрый завтрак и, когда окончательно развиднелось и пора было выходить на работу, выставила молоко и ноздреватый хлеб на видное место на столе, накрыв чистым полотенцем. Верка спала бесшумно, свернувшись калачиком; Нюрка набросила на нее старый ватник, притворила дверь и направилась к колхозному двору, еще с вечера бригадирша нарядила ее возить сеяльщикам зерно. Работа была хоть и тяжелая, но спокойная; запряги себе лошадь, нагрузи мешки и сиди покрикивай, раз-другой обернешься, а там и обед: можно и у себя на огороде покопаться, хорошо бы сегодня бурак посеять, вроде семена годные, начали проклевываться.
У поместья Микиты Бобка ее остановила Ольга-почтальонша.
– Теть Нюр! – звонко закричала она издали. – Погодь, тебе письмо от Фомы Алексеевича, вчера не успела разнесть.
Запыхавшись, почтальонша подбежала с сияющим молодым лицом, густо усеянным веснушками, всем своим видом показывая, что она сама рада до невозможности, если не больше Нюрки, то уж никак не меньше, и отдала письмо. Нюрка торопливо затянула платок; сколько ни получай писем, а все как внове, как в первый раз сразу руки начинают млеть и в груди, у самого сердца что-то жалко трепыхается, вот-вот порвется. Дождавшись, пока Нюрка развернет и начнет читать письмо, и убедившись, что ничего плохого в письме нет, Ольга-почтальонша побежала дальше со своей сумкой, а Нюрка принялась перечитывать озадачившее ее письмо вторично. После всяческих поклонов и наказов Фома со всей степенностью и обстоятельностью сообщал, что жив-здоров и что соскучился по Густищам окончательно, так, что в грудях ломота стоит, а по ночам черная тоска, и что ежели бы не устав и не старшина Федюк Андриян Тимофеевич, который, как домовой, все нутро у человека наскрость видит, так бы и убежал он из расположения части и пешком бы отправился в Густищи, на свое родное подворье, хоть за тыщу верст, хоть и больше. Промежду прочим Фома сообщал жене, что послал ей посылку с мылом и чтобы она то мыло не расходовала и дождалась бы его, Фомы, возвращения, а он сам тем мылом тогда и распорядится. А уж если ей приспичит крайняя нужда и захочет она обмыть тем душистым мылом грешное тело (в этом месте Нюрка фыркнула – неизвестно еще, у кого тело-то грешнее!), то чтобы взяла она один-единственный кусок и перед тем, как пустить его в дело, обязательно бы разрезала ниткой ровно пополам: так мыло дольше протянется и будет сберегаться лучше. Фома еще раз настойчиво повторил и даже подчеркнул жирной чертой, что «резать мыло непременно ниткой, тогда и крошек зря не будет». Нюрка даже присела на подвернувшееся кстати бревно, озадаченная руководящими указаниями мужа в таком сугубо бабьем деле, как обращение с мылом. «Еще чего, – фыркнула она со злостью, – черт кудлатый придумает, буду я беречь, пока он домой заявится, как же! Эк, жизнь прожил, до Германии добрался, а умом так и не превзошел малого ребенка, – распалялась Нюрка все больше, – вздумал из Германии мылом на дому распоряжаться!»
Сунув письмо в карман сборчатой юбки, Нюрка с грозным и сердитым лицом отправилась дальше, продолжая на чем свет стоит костерить своего Фому Алексеевича, вспоминая все его прегрешения чуть ли не с младенческого возраста и даже то, что он трех лет от роду, как говорили ничего не забывающие старухи, был украден цыганами. Правда, и в самом младенчестве Фома оказался супротивного норову, день и ночь над табором стоял его рев, и цыгане посчитали, что именно его пребывание в таборе явилось причиной большого несчастья: в одну ночь пало от неведомой причины пятнадцать лучших лошадей. Так и вернули беспокойного мальца в Густищи, подкинув его с синим, в кулак от непрерывного надсадного крика, пупком в высокий бурьян у околицы.
Нюрка уже приближалась к конному двору, но сомнения потихоньку зашевелились в ней. «Экая беда, – вертелось у нее в голове, – письмо от мужика от начала до конца все про мыло, видать, неспроста, была здесь закавыка, а вот какая – угадай попробуй». Остановившись с какой-то неясной и тревожной догадкой, хотя ее в этот момент окликнула несколько раз от своего подворья Варечка Черная, она круто повернулась и ударила рысью домой. В избе, не присаживаясь после тяжелого бега, смахнула с полки кусок мыла, отхватила зубами от клубка суровую прочную нитку и с известной долей ехидства принялась перетирать ею сухое пахучее мыло.
– Черт кудлатый, – ворчала она, не замечая, что говорит вслух, и довольно громко. – Ишь чего напридумал, набрался у этих немок, видать, всякого шику, в самую что ни есть бабью срамоту лезет… Пахнет-то как стервозно, небось чтоб кобелей приманивать, аж в носу щекотно! Погоди, заявись домой, я уж тебя приголублю, черта кудлатого…
Нитка что-то дальше не шла, сколько ее ни дергала Нюрка, и тогда она взяла кусок и легко разломила в руках по тому месту, где нитка уже прошла больше, чем наполовину, поднесла ближе к глазам, рот у нее невольно открылся, от неожиданности и изумления она шумно перевела дух. В мыле тускло поблескивали небольшие, похожие на желудь наручные часики; с округлившимися глазами Нюрка опасливо выковырнула их себе на ладонь ногтем, лицо ее приняло обиженное, детское выражение, но тут же брови ее взметнулись, жестко сдвинулись, рот сжался, она поняла, что произошло. Теперь дочка, поди, подходит к самому городу и через час-другой расторгует все мыло с начинкой из дорогих часов. Вот так выполнила наказ мужа, ахнула она, чувствуя, что лицо ее разом взмокло; она металась по землянке из угла в угол, отыскивая шаль; ну, дела, ну, дела, бестолково ахала она, уж не таким дурнем оказался ее Фома, вот что наделала эта вертихвостка Ольга Бобкова – письма сразу не отдала…
Бессвязные, бесполезные мысли наскакивали в голове у Нюрки одна на другую, и все без толку, и она, словно подшибленная, натыкаясь на табуретки, сметая ведра и ухваты, чуть не сбила с ног вошедшую с улицы Верку и, рванувшись из последних сил, не обращая внимания на перепуганную дочку, вынеслась на улицу и, вызывая тщетное любопытство соседей и встречных, вихрем промчалась по селу и через несколько минут была, далеко за околицей.
Первые три или четыре километра проскочила она одним духом; неслась по самой середине дороги, прижав локти к бокам, в правом боку кололо, щеки горели, теплый встречный ветер бил в лицо. Какой то шум послышался Нюрке сзади, ело оглянувшись, она увидела догонявшую ее машину и вместо того, чтобы приостановиться и пропустить, почему-то еще прибавила ходу, и машина скоро отстала. Пожилой шофер, весело оскалившись, решил догнать резвую бабу, но его допотопная колымага была старая, латаная-перелатаная как снаружи, так и изнутри, и когда он попытался прибавить газу, мотор застрелял, зафыркал, зачмокал и потом издал такой жалобный, умирающий стон, что у шофера, привыкшего ко всему, полезли вверх брови. Хотя все то, что случилось с мотором, случалось неисчислимое множество раз и раньше, он на чем свет стоит принялся костерить разнесчастную бабу, по-прежнему упорно пылившую впереди него. Окончательно задохнувшись, мотор громко чихнул и умолк; машина еще прокатилась несколько метров по инерции, и шофер, посидев в кабине для успокоения, обреченно вздохнул, прихватил заводную ручку и выпрыгнул на дорогу. Еще раз подивившись резвости уже еле видимой впереди бабы, он принялся копаться в моторе, время от времени ожесточенно вертя ручку, привычно и длинно при этом ругаясь и утирая обильный пот; вконец умаявшись, он свернул цигарку, закурил и, вслушиваясь в переливчатую, непрерывную песнь жаворонков, начал согласно кивать головой и прищелкивать.
– Дают, а! – восхищенно бормотал он. – Вот, язва тебе в печенку, а! Такая мелкая пичуга, ну что твой полковой оркестр!
Наконец мотор натужно прокашлялся в последний раз, задрожал и ровно и бесперебойно затарахтел; в его надрывном, высоком стрекоте шофер тотчас уловил слышимый только ему здоровый и безопасный звук, сразу повеселел, с преобразившимся, просветленным лицом послушал напоселедок жаворонков и с облегчением поехал дальше; минут через двадцать впереди него опять замаячила бегущая все той же ровной, уверенной рысью Нюрка Куделина. Теперь шофер уже совершенно изумился, но, памятуя о недавнем своем поражении, ходу прибавлять не стал, а продолжал ехать неторопливым, спокойным манером, и некоторое время нельзя было понять, чей будет верх – машины или бабы; прошло пять, десять, пятнадцать минут, и шофер с растерянной ухмылкой полез в затылок. «Ну, баба, ну, сатана, – обругал он ее. – Язви тебя в печенку! Над прославленной советской техникой насмехается – и хоть бы хны, никакой особый отдел ей не брат, метет себе подолом!»
В предчувствии окончательного мужского своего посрамления шофер, едва дыша, тихонько нажал, чувствуя, что пот прошиб спину. «Догоню – прибью», – решил шофер, с надеждой вслушиваясь в усилившийся рев мотора и убыстрившееся движение машины: бегущая впереди баба, все так же неутомимо и быстро мотая локтями, стала наконец медленно приближаться.
– Стой, баба, чертяка такая! – высунувшись из кабины, весело заорал шофер, когда до Нюрки оставалось метров двадцать, но так как она продолжала бежать не оглядываясь, он еще крикнул осевшим, построжавшим голосом, чтобы она свернула, и тут же вынужден был рвануть машину вбок; уже оказавшись впереди Нюрки и для порядка отъехав метров за двести, шофер выскочил из кабины и, останавливая, обхватил обеими руками вывернувшуюся из-за машины Нюрку; от сильного рывка он едва удержался на ногах; Нюрка, ворочая ничего не понимающими глазами, еще пыталась продолжать свой бег, дышала она глубоко и свободно.
– Ты, дурак глумной, – приступила она к шоферу, – лапы-то убери, ишь растопырил, я тебе птица домашняя, гусыня или курица? Ты по какому праву хватаешь?
– Не ори, родимая, давай подвезу, – предложил шофер, как-то не очень охотно отпуская могучие Нюркины плечи. – Гляжу, лупишь, вроде шестицилиндровый танковый у тебя под кофтой, сигналю – не слышишь, кричу – не слышишь, думаю, несчастье какое.
Приходя в себя и начиная постепенно понимать происходящее, Нюрка устремилась в кабину и утвердительно кивнула шоферу, не замечая, что он что-то чересчур плотно пристраивается к ее боку.
– Давай, – сказала она начальственным и нетерпеливым голосом и, поторапливая, увесисто толкнула его в бок локтем.
– Здорова же ты, мать! – еще раз восхитился шофер, поспешно отодвигаясь от нее, и тронул с места. – С тобой бы ни один рысак ноздря в ноздрю не вышел! Что стряслось-то?
– Пошел, пошел, идол! – прикрикнула Нюрка. – Антимонии не разводи, важное дело горит!
Нюрке все казалось, что машина движется медленно, и ее подмывало выпрыгнуть на дорогу и удариться в бег, до Зежска оставалось еще километров пять, и Нюрка, сжавшись от нетерпения, не отрывала глаз от медленно приближавшейся полуразрушенной колокольни; наконец машина остановилась на базарной площади. Нюрка, еще издали заметив в толпе привычный платок своей дочери, не в ту сторону рванула дверцу кабины; шофер, не без основания опасаясь, что от его машины останется груда железного лома, суетливо помог ей, и она, бесцеремонно расталкивая людей, понеслась по базарной площади. Захлопнув дверцу кабины, шофер с веселой и выжидающей улыбкой на курносом лице поспешил следом, любопытство его разгорелось до крайней степени; Нюрка же поспела как раз к тому времени, когда дочка рассчитывалась за предпоследний кусок мыла и какая-то высокая белая гражданка в кружевной шляпке уже аккуратно укладывала его в сумку. Не говоря ни слова, Нюрка коршуном выхватила мыло из чужих рук, и ошалевшая перепутанная гражданка отшатнулась, сильно бледнея, захлопнула сумку.
– Отдай! Отдай! Отдай ей деньги! – приказала Нюрка дочери, в то же время лихорадочно ощупывая узелок в ее руках. – Ахти мне, горюшко горькое, все разбазарила, два кусочка и осталось! Разнесчастная моя головушка! Чего ты на меня, бестолковая, уставилась? – крикнула она ничего не понимающей дочери. – Отдай деньги за мыло, самим нужно! Добралась дурища, рада и матку родную расторговать!
Почувствовав, что ей мешает что-то намертво стиснутое в ладони, Нюрка мельком глянула, сразу вспомнила и сунула в рот для большей сохранности дорогую вещицу, инстинктивно зажатую для верности до сих пор в руке, в то же время тщательно заматывая два оставшихся куска мыла в тряпицу; гражданка в кружевной шляпке, опомнившись, попыталась пробиться к Нюркиному сердцу и совести, попыталась подступиться к ней с уговорами, но лишь еще больше ее разбередила.
– Не отдам, непродажнее мыло, самим надо! – ожесточенно огрызнулась раздосадованная Нюрка и похолодела: тяжелый, гладкий комочек ерзнул во рту, скользнул в горло и неудержимо двинулся вниз: отчаянно вытаращив глаза, Нюрка попыталась приостановить это движение, но оно продолжалось своим законным путем и прекратилось только тогда, когда проглоченная вещица достигла положенного рубежа.








