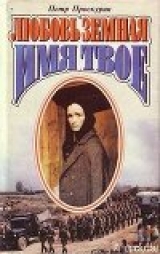
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 64 страниц)
Захар бросил последний взгляд на густо торчавшие из земли тополиные колья, немного стыдясь какой-то своей некстати подступившей чувствительности, и, больше не оглядываясь, прямиком по полю направился к невидимым из-за возвышенности Густищам, но на другой же день не выдержал и, прихватив с собой Васю, опять пришел к Соловьиному логу; Вася по его совету захватил большой, литров на пять, алюминиевый бидон. Ефросинья посмеялась над его чудачеством, махнула рукой, когда он сказал ей, что сходит с Васей (благо было воскресенье и Васе не нужно было идти в школу) за первым березовым соком, как известно, самым сладким и целительным.
Пристроив вместе с Васей у одной из старых берез бидон и дождавшись, когда в него побежит по желобку с колышка непрерывная прозрачная струйка сока, Захар вернулся к свежеразмытому оврагу и опять принялся за дело. Вася, поздоровевший за последний год, сильно прибавивший в росте, после скупого объяснения Захара с заблестевшими глазами принялся ему помогать; ближе к обеду солнце сильно пригрело и Захар стащил с себя рубаху, сел на охапку ивняка, подставил потную грудь легкому ветерку. Вася тоже хотел раздеться, но Захар остановил его, сказав, что ему еще рановато; Вася обиделся, но ненадолго, запрокинув голову, он стал следить за кружившими в небе аистами.
– Ну, Захар Тарасыч, мое вам почтеньице, – раздался в это время за спиной у Захара чей-то голос, заставивший его даже вздрогнуть. – Вот ты, значится, где… природа!
Точно вынырнувший из земли леший, Фома Куделин, неслышно подобравшись, стоял с топором за поясом и, хитровато усмехаясь, как-то в одно и то же время следил и за лицом Захара, откровенно недовольным, и за длинными рядами забитых в землю тополиных кольев в вершине и вдоль одного из склонов оврага, обрывающегося широченной черной пастью в Соловьиный лог.
– Здорово, Фома, черт тебя носит, – буркнул Захар. – Чего ты здесь бродишь?
– Так чего, чего! – неопределенно отозвался Фома. – Природа… Гляжу, люди что-то шныряют, шныряют за село… как-то и самому не терпится… А оно вон что, значится, – указал Фома подбородком на колья. – Дюже любопытно…
– Что тут любопытного? – нахмурился Захар. – Видишь, поле-то разворотило… Поглядел-поглядел, жалко стало…
– А может, того, – задрал Фома голову и тоже, как и Вася, понаблюдал за аистами, стремительными темными точками чертившими голубизну высокого неба, – может, того… золотой стульчик, а, сосед?
– Ишь ты, уразумел! – изумился Захар, но тут же притушил в глазах веселый огонек, – Может, и того, и сего, и по-всякому, Фома Алексеевич…
Устроившись рядом с Захаром, Фома скрутил толстую цигарку, с удовольствием задымил, нежась на солнышке.
– Неудобный ты человек, Захар, – сказал он немного погодя. – У тебя внутрях вроде какая приворожка сидит… природа! Отчего это так, разобъясни ты мне? Вот нынче, думаю, зять звал сараюшку поросёнку подладить. Приду, говорю. А у самого гвоздь в мозге… Ну куда это он, думаю, второй день в поле шастает, а? Какая такая у него там открылась оказия? Лежу ночью, а в груди точит… природа, а? Ладно, Кешка, зять, думаю, подождет, дай, думаю, вслед ва Захаром пронырну. А тут вон каковское дело, оказывается… Ну что ты на это скажешь? – Фома полез к себе всей пятерней в затылок. – Зять на меня теперь, гляди, надуется, вечером литровку обещался выставить.
Покосившись на огорченного Фому, Захар не выдержал, засмеялся.
– Я тебя не держу, успеешь к зятю, через час в Густищах будешь. Иди, Фома…
– Как же, иди, – возразил Фома. – А ты потом опять ковырнешь, в кишках заноет… природа, – вздохнул Фома. – Зловредный ты человек все-таки, Захар. А-а, что зря говорить, природа! Командуй, с чего начинать?
Захар еще посмеялся, хлопнул его по плечу и послал готовить в соседний отрог новые колья, и они проработали вдвоем до вечера, но на том их одиночество и кончилось. Добравшись до Густищ, Фома тут же, на конюшне, сообщил, как они с Захаром спасают землю за Соловьиным логом, и назавтра с утра пораньше у свежеразмытого оврага оказался древний старик Фаддей, всю зиму пролежавший на печи, затем к обеду ближе показался Володька Рыжий, а там и пошло. После занятий в школе с шумом и гамом посыпалась ребятня постарше, и Фома только крякал от удовольствия да потирал руки; Захара совсем оттеснили от работы, Фома стал под конец на всех покрикивать и распоряжаться; школьники рубили и таскали ивняк, забивали колья, старики, возбужденные общей суматохой, ловко оплетали обрывистые склоны оврага лозой; другая часть ребят высаживала вдоль склонов березки и дубки.
Под вечер Захар совсем отошел в сторонку и наблюдал за работой издали; ему было грустно и хорошо.
– Батя, батя! – подбежал к нему Вася с полным бидоном березового сока. – Гляди, опять до краев!
Захар взглянул в сияющие глаза мальчонки, и его рука, помедлив, опустилась на вихрастый затылок.
– Молодец… сынок, – похвалил Захар, как-то неожиданно для себя впервые после встречи и разговора с Макашиным называя этого мальчишку сыном и чувствуя от этого трудный, мгновенный жар в груди. Васе тоже словно передалось состояние Захара, у него стало медленно гаснуть лицо, и в глазах пробилось нечто боязливое, далекое, темное, но он не опустил глаз, глядел все так же открыто, и только от напряжения взгляд у него словно подернулся сухим туманом.
– А ну-ка, дай попробовать, – заторопился Захар и, подхватив бидон, сделал несколько крупных, жадных глотков. – Ух, хорошо… спасибо, Васек. Теперь беги, пои работничков, – кивнул он в сторону оврага, сплошь обсыпанного людьми. – Гляди, как трудятся… жарко. Беги, беги!
Вася, радостно улыбаясь, схватил бидон и бросился к оврагу, а Захар медленно побрел вдоль лога в самый дальний его конец и скоро оказался в густых осиновых зарослях, продрался сквозь них и вышел к старым дубам. Вечерело; голоса людей отдалились, почти не слышались больше. Он прошел еще дальше, к дубовому мелколесью, и сел на подвернувшуюся старую валежину. Синие, прохладные сумерки охватывали землю; какой-то шорох заставил Захара повернуть голову. Метрах в пяти от него, словно каменное изваяние, стоял старый, матерый волк с задушенным зайцем в пасти; задние длинные ноги мертвого зверька слегка раскачивались.
Несколько секунд человек и волк глядели друг на друга прямо в глаза – жаркий, мерцающий взгляд зверя и пытливый, настороженный человека встретились в поединке, и у волка медленно приподнялась на загривке шерсть.
– Ладно, не трусь, серый, я тебя не выдам, – негромко сказал Захар, и при первых звуках его голоса волк одним бесшумным прыжком исчез в дубовых зарослях,
21Растопыривая ручонки, с восторженно сияющими глазами Ксеня настойчиво преследовала яркую, желтовато-малиновую бабочку. Как диковинный живой цветок, бабочка перепархивала с места на место, и девочка, пока бабочка летела, затаив дыхание, замерев, шептала:
– Бабочка, милая, сядь, сядь, посиди, на цветочек погляди… Бабочка, милая… Понюхай цветочек, понюхай…
Трепеща жарко вспыхивающими под солнцем крыльями, бабочка временами словно падала вниз на приглянувшийся ей цветок, и Ксеня с потешно-страдающим лицом начинала осторожно подкрадываться к ней, выставив вперед ручонки и сложив ладошки лодочкой, чтобы прикрыть ими увертливую бабочку.
– Бабочка, милая… бабочка, милая, – шептала она, едва сдерживаясь от восторженного визга, так и рвущегося из нее, когда бабочка почти из-под самых ладошек вспархивала, этот бурный визг прорывался, сверлил воздух, заставляя испуганно оглядываться Тимофеевну, лепившую за большим столом пельмени; Ксеня негодующе топала ногами.
– Ба! Ба! Опять она улетела!
Отрываясь от своих дел, Тимофеевна ласково увещевала девочку, шаловливую, резвую, с непокрытой шелковистой головой.
– Ксенюшка, ох, дуреха, – качала старуха головой. – На что она тебе сдалась? Тоже жить хочет, поймаешь ты ее, замучаешь, а она знает, вот и не дается. Кто ж мучительства себе хочет? Разве какой страшный человек… деться-то ему больше некуда, такому разве как на тот свет.
Ксеня, подойдя к ней ближе, внимательно слушала, исподлобья поглядывая на большой живот няни, обтянутый красивым, в цветочках, фартуком.
– Иди, иди, Ксенюшка, шапчонку-то надень, а то солнце напечет, вон оно как кусается сегодня…
– Не хочу шапку, – заупрямилась Ксепя, – Хочу бабочку! Ты, няня, плохая!
– Ой, – изумилась Тимофеевна, – это где ты такого нахваталась? Ах ты бесстыдница! А ну, поди сюда, вот я тебе сейчас! – Тимофеевна грузно двинулась к девочке, но та, радостно взвизгнув, стремительно сорвалась с места и через мгновение исчезла в густых кустах белой махровой сирени, снизу доверху покрытой громадными соцветиями (над ними стоял непрерывный гул пчел, шмелей, всевозможных цветочных мух и бабочек), и Ксеня, на мгновение встревожив весь этот многочисленный мир, тряхнула кусты и скрылась среди них, а Тимофеевна с улыбкой вернулась к своим делам. Затаившись в прохладном полумраке, Ксеня притихла, ее внимание привлек черный продолговатый жук с большими ветвистыми рогами, упрямо пробиравшийся куда-то по прошлогодним листьям. Глаза девочки округлились, такого жука она еще не видела. Спинка у него была в частых продольных желобках, ноги крючковатые, мохнатые, сильно цеплявшиеся за листья. Осторожно, затаив дыхание, Ксеня притронулась пальчиком к блестящей спинке жука, и он тотчас угрожающе поднял рога, зашевелил ими. Ксеня в испуге отдернула руку и ойкнула. Жук медленно пополз дальше, девочка за ним, но скоро его медленное, однообразное движение надоело ей и она палочкой перевернула жука на спину, внимательно разглядела его гладкое, с розоватыми размывами брюшко и бессильно шевелящиеся сучковатые лапки. Ей стало жалко жука, и она, осторожно поддев палочкой, опять опрокинула его на лапки и дала спокойно заползти под молодой куст лопухов.
Влекущий своим таинством неведомый мир открывался ей в зарослях старого сада, и даже неровные солнечные пятна, прорывавшиеся сквозь шевелящуюся зелень и достигшие земли, были живыми, все время менялись, и от их светоносной переменчивой игры Ксене стало весело. Она забыла о бабочке, о жуке и стала очерчивать палочкой на земле солнечные пятна, и оттого, что они все время смещались и не давались, она сердилась и, упрямо сдвинув брови, продолжала свое. Она как раз обводила большое, рваное, трепещущее желтовато-радужное пятно, когда оно вдруг исчезло. Ксеня даже растерялась. Она заметила, что все солнечные пятна на земле исчезли, вышла из серени на открытое место и увидела, что на солнце наполз край большой клубящейся тучи.
– Злая, злая, злая! – сказала девочка и присела; черную клубящуюся тучу рассекла длинная, извилистая трещина, и туча вначале глухо заворчала и затем просыпалась на землю оглушительно звонким треском.
– Ксеня! Ксеня! – тревожно позвала от дома Тимофеевна. – Сейчас же ступай сюда, гроза будет, Ксеня! Ой, господи, что мне с этой непоседой делать?
– Я здесь, няня, я сейчас, – отозвалась Ксеня. – Я здесь, рядом.
– Вижу, вижу, иди в дом,
– Я только погляжу немножко, ну, няня, ну, милая, ну, можно? – просила Ксеня, завороженно наблюдая за тучей, но в это время раздался такой оглушительно-трескучий и долгий удар грома, что Ксеня опрометью метнулась на крыльцо, затем на веранду, прижалась к Тимофеевне. – Ой, боюсь, няня! – сказала она шепотом.
– Боженька гневается. – Тимофеевна ласково прижала к себе голову девочки и мелко перекрестилась. – Ты не бойся, Ксенюшка, ты дитя невинное, безгрешное, таких его гнев не касается…
– Няня, а кто это – боженька? – спросила Ксеня, поднимая на Тимофеевну темные, как спелая смородина, брюхановские глаза. – Отчего он такой сердитый?
– Господи, помилуй, – опять испуганно перекрестилась Тимофеевна. – Ты что это, придумщица! Это всего-навсего гром гремит, а боженька, он еще выше…
– Еще выше? – изумилась Ксеня, начиная от волнения перед необъяснимыми вещами покусывать ногти. – Ой… а как это – еще выше?
– Да помолчи ты, помолчи, говоруха, – попыталась остановить ее Тимофеевна. – Никто этого не знает, выше, значит, где небо кончается, и все тут.
– Няня, глянь, опять солнышко, – обрадовалась Ксепя.
– И слава богу, – довольно отозвалась Тимофеевна. – Грозу-то стороной проносит. Позавчера в ночь дождик был, земля сырая, хватит.
Ксеня спрыгнула с крыльца и вновь исчезла в глубине сада и скоро была уже в самом дальнем, глухом его углу, перед густыми зарослями шиповника. Сюда приходить одна она побаивалась, но это место невольно притягивало девочку к себе своей таинственностью и тишиной. Колючий веселый шиповник тоже был густо усеян розовато-бледными круглыми цветами. Ксене показалось, что со всех сторон на нее кто-то смотрит большими волшебными глазами. Гроза рокотала где-то уже вдали, и начавшийся было ветер стих. Густой и в то же время призрачно-неясный аромат цветения наполнял воздух.
Ксеня ползком проползла под сомкнувшимися вверху, давно не чищенными кустами шиповника, внимательно осматриваясь, долго куда-то ползла, поворачивая из стороны в сторону, и наконец уткнулась в плотный, тяжелый забор. На этом ее знакомство с садом, очевидно, и закончилось бы на этот день, но, выбираясь из зарослей шиповника, она, уже вся исцарапанная, готовая зареветь от непонятной обиды, выползая из-под цепких, колючих кустов, нос с носом столкнулась с большим колючим зверем с острой мордочкой и тотчас узнала в нем ежа, хотя до этого, кроме как на картинках, никогда его не видела. Но она его узнала и онемела от восхищения, потому что ежик был совсем живой и, смешно принюхиваясь, дергал своим острым черным носиком.
– Ежик, ежичек, – прошептала Ксеня, – у нас молочко есть… Хочешь молочка? Пойдем со мной… Пойдем… Ты такой хороший, красивый…
Пока она говорила, еж все так же настороженно принюхивался, поблескивая из-под выставленных на всякий случай колючек темными, блестящими бусинками глаз, но стоило Ксене шевельнуться, как он недовольно хоркнул, мгновенно свернулся клубком, и сколько Ксеня его ни уговаривала, так и лежал колючим шаром, не шевелясь. Ксеня подумала, подумала, осторожно потрогала его ладошкой, отдернула руку, было очень колко. Тогда она присела перед ним на колени, наклонилась и стала подсовывать под него подол платьица; скоро ежик тяжелым хоркающим клубком перекатился к ней в подол, и Ксеня, едва дыша, пошла к дому и, присев перед Тимофеевпой, торжествующе освободила свою добычу. Ежик, все так же свернувшись клубком, остался лежать у ног Тимофеевны, а та от растерянности всплеснула руками.
– Что за ребенок! Да где ты его откопала? Да ты посмотри на себя, вся в царапинах…
– Няня, дай ему молочка, – попросила Ксеня, присев рядом с ежиком. – Он молочка хочет…
– Молока? А ты откуда знаешь?..
– Мама книжку читала. – Ксеня не отрывала глаз от ежика.
– Ну, раз в книжке… – Тимофеевна вздохнула, принесла молока в блюдечке, поставила его рядом с ежом. – А теперь давай от него отойдем, – сказала она тихо, – он и развернется, может.
– Он же нас не видит, – запротестовала Ксеня.
– Зато слышит, – сказала Тимофеевна и тихонько отвела девочку в сторону; обе долго были заняты ежом, Тимофеевне едва удалось Ксеню уговорить отпустить его, сказав, что ежик тоже мама и ее ждут голодные маленькие ежата, а если их мама не придет, то они помрут с голоду. У Ксени сделались большие, неподвижные глаза, и она до самого обеда была необычно молчаливой, легла отдыхать послушно и, едва попрощавшись с Тимофеевной, повернулась на другой бок и закрыла глаза.
– Ну, поспи, поспи, Ксепюшка, – сказала Тимофеевна и, сделав необходимые дела, тоже решила немного полежать. Прибрала волосы, задернула от солнца занавески на окнах, шлепая мягкими войлочными туфлями, еще раз прошла в комнату к девочке, прислушалась и вернулась к себе, оставив, как всегда, дверь открытой. Брюханов, как обещал, к обеду не приехал, вспомнила она, уже засыпая, и тотчас испуганно подхватилась и села, ворочая тяжелой головой, Сердце неровно билось и ныло. Нащупав ногами туфли, Тимофеевна неслышно прокралась в комнату Ксени и остановилась у кровати девочки. Натянув на голову одеяло, чтобы ее не было слышно, свернувшись под ним маленьким клубочком, Ксеня, захлебываясь, по-щенячьи тоненько плакала. Сердце у Тимофеевны подскочило к самому горлу и глухо оборвалось.
– Ксеня, Ксеня… – шепотом, превозмогая себя, позвала она, но девочка не отозвалась, хотя плач и прекратился.
– Ксеня, Ксеня, – опять тихо позвала Тимофеевна и осторожно приподняла край одеяла. Она увидела крепко зажмуренные глаза, дрожавшие от напряжения ресницы, размазанные по щекам слезы.
– Да ты же не спишь, Ксенюшка, милая моя ягодка? – растерянно сказала Тимофеевна. – За что же ты со мной-то так? В чем я-то перед тобой виноватая? – Тимофеевна всхлипнула, готовая от жалости в свою очередь разреветься.
Ксеня в этот момент открыла глаза и по-взрослому пристально посмотрела на Тимофеевну.
– Господи помилуй, – перекрестила ее с невольным страхом Тимофеевна. – Ты чего это так смотришь?
– Сейчас маму видела, – сказала Ксеня тихо и спокойно и замолчала.
– Как, детка, во сне, что ль, пригрезилось-то?
– Не знаю… Поглядела в окно, а она стоит. – Ксеня моргнула. – Я испугалась – и в постель… А потом…
– Ну а потом? – со страхом переспросила Тимофеевна, устав ждать.
– А потом? Потом я глянула… никого нет. Но она была и опять ушла… Я плакать стала… Няня, с тобой хочу… боюсь… ой, боюсь… страшно…
– Господи, детка, да я… милая ты моя… Ничего ты и не видела, так… во сне привиделось… – бессвязно бормотала Тимофеевна, подхватывая сильными еще руками девочку из кроватки и прижимая ее к себе. – Да ты что, милая? Во сне так бывает, ты не бойся… и мама к тебе придет… ушла, потом возьмет и придет… всегда так бывает, если ушел кто, обязательно назад вернется… Придет, придет… ты только спи… спи, родная моя, спи…
Тимофеевна прошлепала толстыми ногами к своей постели, осторожно опустила девочку, пристроилась рядом.
– Ты спи, спи, – говорила она шепотом, слегка, еле слышно поглаживая Ксеню по шелковистой головке. – Закрой глазки и спи себе… Поспишь немножко… А мама, она уже идет, спешит к тебе, ой, как спешит… Ты только спи… спи, родная моя, горькая, спи…
– Идет? – уже в полусне спросила девочка.
– Идет, идет, – заверила ее Тимофеевна. – Еще как… Прямо как по ветру летит… распустила все перышки, все крылышки, чтоб легче было, и летит… знай себе летит…
Она поспешно зажала рот себе ладонью, потому что не могла больше говорить. Такой ясный, такой беспощадный свет прихлынул ей в душу, что она задохнулась и затихла; эту теплившуюся возле нее жизнь можно было искалечить одним лишним дуновением, одним неловким, неосторожным, обидным словом. И единственной твердью в этой неравной борьбе была она, неграмотная старуха, а все остальные были заняты своими, на их взгляд, высокими и необходимыми делами, хотя самое необходимое было вот здесь, с ней рядом, и это она знала.
«Эх, чтоб вас…» – выругалась мысленно Тимофеевна, но тут же испуганно вжалась головой в подушку; густой майский полдень в ответ вновь громыхнул накатывающейся издалека грозой, и Тимофеевна, томимая каким-то предчувствием, осторожно, чтобы не потревожить задремавшую, кажется, девочку, встала и вышла. Яркий солнечный свет ударил ей в глаза, в саду, омытом недавним дождем, еще не просохло, солнце, отражаясь в повисших на листьях каплях, дробилось, играло по всему саду; Тимофеевна присмотрелась, ахнула; яркая, многоцветная радуга перечеркивала небо широкой полосой, а с запада опять росла, бухла грозовая туча, и Тимофеевна слышала ее веселый отдаленный грохот. «Красота-то, красота какая дивная, – с радостным теснением в груди подумала Тимофеевна, забыв обо всем на свете. – Вот так бы взглянуть еще раз напоследок… и лучше ничего и не надо…»
Почувствовав какое-то движение воздуха, Тимофеевна быстро оглянулась и увидела, что дверь из комнаты на террасу распахнута и Ксеня в одних трусишках, с нетерпеливо-радостным выражением лица стоит на пороге, сжав кулачки и изо всех сил прижимая их к груди. Тимофеевна потом долго не могла забыть недетское, поразившее ее выражение лица девочки; в первую минуту Тимофеевна не нашлась что сказать и боязливо присела перед девочкой.
– Ты, Ксенюшка, спать не хочешь? – спросила опа, чувствуя непривычную сухость во рту.
– Мама пришла, – повторила девочка по-взрослому твердо и тихо, словно боялась, что ее услышит кто-то посторонний, добавила: – Я ее видела…
– Горе ты мое, Ксенюшка… да я ж тебе говорила…
Ксеня прошла мимо Тимофеевны на крыльцо; Тимофеевна заторопилась следом.
– Ну, пойдем, пойдем, – бормотала опа. – Сама увидишь, никого тут нет, а мама на работе… а вот как кончит она лечить таких старух, как я… вот тогда и приедет…
Они пошли вокруг дома, и едва Тимофеевна повернула за угол, ноги у нее подломились и она схватилась за степу, чтобы удержаться. «Батюшки, святые угодники», – прошептала Тимофеевна, пе отрываясь от Аленки, сидевшей на скамье под кустом белой сирени. Но Аленка ничего, кроме дочери, не видела, она даже не могла встать, и Ксеня с каким-то недоумением и неверием тоже смотрела на нее сумрачными брюхановскими глазами, и у самой Аленки было непривычно серое, погасшее лицо.
– Ксеня… Ксеня… – неслышно шевельнула она губами, и этого было достаточно, чтобы рухнул последний барьер.
С отчаянно-пронзительным криком: «Мамочка! Мамочка!» – Ксеня бросилась к ней, и Аленка схватила ее на руки и, вся дрожа, прижала, притиснула к себе, жадно целуя в голову, узнавая единственно родной, незабываемый запах волос дочери.
– Мама! мама! мамочка! – бессвязно твердила Ксеня, крепко обхватив ее шею ручонками, – Не плачь! не плачь! мамочка, не плачь! – просила она. – У нас ежик в саду есть… я тебе покажу, я поймаю… мамочка…
Как всегда в таких случаях, Тимофеевна бестолково топталась рядом, что-то невпопад говорила, наконец успокоенпо утерла глаза концом платка.
– Вот и хорошо, вот и ладно, Тихон Иваныч обещался подъехать к обеду, я и пельменей наделала, все опять вместо будем…
Сказала и осеклась, даже испуганно прихватила рот ладонью, но слово уже вылетело. Аленка, еще раз поцеловав дочь, усадила ее рядом с собой, достала из сумки рыжего плюшевого зайца.
– Это тебе, Ксеня…
– Ой, а у меня уже есть один… большой зайка! А этого я с ним вместе посажу, им скучно не будет, – сказала Ксеня и с детской непосредственностью и порывистостью умчалась.
– Прости Тимофеевна. – Аленка с какой-то невнятной неестественной улыбкой подняла голову. – Подвела я тебя… не могла я больше… Ты как-нибудь отвлеки девочку, пожалуйста, я уйду… Вот, удержаться не смогла, хоть увидеть ее на минуту… Ты что-нибудь придумай…
– Куда же это ты пойдешь? – грубовато оборвала ее пришедшая в себя Тимофеевна. – От собственного ребенка, а?
– Тимофеевна, ты же знаешь, я не могу, чтобы меня застал здесь Тихон…
– Не могу! не могу! – все решительнее наступала на нее Тимофеевна. – Мать ради своего ребенка все может. Это все у вас от учености. Гордость друг перед другом показываете, а жизни нет.
– Тише, Тимофеевна! А вдруг он сейчас придет?
– Ну, так что ж? – неодобрительно нахмурилась Тимофеевна. – Пусть приедет! Не он же рожал, ты! Он мужик, ему что! А ты мать, пусть он боится. Видано ли дело, ребенок при живой матери с отцом сирота. Жить надо по правде, вот что я тебе скажу, хочешь – сердись, хочешь – нет… – начала было Тимофеевна, но в это время из-за угла стремительно вырвалась Ксеня, волоча в каждой руке по плюшевому зайцу.
– Мама! Мамочка! Я тебя познакомлю! – закричала она еще издали. – Это Белый Хвостик, а этого мы назовем…
Поднявшись, Аленка быстро пошла навстречу дочери; Тимофеевна, переживая прерванный разговор, неодобрительно поджала губы.
Ветер прошел по саду, гроза, совершив свой круг, откатывалась все дальше, еще и еще раз смывая на своем пути и след зверя, и след человека. Так было нужно, чтобы каждому живому творению достался незанятый простор.
И Аленка подхватила Ксеню на руки, радостную, визжащую от счастья, легко и высоко подняла и, глядя снизу вверх на нее, прошептала:
– Родная моя, как я хочу тебе счастья.








