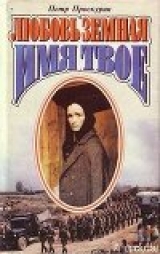
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 64 страниц)
– Гляди, расходился, Фома, – неодобрительно поджимая и без того тонкие губы, сказала Чертычиха. – Нашел чем хвалиться-то! И сам ты такой же басурман. Тебе что в кладовой-то? Там на мышек кинешь, там на утруску, гляди, сыт, да и выпить останется… Сам знаешь, тот не грешит, кто в матушке землице лежит.
– Ты, бабка, не лезла бы со своими зловредностями в серьезный разговор, – загорячился Фома. – На свете еще не бывало человека без твоего напрасного поклепа, природа! Вон на тебе мои ключи, бери, иди на склад. Иди, иди, погляди, там и мышиного помета не осталось, не то зерна… Ну, иди! Все знают, я и ягненка не обижу, у нас вся порода такая…
– Как же, порода! Как увидел, так и проглотил, – бабка отмахнулась от Фомы, еще больше поджала губы, всем выражением своего лица показывая, что она не верит ни одному слову Фомы и что если в амбаре ничего нет, то это не значит, что Фома ангел-бессребреник, и при этом у Чертычихи без всяческих слов все это получилось в такой степени убедительно, что Фома только возмущенно плюнул себе под ноги.
В этот момент и появилась дурочка Феклуша, проскользнула между теснившимися людьми и остановилась перед Захаром; на первый взгляд она мало постарела, но это впечатление было от ее все того же детского, ясного взгляда; Захар видел морщины у нее на лице, и особенно выделялись они у самых губ.
– Здравствуй, Феклуша. Узнаешь? – спросил Захар, и она не отрывала от него глаз, все так же широко открытых, чему-то однажды и навсегда удивленных; какой-то бессмысленный зеленый и теплый свет сеялся в них.
– Прилетел, соколик, прилетел, родненький, – сказала она. – Ты лучше помолись, матерь божья милостивица… Помолись, помолись…
Старухи оживленно переглянулись; Варечка Черная придвинулась ближе, чтобы не упустить ни одного слова, но Феклуша уже потеряла всякий интерес к Захару и, блуждая взглядом вокруг, остановилась на лице Васи, тотчас и направилась к нему, сделает шаг, остановится и рассматривает, опять шагнет и опять смотрит. Захар заметил, как Вася, сидевший до сих пор неподвижно, боязливо сложив руки на коленях, стараясь как-нибудь не пошевелиться, открыто улыбнулся навстречу Феклуше, как-то словно весь потянулся к ней.
Феклуша пододвинулась еще ближе, опустилась перед мальцом на корточки. Вася все с той же внезапной открытостью смотрел на нее.
– Глянь, птенчик из гнезда вывалился, – пробормотала Феклуша. – Весь как есть голенький, один пушок на темечке…
Она замолчала, и было такое ощущение, что она старается что-то припомнить; принужденно усмехаясь, шагнув к ней, Захар прикоснулся к ее худому плечу.
– Встань, Феклуша, вставай, что ты перед ним квочкой-то? – попросил он.
Феклуша закивала головой, легко вскочила, порылась в глубоком кармане юбки и стала совать Васе что-то замотанное в грязную тряпицу.
– Возьми, возьми, – сказала она, когда Вася сначала протянул, затем отдернул руку. – Они сладкие.
Диковато кося глазами, Феклуша повернулась и побежала.
16На народе Ефросинья ничем не проявила себя, держалась, словно бы ничего и не случилось; бабы, переглядываясь и покачивая головами, лишь ахали про себя. Но вечером, когда летние краски быстро и ярко отполыхали, над низинами стал прозрачно куриться туман и пастухи пригнали отяжелевших, сытых коров, лениво обмахивающих с себя лесное комарье, что-то нехорошее шевельнулось в ее душе. Словно кто-то взял и безжалостно полоснул тупым ножом, даже в голову ударило; она как раз доила корову и едва-едва смогла перевести дух.
– Господи, помилуй, – сказала она испуганно, ослабевшими руками вяло выцеживая из теплого большого вымени остатки молока; Милка, словно ей передалось состояние хозяйки, нервно переступила всеми четырьмя ногами, завернула голову назад и, шевеля ушами, поглядывала на Ефросинью. – Стой, стой, Милка, – шепотом попросила Ефросинья. – Стой, всякое видели, не пропали…
Она кончила доить корову, загнала ее в сарай, заперла дверь; молоко она не стала цедить, поставила на лавку прямо в доенке, крадучись, словно собиралась сделать что-то нехорошее, выскользнула на улицу. Кое-где уже начинали слабо просвечивать первые звезды, по всему селу слышались ребячья возня и прочие привычные шумы и звуки, скрип журавля у колодца, запоздавший стук топора, рычание трактора. Ефросинья затаилась у изгороди своего сада, под размашистым кустом медвяно пахшей в самом цвету акации. Она не могла понять, что такое нахлынуло на нее, она вроде ни о чем сейчас и не думала – ни о Захаре, ни о себе, просто что-то непосильное, то, чего она ясно не понимала, надвинулось, подмяло ее, и ей хотелось забиться куда-нибудь подальше, переждать в безлюдье, но она хорошо знала, что именно в одиночестве она не выдержит. Задавленно всхлипнув, она сжалась, проезжавшая мимо машина ослепила ее, и она еще сильнее подалась назад, в куст, прикрыла веткой лицо. Машина проскочила, и она запоздало сообразила, что никто ее здесь увидеть не может, да никому она и не нужна, просто страх перед самой собою гонит ее.
Крадучись она перебежала улицу, постучала в окно Варечке Черной; та тотчас вышла на улицу, тихонько позвала:
– Эй, кто там?
– Я это, Варвара, – отозвалась Ефросинья. – Можно?
– Заходи, заходи, Фрось, – заспешила Варечка, – посумерничаем… Надо ж тебе, какая оказия… не было его, не было, взял и явился на диво, глазами-то стрижет, стрижет. Ах ты господи! – охала и вздыхала Варечка Черная, суетясь вокруг Ефросиньи, присевшей в уголок на лавку. – Фрось, чайку тебе плеснуть? Хороший, мятой да корнем шиповника заваривала, полкружечки выпьешь, все нутро отпустит… Выпей, Фрось, выпей, – совала она ей в руки помятую немецкую алюминиевую кружку.
Ефросинья взяла, машинально хлебнула душистого травяного настоя, поставила кружку рядом с собой на лавку.
– Тяжко мне, Варвара, – сказала она внезапно, сдвигая платок с головы на плечи. – Ох, тяжко… Жила себе горя не знала, надо ж тебе, принесло проклятого… Ох, тяжко, моченьки моей нет!
– Фрось, Фрось! Да ты что? – еще больше засуетилась вокруг нее Варвара, которой было в высшей степени лестно, что Ефросинья пришла именно к ней поделиться своей бедой. – Ты, Фрось, на бога гляди, на бога! – Варечка быстро, со страстью повернулась к иконам, истово перекрестилась. – Сам терпел и нам велел. Господи, защити и помилуй…
Ефросинья, привалившись к стене, неподвижно глядела перед собой и почти не слышала слов Варечки; тусклый свет семилинейной керосиновой лампы, зажженной Варечкой ради такого случая, разбудил мух, и они сонно, лениво зажужжали. Только сейчас Ефросинью охватило досадное, горькое изумление. Как же, говорила она, нá тебе, в самом деле явился! Захотелось ему, горло перехватило, сразу вспомнил дорогу назад, небось и не подумал, каково ей после всего увидеть его; как всегда, только о своем, только о себе! Да еще и Манькиного подзаборника приволок. Ты, мол, все одно дура, обстирывай, корми! Больше десяти лет дома не было, а приперло, явился, принимай, Ефросинья! Принимай! Принимай! – отдалось где-то глубоко в ней глухой болью. Да у меня тоже душа есть, я тоже не каменная, живая! Все ему да его детям отдала, все разграбил да пожег, как самый последний бандит, одни головешки после себя оставил. Нет, не приму! Не приму! Теперь недолго осталось, теперь и без мужика дотяну как-нибудь, раз уж такая мне бабья доля, завтра утром скажу, пусть приискивает себе жилье. И Егору в это дело мешаться не дам… Молчи, скажу, не твое это сопатое дело, вот когда на вольную жизнь пойдешь, там и распоряжайся. Не приму, нет, не приму! – твердила Ефросинья, потому что где-то в ней ныла, никак не хотела окончательно погаснуть слабая искорка совсем другой природы; от нее-то и шла вся мука Ефросиньи. Как бы решительно ни настраивала она себя, а вот блеснет такая искорка – и тотчас все рушилось, все приходилось начинать сызнова. Было ведь и хорошее у нее с Захаром, да еще сколько было, кричал в ней кто-то неведомый, супротивный, все было хорошо, пока не перебежала дорогу эта бесстыдница Манька Поливанова, после войны Захар ведь не ее, а тебя первую к себе звал… Сама не поехала, а мужик что ж, мужику без бабы долго не вытерпеть, порода у него такая.
Ушедшая глубоко в свое Ефросинья не заметила, как рядом с нею оказались соседки, одна, и другая, и третья, проскальзывали в дверь, неприметно жалостливо вздыхали, бесшумно рассаживались по лавкам, и скоро собралось человек десять. Тут были все свои, и Стешка Бобок с пухнувшими после голодных послевоенных лет ногами, и Нюрка Куделина, и неразлучные бабки Чертычиха с Салтычихой, и Митьки-партизана баба, Анюта, которую Варечка перехватила по дороге, сказав ей, что Ефросинье Дерюгиной худо, и еще несколько человек помоложе, и старуха Разинова, и баба тракториста Ивана Емельянова, в третий раз после войны беременная, но по-девичьи румяная на лицо, всегда молчаливая Прасковья, вдова Харитона Антипова. И уже совсем слабой тенью проскользнула в избу Феклуша, обвела всех детским, ясным взглядом, затем завороженно уставилась на огонек в лампе. Все были свои и, словно почувствовав ее, Ефросиньи, беспредельное одиночество, не зная, как его разделить, молчали и ждали. Феклуша сразу определила психический центр напряжения и, оторвавшись от лампы, не обращая ни на кого внимания и не видя никого, прошла прямо к Ефросинье, постояла перед нею недвижно, погладила ее по плечу и опустилась у ее ног прямо на пол, поджав под себя ноги. Ефросинья никак не могла выбраться из своего забытья, но ее рука, как бы сама собой, легла на простоволосую голову Феклуши и как-то машинально стала приглаживать ее спутанные, выгоревшие от солнца и ветра волосы. Феклуша сидела в улыбалась, закрыв глаза, редко ей приходилось довольствоваться даже такой скупой лаской. Кто-то из баб, наблюдая за этой сценой, не выдержал, тихонько всхлипнул, и в лице Феклуши тотчас плеснулся испуг; рука Ефросиньи замерла.
Феклуша что-то неразборчиво пробормотала, что-то про луг да холодную росу, и ее слабый голос заставил всех еще больше притихнуть; у Ефросиньи сжалось и замерло внутри от боли, и какой-то обессиливающий, жаркий туман обвял голову. Это голосом Феклуши вроде бы сама она заговорила, это все были ее, те самые, жгущие изнутри слова, они никак не могли прорваться, а прорвались чужим голосом. Сдерживая боль в сердце, она быстро наклонилаеь и жарко поцеловала Феклушу в голову раз и другой.
– Феклуша, Феклуша, встань, – стала теребить ее Ефросинья. – Встань, милая, встань! Я тебе ботинки куплю… и платок. В первый же базар куплю. Душу ты мне прожгла… Феклуша, Феклуша, стой! Куда ты?
Но как нельзя было бы минутой раньше заставить Феклушу уйти, так нельзя было теперь удержать ее; одним легким движением, словно тень, она проскользнула в дверь и растаяла в ночи; никто не успел и опомниться. Но Феклуша как бы связала Ефросинью со всеми, кто набился в избу к Варечке Черной, Ефросинья опять окинула взглядом собравшихся вокруг нее баб.
– Бабы… бабы… – сказала она, обводя всех заблестевшими глазами. – Бабы, а бабы, что бы это такое сделать? – спросила она с новой, незнакомой силой в голосе. – Что бы мне такое сделать, чтобы все на свете забыть? А бабы? Вся-то моя жизнь на ладошке, вот, глядите, глядите! – потребовала она, вытянув перед собой и расправив большую, тяжелую, задубевшую в вечной работе ладонь, все собравшиеся глядели пристально на нее. – Что бы мне такое сделать, бабы? Ох, тяжко мне, бабы, ох, тяжко… Варвара, дай хлебнуть водицы, ох, скорей, Варвара, не могу, внутри жжет…
– Фрось, вот уж не думала, что тебя так-то пронять можно, – стала уговаривать ее Нюрка Куделина. – Эх, бабы, лучше бы хлебнуть ей водицы-то из-под бешеной коровки.. Что это мы стоим? А ну, волоки сюда что у кого найдется… Одним мужикам, что ль?
И таково было настроение собравшихся, что никто но удивился, словно только и ждали этого приказа; через несколько минут раскрасневшиеся бабы уже суетились вокруг выдвинутого на середину стола. Появилось несколько бутылок подкрашенной вишнями самогонки, сало, молодой лук, редиска, квас, кто-то приволок кувшин браги, Варечка Черная выставила на стол сырые яйца в глиняной миске и затем, всполошившись, стала торопливо занавешивать окна.
– Правильно, Варвара! – одобрила ее действия Нюрка Куделина. – Пронюхают – от них, от чертова мужичья, не отобьешься! Лучше, гляди, занавешивай…
– И то, и то! – согласно кивала Варвара, стараясь не оставлять малейший щелочки. – Чтоб их и духу поганого тут не было!
– Садись, садись, бабы! Хватит! – поторопила Ефросинья, разливая самогон в стаканы, – Эх, давайте за нашу, бабью долю распроклятую! Ну!
С шумом двигая лавками и табуретками, бабы расселись кругом стола, разобрали стаканы и в общей тишине, словно еще прислушиваясь к отзвучавшим словам Ефросиньи, дружно выпили, и Нюрка Куделина до того разволновалась, что повернула стакан, поцеловала его в донышко и, размахнувшись, хватила им о стенку; посыпались осколки, а Варечка Черная вскрикнула от испуга.
– Тю-ю, окаянная! – крикнула она. – Да этак-то кто ж на тебя стаканов напасется?
– Ладно, Варвара! Не жалей! – отмахнулась Нюрка. – Я тебе свой принесу! Эх! Эх! Заразила ты нас всех, Ефросинья, тоской. Ох, в грудях зашлось, ой, бабы, квасу, квасу скорей! – Нюрка подхватилась, жадно выпила кружку квасу и под общий смех опять уселась на свое место. – Крепкая чья-то попалась, прямо первак! Все нутро сожгло!
– Налей еще, бабы, налей! – поторопила Ефросинья, с трудом сдерживая какое-то пробивающееся изнутри нетерпение. – Ну вот, вы сидите тут, только у двоих из десяти муж и остался. Да вот теперь Захар Дерюгин прибился. Давайте, бабы, вместе решать, что ж мне с ним делать, с Захаром-то Дерюгиным, бывшим моим разлюбезным муженьком? Ну, бабы, решайте, что?
– Господь с тобой, Ефросинья! Окстись! Окстись! – заохала, замахала на нее руками Варвара. – Кто за тебя такое-то дело порешить должон?
– А вот так, как вы решите, так и будет, – голос Ефросиньи окреп, построжал, и какое-то торжественное отчаяние прозвучало в нем. – Сами знаете, всякую ягодку в руки берут, да не всякую в рот кладут. Вот как решите, так и будет – и все! Давай, бабы, давай еще выпьем и решим! Ну, с богом!
Бабы опять зашумели, выпили и, каждая на свой лад, задумались; каждая из этих женщин сейчас прикинула жизнь к себе, и каждая, разумеется, по-своему; почему-то никто не хотел говорить. Сама Ефросинья, подпав под общую минуту, тоже сидела молча, нахмурившись, и жизнь, с тех пор как она помнила себя, вновь проносилась в ней. Она не могла остановить этот захлестывающий ее поток, волны вздымались все выше, мутные, стремительные. Оказывается, много было всего, очень много, она подавленно и растерянно прислушивалась к обрушивающемуся в ней обвалу из каких-то обрывков воспоминаний, из рождений и смертей, безвозвратных потерь и редких светлых минут радости и света; никак и в голову не могло взбрести, что может уместиться столько в одной-то жизни… Если взвалить все это разом на себя, тут тебе и конец, раздавит, и охнуть не успеешь. А вот одно за другим – и ничего, тянет свою лямку человек потихоньку, вроде так и надо. И сейчас не Захар, опять вынырнувший на ее дороге, и даже не с ним будущие отношения, которые хочешь не хочешь, а придется решать и определять, мучили Ефросинью, а то, что она и на людях, среди подруг, вроде бы была совершенно одна, словно оказалась где-нибудь в глухом месте, за сто верст во все стороны ни жилья, ни человеческого голоса.
В это время Стешка Бобок, подперев щеку ладонью и глядя перед собой немигающими, начавшими выцветать глазами, тихо сказала:
– Мой бы Микита счас заявился, я его хоть какого бы приняла, хоть кругом грешного, хоть безногого. Ой, бабоньки, ой, муторно одной! Дети-то разлетятся, будешь горелой головешкой, ни дыму, ни жару. Ты, Ефросинья, с горячей головы не кидайся в омут… Подожди, погляди…
– Хочешь, Стеша, я его к тебе пришлю, может, ты с ним и поладишь, – невесело засмеялась Ефросинья. – Стешка Бобкова, скажу, согласная, иди. Он мужик вроде еще ничего, откормишь, отмоешь…
– Чур тебе, чур тебе! – заругалась на нее Стешка Бобок. – Куда как выгвоздила, напридумала!
– А что? Все она правильно рассудила, – остановила ее Нюрка Куделина. – Блукал-блукал где-то, шатун сивый, а теперь заявился: нате вам, подперло! Сатана анафемский! Правильно, Ефросинья, гони его к Стеше, пусть она медку-то этого горького хлебнет!
– Тьфу, тьфу, бесстыдница! – опять заругалась Стешка Бобок, густо, и от самогонки, и от волнения, краснея. Бабки Чертычиха и Салтычиха одинаково дробненько и враз засмеялись.
– Да нешто он по своей-то воле, бабы? – спросила Анюта, с каким-то недоумением оглядывая знакомых и в то же время как-то по-новому открывшихся ей женщин. – Дорога человеку такая вышла. Звал же он тебя, тетка Ефросинья, все знают – звал. Сама не поехала.
– Не поехала, – согласилась Ефросинья. – Зачем ехать-то было? Постылой-то что ж навязываться? Не человек я или как?
– Ну, диво, бабы, диво, – протянула Стешка Бобок. – Детей кучу нажили по-постылому или как?
– Э, припомнила, – Нюрка Куделина вздохнула. – Она, жизня, на одном месте не бывает. Круть да верть, глядишь и сама не знаешь, что получилось, куда это тебя с наезженной дороги вытрясло.
– Нет, не приму я его, бабы, – сказала Ефросинья с еще больше построжавшими глазами и внезапно, прислушиваясь только к тому, что было в ней самой, тонким, жалобным, но чистым голосом, в котором билась, трепетала несказанная душевная расстроенность и от которого вздрогнули все сидящие за столом, затянула:
Из-за гор-горы вылетел орел,
Из-за хутора вылетел другой.
Один Другого братом называл.
Ой, лелем-лелем!
Стешка Бобок моргнула, жалостливо скривила рот, всхлипнула и с изумленными глазами подхватила:
Скажи, брат-сокол, где ты летал?
Летал я, летал да за синем морем, —
тотчас быстро отозвалась Ефросинья, вся подавшись вперед в каком-то неудержимом и горьком откровении.
Скажи, брат-сокол, что ты там видал? —
спросила опять Стешка Бобок, словно бы сразу помолодевшая, и столько ожидания было в ее лице и в голосе, что Анюта, не отрываясь глядевшая на нее, почувствовала, как неудержимо ползут к сердцу слезы; никогда она еще не видела этих уже пожилых, на ее взгляд, женщин такими удивительными, никогда не слышала в них такого откровения.
«Видал я, видал да зелено жито», – отозвалась Ефросинья, полностью отдавшись песне, растворившись в ней, как в прохладной и чистой реке, безостановочно куда-то бегущей.
Как у том жите солдатик битый.
Он убит, убит, но не хоронен.
Прилетели к нему все три ласточки.
Все три ласточки слезно плакали.
Первая ласточка да родная мать.
Вторая ласточка да родная сестра.
Третья ласточка да erо жена.
Где мать плакала – там река плыла.
Где сестра плакала – там криниченька,
Где жена плакала – там росы нема.
Ой, лелем-лелем!
Ефросинья окончила на такой сердечной ноте, что казалось, сама изба расступилась, опали стены, и далекий простор того самого синего, никогда не виданного ни одной из этих женщин моря, его дыхание охватило все вокруг, – никто и не подумал, отчего это хорошо, грустно и просторно стало на душе.
– Ох, Фрось, ох, Фрось! – забормотала бабка Чертычиха, вытирая слезы. – Знала я, была ты в девках песенницей, да уж такого и я не слыхивала! Ох, Фрось, надсадила ты душеньку, ох, хорошо!
Ефросинья, еще не придя в себя, неуловимо подавшись вперед, сидела прямо и неподвижно, и лицо ее дрожало в слабой, неуверенной улыбке.
– Нет, нет, не нужен он мне, – покачала она головой, и приходившие в себя после песни женщины еще выпили, и когда в полночь Фома Куделин, привлеченный шумом и весельем в избе Варечки Черной, сунулся было туда в надежде присоединиться к непонятному, но обещающему многие выгоды событию, его тотчас выставили, и больше всех старалась его собственная жена.
– Тю-тю! – пробормотал Фома, неведомо как оказавшись за порогом и суетливо поправляя на себе пиджак. – Сбесились, ведьмы старые.
Он постоял в нерешительности, плюнул и побрел домой, а в это время у собравшихся женщин веселье достигло высшего накала, даже бабки Салтычиха и Чертычиха, тоненько охая, топали подламывающимися от выпитого ногами, пытаясь сплясать барыню, и у Варечки Черной, тоже давшей себе волю, вылетели из головы все первоначальные мысли о греховности, и она на диво приятным голосом пела про кудрявую голову молодца Ванюшки, которая лежала у нее на подушке, и про то, какие у него жаркие и сладкие губы, а Прасковья Антипова вторила ей.
– Ой, ну! Ой, ну-ну! – хором подхватывали женщины, в пламя в лампе от их голосов подскакивало.
Но в разгар веселья Ефросинья выбросила руки на стол, уронила на них голову и в наступившей тишине тоненьким, неожиданно чистым и звонким голосом запричитала:
– Да сыночек мой милый Ванечка! – выводила она. – Несчастная твоя головушка, сложил ты ее на дальней, чужой сторонушке! Был бы ты мне заступой, мой сыночек, и мое горюшко было бы меньше! Оставил ты меня, бедную, из матушки сырой земли нет ни выходцев, ни выплавцев, нет ни конного, ни пешего, ни письма нету, ни грамотки, никакой нету весточки! Как пойдут твои товарищи на веселое гуляньице, погляжу я из окошечка! Не могу я, горемычная, углядеть да сына милого. Не в народе да не в добрых людях, ни в друзьях-братьях-товарищах! Сыночек мой милый! Не придешь ты, мое дитятко, на родимую сторонушку, не рассудишь мое горюшко!
Теперь за столом уже не всхлипывали, терли глаза концами платков и боялись упустить хоть одно слово, и хотелось им оборвать ее несказанную жалобу на свою долю, бабки Чертычиха и Салтычиха хлюпали вовсю, Анюта все пыталась проглотить трудный, застрявший в горле ком, а Варечка Черная тоненько, не скрываясь, голосила.
– Не могу я, мое дитятко, идти искать тебя да на чужую сторонушку. Я теперь, сыночек миленький, пристарелася, я теперь вся прихудалася с того горюшка великого, и меня не носят ноженьки…
Внезапно подняв голову, Ефросинья, пошатнувшись, встала. Не говоря ни слова, глядя куда-то мимо людей, словно их никого не было, она прошла к двери, и когда Варечка Черная хотела кинуться ей вслед, Прасковья Антипова, вытирая заплаканные, посветлевшие глаза, остановила ее.
Ефросинья вышла, было уже далеко за полночь, звезды пестрели по всему небу. Их острый, холодный свет проник в ее широко открытые глаза, и в ее душе что-то свершилось. Нигде не было ни огонька, и только одно из окон ее собственной избы слабо светилось. Она равнодушно, противоположной стороной улицы прошла мимо. Правда, здесь, на этом месте, родились дети, но они теперь выросли и им было не до нее, так уж испокон века устроено в жизни. Детям на нее в обиде быть не за что, все, что могла, сделала, дети теперь ни при чем. Другое что-то, никому не подсудное, не вмещающееся в душе, вело ее. На траве, на деревьях, на крышах успела устояться роса, густая, молочная, как изморозь, серая; иногда, отражая луч неведомой звезды, долетавшей из безмерных высот, какая-нибудь капля росы вспыхивала переливчатым холодным огнем. Мир даже в ночи был наполнен своим особым светом и движением, и оно втягивало в себя Ефросинью.
Не задерживаясь, она минула село, вышла к березам, помедлила и прямиком, через поле поднявшейся уже в колено ржи, вышла к озеру. Подол юбки отяжелел от росы, но Ефросинья ничего не замечала. Тихо и светло было теперь в ее сердце; подходя к озеру, она еще издали заметила, что и вода, и берега, поросшие ивняком, укутаны причудливо-волнистой шапкой тумана. Она знала эти места и могла бы идти здесь с закрытыми глазами; не раздумывая, она смело шагнула в туман, скрывший ее вначале до пояса, а затем туман дошел ей и до плеч. Теперь ей казалось, что она плыла в молочной, прохладной реке, плыла туда, где не было и никогда не будет конца. И она знала это и, обогнув озеро, вышла на его противоположный от села высокий берег, здесь росли редкие старые сосны. В этом месте даже сильные парни и мужики не решались купаться, говорили, что здесь самая глубокая пучина, чертов омут, и что еще никто, попадая здесь в воду, не оставался в живых; берег уходил вниз отвесным обрывом, и стоило ступить всего один шаг…
Ефросинья, хотя и не видела ни воды, ни берега из-за тумана, все так же достигавшего ее груди, теперь совершенно успокоилась; не отрываясь она вглядывалась в густой туман над озером, но это был уже не туман для нее, а нечто такое, что означало завершение всему. Что? Что же там? – подумала Ефросинья. – Бог? Опять мука? Опять жизнь? Этого нельзя, чтобы человек и там начинал все сначала. «Торопись! Торопись! Скорей!» – прозвучал другой голос в ней и отдался со всех сторон расплывчатым, размазанным эхом; она теперь видела, что туман над озером слегка шевелится, и почувствовала кожей лица слабый ветер. Она отмерила себе еще несколько мгновений, жадно вдохнула воздуха, невольно, чтобы уже не удержаться, напрягла ноги и отшатнулась назад; ее оттолкнули немо кричащие, полные ужаса глаза Аленки, ринувшиеся к ней откуда-то из самой толщи тумана, и этот немой крик родных, знакомых глаз остановил в ней кровь; тело задеревенело и не скоро стало оттаивать. «Господи, матерь божья, – непослушными губами шептала Ефросинья, – что ж это? Что ж это? Да никто и не узнает, с этого места никто и не выплывал, затянет куда-то вглубь – конец, никаких следов…»
И опять теплый, легкий ветерок коснулся лица Ефросиньи, она вздрагивающими руками поправила на себе платок. Она только теперь поняла, что этот, казалось бы, давно забытый мужик, отец ее детей, невесть откуда и зачем опять прибившийся к ее жизни, всегда был ее мукой, и что никогда она его не забывала, хотя и пыталась уверить в этом и себя, и других, и что единственное ее спасение и победа – броситься на этот зов из тумана, опять нараставший и нараставший в ней, в эту последнюю, заполнившую ее и уже начинавшую переливаться через края тьму. Она не могла больше уступить даже себе, даже ради детей и хоть всего света. Дети теперь не пропадут, пусть и он живет себе, а над своей душой она больше измываться не даст, нельзя ей этого. Уж ей этого больше нельзя! Этим она и себя, свою бабью уступчивую натуру, окоротит, сразу для нее все кончится, и победит она и его, и себя в самом главном…
И опять наметила Ефросинья срок, стараясь думать только об одном, и опять то, что было сильнее ее воли, остановило ее; ее даже всю передернуло от муки. Она увидела рядом с собой дурочку Феклушу и теперь поняла, почему это ей пригрезились Аленкины глаза из тумана.
– Душа, ох, зашлась… Феклуша, ну чего тебе? – спросила она обессиленно и от досады заплакала, – Ну что вы меня мучите? Уходи, Феклуша, уходи…
– А я иду за тобой, Фрось, все иду, иду, – ласково говорила Феклуша, приближая свои всегда ясные глаза из тумана. – За ноги травка хватает, хватает… холодная. Звездочки кругом…
– Не страшно-то бродить тебе где попало? Да ты хоть спишь когда? – спросила Ефросинья, и Феклуша бессмысленно закивала, заулыбалась, погладила Ефросинью по плечу. Ефросинья от прикосновения ее доверчивой руки подобралась; какая-то целительная сила была в этой слабой, теплой руке.
– Куриная слепота цветет, Фрось, ой, много, все болота в солнышке…
И Ефросинья второй раз в эти невыносимые для нее сутки заплакала.
* * *
– Хочу я поговорить с тобой, Захар Тарасыч, – сказала Ефросинья наутро, выбрав момент, когда Вася вышел на улицу и они остались одни. – Отдохнул, отошел с дороги… Не малые мы дети… Мне с тобой рядом не масленица, если б не Егорка, и думать бы не стала.
– Значит, уходить? – спросил тихо Захар, стараясь понять, что же появилось в Ефросинье нового за те долгие годы, пока они не видали друг друга.
– Твое дело, Захар Тарасович, уехать, остаться, – сказала Ефросинья. – Я тебя не гоню, сам выбирай. Только уж своими, как прежде, нам не стать. Хочешь – живи, а что люди будут говорить, это уж их дело, я привычная. – Какая-то тихая, странная улыбка тронула губы Ефросиньи, и она, взглянув на склоненную, густо поседевшую голову Захара, отвела глаза.








