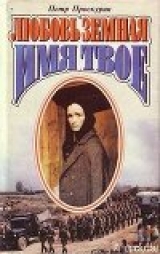
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 64 страниц)
– Зверь балует, что ли, – подумал вслух Захар. – Тут лоси есть, кабаны, медведь попадается… Правда, редко, напуган он теперь везде нашим братом. – Несколько минут они еще чутко прислушивались к тайге. – Знаешь, Илья давай как-нибудь выберем часок посвободней, я тебе все расскажу про Густищи, парень ты уже взрослый, пятнадцать лет на свете топаешь.
Достав из костра малиново раскаленную с одного конца ветку, Захар прикурил; становилось прохладнее, комарье вроде бы начинало подзатихать, хотя они уже привыкли к нему, почти не замечали укусов.
– Мне вот скоро сорок шесть стукнет, сынок… да, на тридцать с лишком против тебя… Теперь под уклон пошло вроде… Погоди, не перебивай… Здорово меня било и крутило, как в бешеном омуте, ох, здорово! А вот порой задумаюсь, может, спрашиваю, можно по-другому было прожить? Поспокойнее, половчее – там пень обошел, там лужу поколесистей объехал… А? Может, оно и так… Напрямик по жизни ни один зверь не ходит… До войны мне вроде не повезло: твою мать вот полюбил. Крепко полюбил, из-за этого все в разные стороны брызнуло… Ты вот на свет явился, перед тобой полной мерой отвечать теперь приходится. А может, не надо было всего этого? Ведь знаешь, какая у меня семья была, детей сколько… Ты, другой, кто хочешь осудить меня может, а вот сам я себя должен осудить или как? А вот сам себя осудить не могу и теперь… Что мы с твоей матерью друг-то без друга? Все бы лучшее в жизни в темном погребе просидели… так уж оно устроено на свете. Значит, все правильно было. Потом в войну мне не повезло: плен да плен, бегу, опять плен, шесть раз бегал. До сих пор сомнение берет, хоть ты знаешь, что в бога я не верил и не верю… Как в живых-то привелось остаться? Чудно… С твоим дедом, с Акимом Макаровичем, в одном лагере, под Дюссельдорфом… город такой в Германии есть… с твоим дедом да еще с одним мужиком из Густищ, с Харитоном Антиповым, судьба свела. Если б не дед твой, Илья, там бы и конец мне вышел… Меня спас, а сам так и пропал Аким Макарович-то, ни слуху ни духу… Я еще никому об этом не говорил, а тебе говорю, как мужик мужику…
Захар замолчал, глядя на огонь; Илюша не решался ни о чем спросить его, потому что молчаливый, часто сумрачный отец и без того раскрылся перед ним; это было настолько необычно, что Илюша от какого-то чувства благодарности и радости едва мог спокойно сидеть и слушать.
– Я тебе, Илья, потом про это расскажу, а сейчас к другому я вспомнил. Все-таки человек по жизни должен прямо ходить… тяжкая, видать, это доля, но если уж в человеке такой стержень сидит, он человеком и к концу своему придет, умирать будет не страшно. – Бросив взгляд на молодое, строгое сейчас лицо сына с круто сдвинутыми бровями, Захар спохватился: – Спать, спать, а то мы так всю ночь прозеваем… Давай, Илья, давай в полог…
– Сейчас, батя, только отойду на минутку…
– Потом подкинь дровишек немного, я спать. – Бросив в костер окурок и прихватив топор, Захар, смахивая сдернутым с головы накомарником налипшее на спину комарье, проскользнул в полог.
Он уже начинал дремать и видел какой-то смутный сон (что-то вроде колышущегося под солнечным ветром спелого ржаного поля, оно ему особенно часто снилось во время приступов тоски по Густищам), когда его подхватил с места далекий, задавленный крик сына; мгновенно нащупав лежавший рядом топор, Захар вынырнул из-под полога и, вскочив на ноги, ошалело оглянулся. Почему-то разбросанные во все стороны сучья из костра дымились; кто-то огромный, лохматый, дико, по-лешачьему загоготав, вывернулся со стороны кедров, пронесся мимо, едва не сбив с ног; Захар махнул топором, не достал, тайга взвыла, застонала со всех сторон, гулко ахнула все тем же лешачьим гоготом и воем, и затем все оборвалось и лишь гулко стучало собственное сердце да в ушах стыла медленная, почти убивающая тишина.
– Батя! Батя! Помоги, батя! – опять донесся до него слабый голос сына откуда-то снизу, из плотного, тяжелого тумана над протокой.
Не выпуская топора, Захар ошалело скатился с обрыва вниз, не разбирая дороги.
– Илья! – крикнул он. – Где ты, что тут за черт творится?
– Здесь, сейчас, – опять послышался задыхающийся голос Илюши. – Подожди, батя… на одном месте. Я к тебе подплыву…
Стараясь не скрипеть галькой, Захар, оглядываясь и настороженно прислушиваясь, замер; ему показалось, что за ним кто-то следит из темноты, но ничего, кроме всплесков воды под шлепками сына, не слышал.
– Илья! – опять тихо позвал он, не зная, что и подумать.
– Сейчас, сейчас, – откликнулся Илюша совсем близко, и его мокрая, всклокоченная голова показалась из тумана совсем рядом с Захаром, было слышно, как с него стекает вода.
– Фу, черт, – стуча зубами, пробормотал он, отплевываясь, – холодно как…
– Да ты что, Илья! – Захар вплотную приблизил свое лицо к лицу сына, стараясь различить его глаза. – Что это с тобою?
– Не знаю… Или сам оступился, или кто-то скинул с обрыва… как в спину кто ударил, мягкий, здоровый… В самую воду слетел, а там от страха не в ту сторону поплыл… Ух ты, жуть… Вот оказия! – перескакивал с пятого на десятое Илюша. – Кто-то вроде как загогочет над самым ухом, в спину как саданет!
– Ладно, утром разберемся, – заторопился Захар. – Марш к костру, теперь все одно прогреться надо, простуду, гляди, схватишь.
Они быстро поднялись вверх от воды, Захар со спокойной решимостью собрал костер, неотступно думая, что если кто задумал злое дело, помешать ему с одним топором в руках все равно не удастся. Достав из полога тонкое, привезенное Маней солдатское одеяло, он приказал сыну раздеться донага, все с той же чуткой настороженностью ожидая, что вот-вот хватит выстрел и все будет кончено. За себя он не боялся; суровая и в то же время размягчающая нежность к сыну охватила его. Дрожа от холода, стаскивая с себя штаны и рубаху, Илюша стыдливо пятился в темноту.
– Давай, давай к костру! – грубовато прикрикнул Захар. – Ты что загораживаешься? Сам мужик, чем ты меня удивить-то можешь?
Оп накинул на Илюшу одеяло, через грубую, плотную ткань хорошенько растер ему спину и грудь, затем разложил и развесил вокруг костра сушиться одежду и обувь; непроницаемо темная тайга кругом упорно молчала.
Вся остальная ночь прошла спокойно; Захар, ни на минуту больше не сомкнувший глаз, облегченно вздохнул, заметив, как начал светлеть полог; когда же окончательно рассвело, он, не тревожа крепко разоспавшегося сына, внимательно осмотрел во многих местах помятую, истоптанную траву вокруг, но звери это были или люди – не понял. И только метров за двести от ночевки, увидев надломленные именно рукой человека молодые березки, он, угрюмо нахмурившись, собираясь с мыслями, довольно долго стоял на одном месте, в нем зрела какая-то каменная, саднящая сердце решимость.
Домой они вернулись поздно к вечеру; чуть не пол-лодки у них было завалено золотистыми карасями, и далеко за полночь вся семья с помощью Брылика и его жены приводила рыбу в порядок: потрошили, отбирали для солки и вяления. Захар запретил сыну говорить о случившемся с ними ночью на ночлеге даже матери, и все были веселы и дружно работали; лишь Захар, попыхивая зажатой в зубах цигаркой, порой вроде бы ни с того ни с сего затихал, уходил в себя.
Он встретил Загребу с неизменной псиной у левой ноги дня через три, возвращаясь с укладки штабелей; Загреба еще издали приветливо поздоровался, вынужден был остановиться и Захар.
– Молва идет, Дерюгин, ты карасей приволок уйму? – поинтересовался Загреба с холодными, глубоко запрятанными огоньками в глазах.
– Ничего, пудов десять взял, – сдержанно отозвался Захар. – Выберу денек, еще надо смотаться… нахлебников-то хватает.
– Наверно, далеко забираешься? – спросил Загреба. – Смотри, осторожнее на ночлеге, в этих местах все может быть.
– А-а! – Захар махнул рукой. – Если и быть чему, что ж, умирать теперь с голоду у бабы под юбкой?
– А что такое? – живо заинтересовался Загреба, и Захар тотчас понял, что его догадка попала в самую точку: без этого вот тихо улыбающегося человека в памятную ночь в тайге не обошлось; Захар глянул прямо в глаза Загребе. Короткое молчаливое единоборство, пожалуй, закончилось вничью, у Захара даже мелькнула мысль, что Загреба, возможно, и не имеет никакого отношения к глухому ночному делу; проверяя свое первое впечатление, он коротко рассказал о случившемся.
– В этих краях и не такое может быть, – повторил Загреба как-то даже слишком спокойно. – Хорошо, благополучно обошлось… Я бы один здесь в тайгу не решился… Отчаянный ты мужик, Дерюгин…
– Помню я наш разговор, – кивнул Захар. – Как же… Тоже приходится о собственной шкуре подумать.
– Слушай, Дерюгин, – доверительно потянулся к нему Загреба, слегка похлопывая чем-то внезапно встревоженную собаку по загривку, – скажи еще раз этому своему Брылику, пусть он прикусит язычок. Нехорошо все-таки, такое несет – уши вянут…
– Хорошо, скажу. – Захар подавил в себе неожиданное желание с остервенением плюнуть и выругаться; у него опять мелькнула мысль, что накатит минута – и они с этим вот человеком сойдутся на такой тесной стежке, что ни тому, ни другому свернуть будет некуда.
– Ну, бывай, Дерюгин, – после довольно ощутимой паузы отозвался Загреба, и Захар увидел на его лбу напрягшуюся вену, она словно перечеркнула висок.
Остаток пути до дома Захар шел медленно, взвешивая каждое сказанное слово; тесна оказалась земля для них двоих, точь-в-точь как когда-то у него с Анисимовым, неожиданно вспомнил он. Тогда он не уступил, а что толку – вся его жизнь разлетелась вдребезги, недаром так и чешутся руки немедленно собраться и укатить из этой глухомани, где пьяница комендант и разговаривать о шайке Загребы не хочет или попросту боится (Захар уже не раз пробовал это делать), укатить немедленно, сейчас же! Увезти отсюда Маню с детьми; чувство смертельной, удавкой захлестывающей опасности перехватило горло. Что ему, больше всех надо? И только сверкнула беспощадная мысль, что если закона нет, то его нет ни для кого…
16Комендантская – тяжелый, приземистый бревенчатый дом – стояла в самом центре поселка, на песчаном холме, возле крыльца высился уцелевший старый кедр. Комендантская была разделена на две половины: на официальную, казенную, и жилую, для коменданта и его семьи. Дом Загребы стоял напротив. Стася Брылика кто-то напоил, и чья-то умелая рука направила его прямо к комендантской; шел он по самой середине поселковой улицы, в пьяном бесстрашии держась очень прямо; в пьяном угаре мерещилась ему жалкая фигура опозоренного мучителя Загребы, с которым он сполна рассчитается и за дочку, и за все остальное. Для Брылика наступил момент безграничной свободы, душа вознеслась под самые облака, все земное было ей нипочем, все земное не существовало, потому что шел он обличить и уничтожить зло в лице ненавистного Загребы, и, к сожалению, Захар узнал об этом лишь на другой день, на работе.
Потом говорили, что Брылик два раза останавливался: у столовой, где собралось несколько человек, и у магазина, где тоже толпились люди. У магазина Брылик задержался, у кого-то закурил, даже посмеялся чьим-то словам, но затем его вновь неудержимо повлекло в сторону комендантской.
Он остановился метрах в десяти перед молчаливыми окнами Загребы, стащил с себя пиджачишко, бросил его на землю и засучил рукава.
– Эй, Загреба, бешеная собака, выходи, драться с тобой буду, – сказал он вначале негромко, но тут же, осмелев от собственного страха, заорал во все горло: – Выходи, сволочь, драться, чтоб тебя все видели! Выходи, гад!
Побесновавшись минут пятнадцать в полном одиночестве, Брылик плюнул в сторону так и не ответивших ему окон Загребы и, подобрав пиджак, гордо оглядываясь, побрел прочь. Комендант Раков, запоздало показавшись на улице, молчаливо погрозил ему вслед пальцем и, прихрамывая, опять скрылся. Страх охватил Брылика уже дома, плачущая жена ругала его последними словами, повторяя, что «черт душу выне, а нам шкуру завсегда сниме, а туточки бандиты, що хотят, то и роблять…» и что теперь и с дочкой ничего не поправишь, и остальным в могилу хоть заживо сигай, да сам себя и землей загребай. Брылик довольно активно отбрехивался, затем повалился на топчан и захрапел как ни в чем не бывало. Он узнал о случившемся, проспавшись, наутро, да и то со слов жены, вяло похлебал какое-то жидкое варево из рыбы и первой крапивы, обреченно слушая ее причитания; на работе его, отозвав в сторону, подробно обо всем выспросив, отругал и Захар. Брылик тотчас погрузился в свое привычное состояние гнетущего страха, сгорбившись, затравленно побрел к эстакаде вдоль узкоколейки, к высоко громоздившимся в двадцать – тридцать рядов штабелям леса. Бригада Захара из восьми человек споро, казалось, без особых натужных усилий разгружала подвозившие лес машины и тракторы, укладывала тяжеленные, шестиметровой длины, бревна в очередной штабель где-то уже в пятнадцатый ряд.
Захар бегло и привычно окинул взглядом свое хозяйство: подмостки, канаты, которыми затягивали бревна наверх, заютовленные ронжины; подошел лесовоз, чадящий и всхлипывающий старый «газген», и шофер, едва поставив машину под разгрузку, полез наверх, откинул крышку бака и стал шуровать в нем железной палкой.
– Черт тебя поднес! – крикнул ему Захар, сторонясь от едкого белесого дыма, густо повалившего из бака. – Дал бы сначала разгрузить…
– Не могу, – шофер весело оскалил ослепительно белые зубы на чумазом лице. – Потухнет, потом ее два часа раскочегаривать будешь! Потерпите, ребята, я мигом!
Грузчики отошли в подветренную сторону, стали закуривать. Захар тоже достал кисет, и вокруг него тотчас образовался кружок из нескольких человек, к Захарову кисету со всех сторон потянулись.
– По очереди, братва! – огрызнулся он. – Вы что ж думаете, у меня табачная плантация?
– Тебе еще пришлют, Захар, не скупись, за народом не залежится, – прогудел один из грузчиков, здоровый, с широченной грудью, по прозвищу Лапша, хотя видом своим и фамилией Тяжедубов прозвище свое никак не оправдывал. – У тебя вон сыны какие отзывчивые. А я у своей лахудры попросил махорки прислать, так ты знаешь, что она?
– Что она? – тотчас поинтересовался настырный, любивший позубоскалить, ко всеобщему удовольствию, с быстрыми черными глазами Сенька Плющев; с Лапшой его связывала прочная дружба.
– Что! Пишет, стерва, чтоб имя ее забыл, надо было лапы перед немцем не задирать. Я тебе, пишет, гроб сколочу и пришлю, никаких денег не пожалею на такую посылку.
– Денег-то сколько выслал? – с философским спокойствием спросил Плющев, уже успевший прикурить, а теперь с наслаждением, со знанием дела глубоко втягивающий в себя злющий, раздирающий грудь дым дерюгинского самосада.
– Денег? Каких денег? – Лапша изобразил на своем простоватом лице понятное изумление.
– Гроб-то тебе в копеечку влетит, полвагона арендовать надо, супруга одна не осилит…
Лапша под шутки и смех товарищей двинулся было к Плющеву, но тот предварительно зашел за спину Захара.
– Ладно, Лапша, брось, смеха не понимаешь? – примирительно подал он голос оттуда, сразу обезоруживая готового вскипеть товарища. – Скажи лучше, что ты ей все-таки ответил?
– А что я? – Лапша, отходя, наконец справился с цигаркой. – Был бы рядом, я бы ей разок промеж глаз звезданул, и дело с концом. А так что сделаешь, издали-то? Я ей написал, я ей… вот что написал, в конверт погуще харкнул, да с тем и заклеил.
– Высохнет по дороге. Да и как тут правду-то узнать? Может, ее прищемили, вот она, как тот философ, скажет, да еще и прибрешет, – подвел итог Плющев.
Кругом невесело рассмеялись, а Лапша отвернулся от ветра и стал закуривать.
– Эй, работнички! – позвал их шофер, закончивший наконец свое дело. – Разгружайте, не до вечера мне здесь торчать!
– Смотри, как заговорил, видать, из затейливых, – неодобрительно глянул на него Захар. – Ладно, не шуми, давай иди покури покуда…
Было часов десять утра, от нагретого солнцем леса пахло гниющей корой. День обещал быть погожим, ветер резко, порывами, посвистывал в штабелях, от шпал несло мазутом. Захар снял фуражку, стащил рубаху, бережно сложил в сторонке, подальше, у соседнего, уже законченного штабеля; за ним потянулась бригада, и через минуту уже дружно работали. Бревна легко, словно сами собой, вкатывались на штабель, только голые спины грузчиков больше и больше блестели от пота да лаги, по которым катали бревна вверх, если попадался особо тяжелый кряж, потрескивали и гнулись. Не успели разгрузить один лесовоз, тотчас подползло еще два, затем еще, и сразу образовалась очередь; вяло отругиваясь от наседавших шоферов, Захар, перехватывая веревку, натягивал ее, привычно командовал:
– Раз-два! Раз-два!
В моменты, когда бревно останавливалось, он слышал за собой тяжелое дыхание Брылика и, смахивая пот, заливавший глаза, всякий раз почему-то жалел его, но привычный, нараставший ритм работы властно затягивал. Лесовозы подходили непрерывно, и катать бревна становилось высоковато. Лапша, отдуваясь, уже не раз предлагал расчать новый штабель, и Захар наконец согласился.
– Еще рядок, и баста, – решил он.
– Что ты, бригадир, без того выше Ивана Великого, – недовольно зароптал Лапша, – Перекурить пора, в груди трепещет.
Лапшу дружно поддержали остальные, и Захар, сдавшись, крикнул:
– Эй, мужики, курить! Давай снимай лаги, после перекура новый зачнем.
Лаги были тотчас убраны, и Захар уже хотел слезать со штабеля.
– С другого бока слезай, Захар, там легче, – посоветовал ему снизу Лапша, но как раз в это время из кузова подъехавшей машины спрыгнули трое: Загреба с собакой, Роман Грибкин и какой-то насупленный, неизвестный Захару парень; невольно оглянувшись на Брылика, тоже собиравшегося спускаться со штабеля, Захар, устраиваясь удобнее, слегка расставил ноги, оглядел своих грузчиков, потом опять Загребу и его людей. У Брылика посерело лицо, глаза беспомощно забегали по сторонам, отыскивая хоть какое-нибудь укрытие, и Захар, вместо того чтобы спуститься со штабеля, пристроился у края, свесив ноги; садясь, он почувствовал под собой какое-то неуловимое для постороннего глаза движение в бревнах, перегнулся: в третьем от верха ряду ронжина переломилась, и бревна, если их не закрепить, в любой момент могли покатиться вниз. «А, черт, – ругнулся он про себя, – везде гляди да гляди!»
Он уже хотел крикнуть Лапше, чтобы тот взял топор и в нужных местах закрепил штабель клиньями, но не успел. Загреба в сопровождении пса не спеша подходил к штабелю, Захар видел на лице у него легкую, словно бы мечтательную улыбку. Стало тихо, грузчики, до этого оживленно переговаривавшиеся, молча глядели на Загребу, всеобщее напряжение усиливалось, и у Захара жестко сузились глаза; не отводя взгляда от приближающегося Загребы, он достал кисет и стал медленно сворачивать цигарку. Загреба поздоровался с грузчиками, те промолчали; не задерживаясь, Загреба подошел к штабелю ближе, но так, чтобы видеть всех наверху, задрал голову и позвал:
– Эй, Стась, давай вниз, тебя комендант срочно требует! Ты что, Стась, не слышишь?
Глядя на Загребу с выражением животного ужаса на лице, Брылик попятился, споткнулся, упал, глаза у него бессмысленно округлились.
– Не, не… не! Не пийду! – послышался его хриплый шепот; словно парализованный, он не в силах был даже сдвинуться с места, оторваться от края штабеля и продолжал затравленно пялиться на Загребу. – Не пийду! – неожиданно высоким, жалким фальцетом взвизгнул он.
– Сходи, Стась, сам знаешь, я человек подневольный, послали – и пришел. Слушай, Дерюгин, помоги ему стронуться с места, он, кажется, пристыл к бревнам! – Загреба обращался теперь непосредственно к Захару, и тот, не спеша пыхнув дымком, пожал плечами.
– Силен зверь, силен. Приказано тебе – залезай сам, отдирай его от бревен… Не полезешь ведь, Загреба, а? – жестко засмеялся Захар. – Лучше мотай отсюда, пока не поздно, – посоветовал он, и Загреба, словно наткнувшись на невидимое препятствие, остановился, покачиваясь на носках.
– Я выполняю приказ коменданта. Стась! Слышишь…
– Не… не пийду! – неожиданно еще раз жалко крикнул Брылик, все так же не отрывая от Загребы остановившегося, умоляющего взгляда, видно было, что он намертво прирос к бревнам и своей волей со штабеля не сойдет, стащить его можно было только силой. Дело нежелательно затягивалось; Загреба знал, что вокруг, кроме собаки да еще двоих жавшихся за его спиной хоть и проверенных, но мало в чем могущих помочь людей, посланных некстати вместе с ним разбушевавшимся комендантом за Брыликом, нет ни единой души, которая бы ему сочувствовала, и, как часто бывает с осторожными, но отвыкшими встречать явное сопротивление натурами, это не только не остудило его, наоборот. Он бы сейчас не мог объяснить своего желания во что бы то ни стало настоять на своем, хотя разумнее было бы осуществить задуманное тихо и незаметно, без всяких усилий и в другое время. Он сейчас презирал весь этот человеческий сброд, с которым вынужден был иметь дело, потом, он отлично понимал, что отступить нельзя: вся бы его негласная власть в поселке сразу рухнула, и тогда все пропало. Он сейчас запоздало пожалел, что не захотел вовремя приостановить всю эту петрушку, понадеялся на себя, а надо было отказаться и не ехать в бригаду к этому черту Захару Дерюгину. Сидит, скалит зубы, понял, что момент подходящий, сразу видно, задумал, проклятый кацап, раздеть, выставить перед всем поселком на смех. Черт с ним, с приказом этого пьяного осла Ракова, такая ж свинья, а вот показать, что он никого здесь не боялся и не боится, необходимо.
Косвенным зрением Загреба видел сейчас все происходящее вокруг: сдержанно-иронические физиономии грузчиков и шоферов, жадно ловивших каждое его движение, ползшую по отвалившемуся куску пихтовой коры гусеницу, – но центром, средоточием его напряжения были не грузчики, не шоферы и даже не Брылик, а высоко сидевший на краю штабеля, обнаженный до пояса, отчего-то изредка почесывающий плечо Захар Дерюгин. Спазма безрассудного гнева перехватила ему горло, мутная, жаркая пелена на мгновение все застлала, желание повернуться и пойти назад мелькнуло было и пропало, именно к Захару он испытывал с некоторых пор и крайнюю враждебность, и какую-то внутреннюю необъяснимую тягу, и вот тот сейчас, на виду у всех, явно подсмеивался над ним; Загреба тоже усмехнулся, хотя ему холодной судорогой свело челюсти; он удержался, и это помогло ему на минуту вновь обрести спокойствие, В сердце вошла какая-то сладостная дрожь при мысли, что, он сам себе отрезал путь к отступлению и что он покажет сейчас всему этому отребью, что такое настоящий смелый человек; в крайнем случае на штабель ему подняться надо обязательно. Улыбнувшись бледным лицом, он негромко приказал собаке ждать его.
– Ладно, Стась, я не гордый, – почти весело и примирительно сказал он, поправляя кепку. – Чего ты боишься? Я сам к тебе поднимусь, поговорим, как земляк с земляком, а там как хочешь, мое дело маленькое. Потолкуем без лишних ушей, с глазу на глаз, а там дело твое…
Брылик, впавший в какое-то совершеннейшее беспамятство, только замычал и отрицательно затряс головой, и Загреба опять улыбнулся, поправил пиджак…
При его словах Захар слегка поднял голову; Загреба стоял как раз перед штабелем, со стороны разгрузочной площадки; Захар знал, что если Загреба полезет на штабель, то именно с этой стороны, и если он возьмется за крайнее бревно в третьем от верха ряду…
Захару показалось, что наступила оглушительная тишина, потому что Загреба молодцеватым, пружинящим, молодым шагом двинулся к штабелю (таким шагом ходят под внимательными взглядами со стороны) именно так, как и думал Захар, а затем ловко, с натренированностью гимнаста, полез вверх. Теперь Захар не видел Загребы, зато он видел жалкое, застывшее в гримасе животного страха лицо Брылика; пожалуй, именно это лицо, в котором уже не оставалось ничего человеческого, решило все остальное, и Захар, готовый вскочить и крикнуть, окаменел на месте, словно чаши каких-то мучительно чутких весов в нем дрогнули, заметались в беспорядке и вдруг, безошибочно определяя все остальное, замерли; ему стало легко и свободно; жадно, в одно мгновение окинув с высоты штабеля далекие, синеющие в легком мареве зубчатые горизонты тайги, он с молодым, забытым ознобом, свежо пробежавшим по телу, безошибочно определяя место, устраиваясь удобнее, отодвинулся по краю штабеля и поставил правую ногу на бревно, у самого перелома ронжины. Крепко зажав зубами погасший окурок, он ждал, когда над штабелем покажется фуражка Загребы. «Что это? Что? – спрашивал он себя в каком-то окончательном смятении, потому что был еще один ослепительный момент, когда нужно было перешагивать в себе какую-то бездну. По одну сторону был он сам со всеми теми, кто был ему бесконечно дорог, по другую…
В глаза Захару из-за края штабеля выплыл верх кепчонки Загребы, под ним спокойные, даже чему-то улыбающиеся глаза, тотчас метнувшиеся к Захару, и даже заговорщицки близко, как своему, подмигнувшие ему: вот, мол, и я, а ты говорил, что побоюсь. Захар почувствовал ногой, упершейся в выбранное бревно, легкое первоначальное движение штабеля и в тот же миг по дрогнувшим глазам Загребы увидел, что тот тоже почувствовал это смертельное движение. Отчаянным рывком Загреба метнулся вверх, к Захару, к его каменно затвердевшему лицу, разросшемуся и заслонившему от Загребы в этот момент все небо, весь мир; затем из-за штабеля показались его плечи, руки, судорожно цепляющиеся за бревно. Захар не знал точно, помог ли он усилием ноги или нет, но он безошибочно знал, что уже ничем не остановить того, что должно было свершиться, ему лишь короткой судорогой свело челюсти. Потом была секунда, словно специально отведенная для того, чтобы глаза Загребы и Захара еще раз встретились и чтобы Загреба понял то, что случилось. И Захар не отвел своих глаз, в них лишь появилось нетерпение…
Крик Загребы, на который снизу мгновенно бросился громадный, стремительный пес, оборвался в самом начале; край штабеля еще раз с треском лениво шевельнулся и с глухим, долгим грохотом рухнул вниз; в одно мгновение Загреба вместе с бросившейся на его непривычно высокий голос собакой исчез под бревнами, и все было кончено. Когда движение бревен остановилось, оторопевшие грузчики и шоферы в первые минуты не могли прийти в себя, затем кинулись к обвалившейся со штабеля груде бревен, поспешно откатили одно, второе, третье; к ним присоединился соскочивший сверху Захар. Увидев то, что осталось от Загребы, Лапша стащил с затылка кепчонку, протер ею потное, широкое лицо.
– Ловко пан учитель сам себя охомутал! Ну, братцы… вот так и не верь в бога…
– Не болтай – строго оборвал его Захар. – Разговорчики! На беззаконие законов не бывает… Давай-ка вытаскивай его… вместе с собакой… тихо, тихо! – повысил он голос. – Эй, парень, подгоняй свой драндулет… повезем в поселок…
Вспомнив о людях Загребы, Захар оглянулся, но их нигде не было, и тогда он обвел взглядом столпившихся вокруг него грузчиков.
– Слушайте, ребята, – сказал он, понижая голос, – все у вас на глазах получилось. Так чтобы никакой путаницы, что видели, так и говорить… А ты что торчишь, как черногуз? – внезапно заорал он на Брылика, по-прежнему стоявшего на штабеле все с теми же остекленевшими, бессмысленными глазами. – Слезай!
Брылик поднял перекошенное ужасом и страданием лицо.
– Слезай, мать твою… слезай, дурак! – рявкнул Захар, теряя терпение и невольно давая выход долго сдерживаемому напряжению; лицо у Брылика передернуло еще большей судорогой.
Жаркий ветерок донес из ближайшей низины еле уловимые запахи застоявшейся прохладной воды.
– Штабель опять ладить надо… Эх, жизнь-матушка, колокольный звон! – внезапно озлился Сенька Плющев. – Пыхтели-пыхтели – опять сначала… Вот возьму вечером и напьюсь, а, Лапша?
И тогда все услышали судорожные всхлипы: скорчившись, припав к бревнам всем своим узким телом, на штабеле плакал Брылик.
* * *
Несколько дней в поселке было тише обычного; завернувший в поселок следователь, хмурый, в очках, потолковал наедине с комендантом Раковым, несколько растерявшимся и на время даже прекратившим пить. Опросив грузчиков, шоферов и всех остальных присутствовавших на месте смерти Загребы, показывающих дружно одно, следователь констатировал несчастный случай и к вечеру укатил на попутном катере.
Ненависть к раздавленному штабелем Загребе была так единодушна, что_даже_те, которые ходили у него в добровольных холуях и кому он устраивал через коменданта Ракова всяческие послабления и поблажки, как-то инстинктивно прониклись этим всеобщим чувством и тоже молчаливо радовались случившемуся. Все говорили о том, что Загреба был не жилец на белом свете и еще удивительно, как это ему удалось так долго продержаться в поселке.
– Колом ему земля, – откровенно отозвался о Загребе и один из самых ревностных его холуев, невероятный псих Роман Грибкин. – Он, сволочь, мне в душу поплевывать любил, он за свои сребреники (Грибкин был грамотный и книги читал) всего тебя с г… требовал, без остатка, чтоб у тебя ни одного затаенного места не осталось.
Над словами Грибкина посмеивались, но одобряли их.
Как-то в один из вечеров, уже уложив детей и сама прибираясь ко сну, Маня пересказала Захару, какая радость у Брыликов и только старшая девка все плачет; Захар покосился на Маню, промолчал, он уже привык, что жизнь, не спрашивая, может преподнести всякий перекос.
– Захар, слышишь… – понизила Маня голос, оглядываясь. – Ох, язык не поворачивается… говорят, что вроде ты штабель… того… невзначай вроде шевельнул, Захар… Я как услышала…
– Больше слушай всякую брехню… Говорят! Говорят! Дураки говорят!
– Захар, я…
– Ты! Ты! Штабель сам у всех на глазах пополз, бывает… не кружева вяжем, с лесом дело имеем. Народ видел, что тут поделаешь, закрепить штабель не успели, а он пополз.
– Молчи уж… Вскинулся-то… народ… какой народ? – удивилась Маня, чувствуя непривычную злость мужа и инстинктом понимая необходимость как-то разрядить обстановку. – Какой уж тут народ, в этих местах…
– Народ – он везде народ, – с прежней резкостью оборвал ее Захар. – Люди всякие, а народ везде один. А ты, совет тебе хороший, не лезь туда, куда не просят.
– Ох, Захар, ох, Захар, – Маня умоляюще прижала руки к груди, – болит тут… Гляди, лучше может и не быть, а хуже… ох, гляди… А как у него, у бандюги этого, кто остался?
– Ладно, ладно, спать пора, – кивнул он, притягивая ее к себе. – Не знаю, кому как, а я будто кирпич из души выкинул… Родится же такая погань на свет… Есть о чем печалиться… Теперь и комендант, может, поумнеет.








