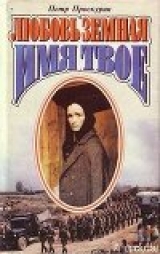
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 64 страниц)
Вернулся он домой лишь на пятые сутки, под вечер, заросший до самых глаз, с выжженным, почерневшим от мороза лицом. Он ввалился в дом и тотчас увидел Илюшу, потерянно метнувшегося ему навстречу.
– Ох, батя, – услышал он знакомый голос сына, – тебя уж всем поселком искать ходили…
– Здорово, Илья, – сказал Захар с легкой хрипотцой, пожимая сыну руку и в то же время не отрывая глаз от Мани, вставшей ему навстречу.
Захар опустил глаза, увидев жавшегося у ног матери Васю; и тотчас Маня сделала бессознательное, почти неуловимое движение прикрыть сына. И что-то окончательно перевернулось в его душе; он хрипло откашлялся, с трудом отрываясь от устремленных ему навстречу, тревожно ждущих глаз Мани, глянул неловко в сторону, шагнул от порога и, опускаясь на стул, спросил:
– Ну как тут у вас?
Маня, сильно бледнея, наконец отстранила от себя Васю.
– Ужинать собрались, – сказала она. – Раздевайся, Захар… Илюшка, возьми у отца полушубок…
– Давай, батя, – с торопливой готовностью подскочил к отцу Илюша.
– Не надо, Илья, сам, сам, – отстранил сына Захар, но еще некоторое время сидел на месте и ждал, когда наконец отпустит, но видел он и замечал все, вплоть до робко не отстававшего от матери ни на секунду Васи, до белого, неподвижного лица Мани, движущейся так осторожно, словно она боялась кого-то или что-то спугнуть.
А затем, после медленного, какого-то сдержанно-радостного ужина, когда дети уже спали, была стылая, синяя ночь, словно подмороженная с краев, она сильнее светилась у окружности горизонтов; звезды вызрели в полную меру и ярко лучились. Тайга и сопки вокруг стояли в цепенящем безмолвии; именно такая ночь и угадывалась в толсто затянутом морозном окне.
– Надо печь затопить, пожалуй, – сказал Захар, делая движение встать. – До утра все выстынет, ребята замерзнут. Ну, мороз, вот мороз, редкий на диво.
– Постой, Захар, – остановила его Маня, вздрагивая в ознобе, но продолжая лежать в одной рубашке поверх одеяла. – Ребенка мне надо от тебя, Захар. Еще одного, тогда все забудется. Слышишь, Захар, тогда мне прощение будет. Слышишь, Захар, ребенок мне нужен от тебя.
– А тебя никто и не винит, Маня, – тотчас с горячностью остановил он ее; в его голосе она уловила обиду и горечь.
– Мне от самой себя прощение надо, Захар. – Маня приподнялась на локте, и Захар увидел ее глаза – широко открытые, синие, как в молодости. – Что, Захарушка, остарела, надоела? – говорила она бессвязным, быстрым шепотом. – Ты так и скажи: надоела, мол, стара стала. А ты пересиль себя, не убудет, я для тебя все отдавала, не оглядывалась. Мне это для жизни надо – ребенка от тебя, что ж, ты и в этом мне откажешь? Не откажешь, нету у тебя такого права, Захар! А там иди хоть на все четыре стороны, да я и сама сразу же соберусь в охапку, домой, в Густищи, уеду. Надоела мне эта стынь, вся душа вымерзла. Уеду, Захар, сразу же и уеду, только ты хоть в этом себя не пожалей, слышишь, это мой, отдай! – Она придвинулась к нему ближе, и он почувствовал, что от нее несет сухим жаром. – А ты помнишь, Захар, как в Густищах верба-то, верба по весне светит? Как тихий огонь на ней… Ах, Захар, куда же наша с тобой жизнь пролилась? Земля жадная, как в сушь, все до капельки впитала. Молчи, ты – мужик, ты ничего не понимаешь, у вас, у мужиков, вместо сердца кирпич в груди, не понять тебе бабьего…
От ее бессвязного шепота шел какой-то пьяный дурман и обволакивала слабость; и вот уж какие-то другие чувства и мысли кружили в душе; в самом ведь деле, разве уж все прошло, и вот-вот отзвенит пять десятков, и уже не случится ни медвяной, пахнувшей свежим сеном и грехом ночи, ни безрассудства, когда, ни о чем не думая, совершаешь то, о чем потом долго и упорно, часто всю остальную жизнь, жалеешь?
Пожалуй, впервые в жизни он понял и почувствовал, что Маня сильнее его, что она не уступит, и, кажется, теперь он знал, за что полюбил и любит ее больше всего на свете; да и о какой молодости она толкует, если жизнью вообще нельзя напиться досыта? Он взял Маню за плечи, заставил лечь, отчуждение, почти отвращение к ней после ее признания прошло, и оттого, что всего несколько минут назад между ними пролегла, казалось бы, непроходимая пропасть, сейчас было какое-то особое чувство, жадность первооткрытия; очнувшись, Захар с некоторым смущением прокашлялся.
– Надо, однако, печь протопить, – порассуждал он вслух, надернул теплые, сухие валенки и, захватив спички, вышел. Маня лежала успокоенная, словно в каком-то приятном полусне; она слышала, как Захар, покашливая, открывал трубу, постукивая дровами, разжигал печь, потом пил воду, и она испытывала сейчас к нему немое чувство благодарности, как к теплому, пахучему хлебу после насыщения; его еще оставалось много, и можно было есть сколько угодно, только она больше не могла, но то, что этот хлеб был, успокаивало, размягчало.
– Такой мороз до утра продержится, дома придется отлеживаться, – сказал Захар, возвращаясь и позевывая. – Градусов под пятьдесят жарит.
– Что ж, можно и отдохнуть, – отозвалась Маня, слегка отодвигаясь, чтобы дать ему место, и тотчас, как он только лег, теплая, привычная рука обхватила его шею.
– Захар, а у нас в Густищах сейчас-то луна небось… самые святки. – Она не могла спать, дышала ему в ухо, в висок. – Ох, Захар, до смерти хочется хоть глазком взглянуть, как вспомнишь, внутри саднит. Мать пишет, много молодых подросло, говорит, приедешь, так и не узнаешь… Ты вот даже ни разу не вспомнил об этом, чудно мне это… А я бы, кажется, на крыльях полетела. Захар, а Захар, давай как-нибудь съездим? Вот в лето и можно, как огород посеем, так и можно, отпуск как раз дадут, не будут сквалыжиться.
– Чего зря гадать, подойдет лето, тогда и прикинем.
– Не поедешь ты, Захар, – спокойно и тихо заметила Маня. – Ты словно боишься чего, давно видно. А может, оно так и правильнее: чего понапрасну себя и других тревожить?
– Ладно, придет время, съездим, чего мне бояться, тут другое. – Захар закрыл глаза; он не стал разъяснять, что имел в виду; было слышно, как звонко потрескивали, разгораясь, дрова. – С Ефросиньей, сама знаешь, как было. Пришла, видать, пора, отболело все, отвалилось. – Он нарочито шумно зевнул. – Поспать бы немного, что-то вроде не выспался.
– Спи, – сказала она. – Дров сама подброшу, да еще надо сходить ребят посмотреть. Подчас как попало спят, разметаются, Илюшка – тот совсем, того и гляди, застынет по такому холоду.
Она хотела было встать, но он удержал ее.
– Сам погляжу, лежи, – сказал он, внезапно стыдясь и удивляясь своему порыву и ясно чувствуя, что и она понимает этот его порыв и оттого притихла. Это было какое-то непреоборимое любопытство; он помедлил, кашлянул и прошел за перегородку к детям, а Маня осталась лежать, широко открыв глаза и прислушиваясь к каждому звуку и шороху.
Поправив сползавшее одним краем на пол одеяло на Илюше, Захар остановился у кровати Васи; пол был холодный, босые ноги стыли. Захару хотелось включить свет и увидеть лицо Васи, но он медлил, боясь сейчас самого себя; он улавливал тихое, почти неразличимое дыхание глубоко спящего ребенка, но для него теперь то уже был не тот мальчонка, которого он знал ранее и к которому привык и по своему привязался. Так получилось, просто и ясно говорил себе Захар, пытаясь разглядеть в темноте лицо Васи. Так оно получилось, сопит этот шумливый товарищ, и нет ему никакого дела, кто у него отец, подай ему хлеба каждый день да теплой одежды, растет, смеется, вернешься с работы, не успеешь раздеться, а он сразу прыг на колени… Захар физически ясно ощутил у себя на шее прикосновение пухлых, теплых ручонок. Меня, видно, этим и хотел убить Макашин, подумал Захар, да не рассчитал. Ребенком, чей бы он ни был, убить нельзя, оно, пожалуй, ребенок-то всегда выше смерти. Вот она, какая осечка вышла. А победа-то, она вот здесь осталась, лежит себе и сопит в две дырки, вот тебе и победа. А противные силы где-то на отдалении, от него схлестнулись, и схлынули, где-то бродят в ночи себе; Захар почувствовал, что Маня подошла и стоит рядом. Он не оглянулся, не шевельнулся, Маня должна была быть с ним рядом в этот момент, она это как-то всегда умела делать, вот она пришла и стоит, накинув на голые плечи свой любимый пуховый платок, купленный им во время поездки в город, когда чехи орден привезли; с тех пор с этим платком она почти не расстается.
– А он себе знай спит, – уронил Захар тихо, повернулся с легких вздохом, взял Маню за плечи, притянул к себе; она ничего не могла сказать, она была немая сейчас, лишь глядела на него благодарно, все сильнее стягивая на груди концы платка.
– Ну ты чего, чего? – строго спросил он. – Вырастет и этот, куда денется… Какой из него человек выйдет, вот за это нас с тобой судить будут, а так… ну, и конец разговору.
– Господи, когда же это морозы поутихнут? – прошептала Маня, стараясь как-то ослабить свой страх перед пронзительностью его слов. Она не могла и не должна была оценить их разумом, она оцепила их своим неошибающимся измученным бабьим сердцем и, не удержавшись, бросилась назад, упала в постель, закусила угол подушки. И замерла, вздрогнув, почувствовав у себя на спине жесткую, тяжелую руку Захара. Покорная этой руке, своему чувству, она затихла, ей ничего сейчас не нужно было, просто хотелось вот так лежать в тепле, ощущая кожей, душой эту знакомую, родную руку, и чтобы никто не мог помешать. Еще хотелось весеннего солнца и тепла, первой, колючей, изумрудной травы, весенних запахов, хотелось просто пройтись по улице Густищ, увидеть мать, соседей, подруг, выйти к старым березам на околице.
11Еще одна зима прошла для Ефросиньи скорее скорого. Весна и начало лета проскочили еще незаметнее, и вот уже вовсю заколосились хлеба, вывелись, окрепли птенцы у дикой птицы, стали наливаться яблоки, на них выпал урожайный год; уже давно отошли белый налив, апорт, всякие летние сорта, но зимние едва-едва входили в силу; антоновка, этот ни с чем не сравнимый русский сорт яблок, вобравший в себя всю мягкость и незаметность и в то же время весь неповторимый аромат орловщины, курщины, рязанщины, еще и не начинала желтеть и пахнуть; Ефросинья знала, что придет срок и незатейливое, выносливое дерево, густо покрытое зелеными некрупными яблоками, словно предчувствуя скорую слякоть и стужу, вдруг сосредоточивая в себе всю яркость и остроту жизни, с каждым днем будет увеличивать плоды со скрытым в них семенем; с каждым днем теперь они все больше будут дразнить глаз, особенно по утрам, когда, покрытые чистой, прохладной росой, они греются в первых лучах солнца, наливаются восковой желтизной, свежестью и начинают играть трудно уловимыми оттенками, наступает предвестник того самого густого, душистого антоновского запаха, и происходит это обычно уже осенью, когда ветер с легкостью начинает срывать с лесов и садов тучи листьев…
Ефросинья несколько побаивалась этой поры антоновских яблок; именно в это время по ночам, несмотря на тяжелую работу, она часто просыпалась и уже больше не могла закрыть глаз. Слушала. Приходили и гасли какие-то шорохи, звуки, голоса, и она начинала чувствовать, как дышит и живет ночь, казалась она бесконечно долгой, каждый раз Ефросинья успевала перебрать в памяти чуть ли не всю свою жизнь. Если Егор был дома, она не боялась, тихонько вставала и садилась к окну; думала о том, что он скоро уйдет в армию и ей придется быть совсем уж одной. О прошлом она думать не любила, не любила вспоминать, и теперь все чаще начинала прикидывать, не пора ли оженить Егора еще до армии, кстати, он себе уже и девку вроде присмотрел, и бабы не раз говорили ей о Вальке Кудрявцевой. Ефросинье такое родство не очень-то было по душе, в основном из-за сватьи, бабы вроде бы и тихого нрава, но по-особому назойливой и подковыристой: сидит-сидит себе, слушает, а потом ни с того ни с сего ласковым своим голоском и ляпнет что-нибудь такое, чего говорить вслух не принято. И опять как ни в чем не бывало слушает. Но Ефросинья была достаточно умна, чтобы не отговаривать Егора, сама-то девка поднялась вроде бы ничего, не в мать – веселая и спокойная, восьмилетку с грамотой закончила… Что ж, парню восемнадцать сровнялось, время не удержишь, часто рассуждала сама с собой Ефросинья, пытаясь окончательно побороть в себе невольную материнскую ревность.
На этот раз до спелости антоновских яблок оставалось еще долго, лето было в самом разгаре, а какое то беспокойство начало томить Ефросинью гораздо раньше осеннего разноцветья, и все, видно, потому, что приближался срок уходить Егору на службу. Ожидая лишь удобного момента, чтобы подступиться к Егору с разговором о женитьбе, Ефросинья и сама потихоньку привыкала к этой мысли, любовалась стройным, сильным парнем, по ночам по привычке часто сидела у окна, а то выходила на улицу и, отмахиваясь от комаров, все прислушивалась и прислушивалась к чему-то, и порой ей начинало казаться, что еще немного, и ей станет легко и ясно в жизни, что кто-то вездесущий все ей разъяснит. Сердце у нее колотилось и лицо разгоралось. Еще немного, сейчас, сейчас, говорила она себе, вот сейчас, но… проходила минута, другая, и все оставалось по-прежнему; ночь жила и дышала вокруг, и с первой полоской прорезывающейся зари приходила привычная и успокаивающая работа. Нужно было доить корову, поить теленка, варить завтрак, нужно было успеть полить огурцы и помидоры, ночная смута бесследно рассеивалась. И все-таки где-то в ней, не исчезая, жило странное ощущение, что скоро, вот-вот, должно что-то случиться, и это ожидание не исчезало даже во время работы или сна.
Как-то она спешила в обед домой, чтобы успеть управиться по хозяйству, подоить корову и покормить Егора; Митька-председатель (теперь все в Густищах вместо «Митька-партизан» называли его только так – «Митька-председатель»), стоявший с мужиками у конторы правления, неожиданно остановил ее.
– Здравствуй, Митрий, – сказала она, подходя ближе и поправляя платок. – Обрадовать чем нибудь хочешь?
– Понимаешь, Ефросинья Павловна, дело у меня к тебе…
– Ну, говори, что за дело.
– Столковались мужики в правление тебя выдвинуть…
– Ты что, ты что! – быстро замахала на него руками Ефросинья. – Нашел правленца, тоже умная голова… Писать-то, как курица лапой, научилась после войны, считай… как же, правленка!
– Тебя писарем, Ефросинья Павловна, никто и не ставит, – возразил ей Митька-председатель. – Что ж ты сразу отмахиваешься? Тут не в грамоте дело, а вот где. – Митька-председатель в доказательство своих слов увесисто шлепнул себя ладонью по лбу. – Ты, Ефросинья Павловна, сейчас ничего не говори, подумай, потом и разговор.
Митька опять вернулся к ожидавшим его мужикам, а Ефросинья пошла дальше по улице, и чем больше думала, тем беспокойнее ей становилось. По этой причине она поругала Митьку за его причуду, но легче от этого не стало, и уже возле своей избы в задумчивости она почти столкнулась носом к носу с Анисимовым.
– Господи, Родион Густавович, что сегодня за день, – сказала она, глядя на него с любопытством. – Никак ты? Откуда?
– Я, Ефросинья Павловна, я, – тотчас отозвался Анисимов, раздвигая ворот полотняной рубашки. – Жара какая… А я к тебе и приходил, дома никого. Оказался в этих краях, дай, думаю, загляну…
– Заходи, заходи, – пригласила Ефросинья. – Я тебя кваском напою из погреба, прохладный квасок… Что это ты из такой дали забрел?
– Забрел, выпало три дня свободных…
– Проходи вон в тенечек, под грушню…
– Спасибо, спасибо, Ефросинья Павловна. – Анисимов косил глазом на крепкую, загоревшую шею Ефросиньи, и ему хотелось повернуться и пойти прочь, потому что в последние недели он все больше и больше подпадал под странное состояние какого-то нетерпения.
Ему все хотелось перемен, чего-то нового, но в этом стремлении все время куда-то спешить, за чем то все время ускользающим гнаться что-то пугало, но сколько он ни пытался остановиться, ничего не получалось. Странный, изнуряющий бег от самого себя поразительным образом заставлял его словно наведываться время от времени в свое прошлое, то в Ленинград (про себя он всегда говорил – Петроград), то в Зежск, а то вот, как сейчас, и в Густищи. Да и в Густищах… мог бы побродить, посидеть где-нибудь со стариками на завалинке, вспомнить прошлое, так нет, опять словно что-то точит его изнутри. С кем-то он перебросился двумя-тремя словами, с кем-то поздоровался, постоял у того места, где раньше был сельсовет и где они с Елизаветой Андреевной прожили несколько бесполезных (нечего вспомнить) лет; во всех этих своих действиях и поступках он все словно кружил вокруг какого то одного центра, все время незаметно к нему приближаясь, и этим притягательным центром была Ефросинья и все, что было вокруг нее, все, что было связано с Захаром.
– Отдохни тут, Родион Густавович, – сказала Ефросинья, указывая на лавочку, защищенную от солнца двумя большими старыми грушами. – Сейчас из погреба квасу холодного достану.
Анисимов молча кивнул, выхватил из кармана платок и вытер лоб; посидеть в прохладе тянуло, и когда Ефросинья принесла квасу в глиняной большой кружке, Анисимов, отпивая его большими глотками, почувствовал себя лучше. Ефросинья взяла кружку у него, села рядом.
– И не стареешь, Родион Густавович, – сказала она. – Как был до войны, так и есть, надо ж тебе…
– Скажешь, – засмеялся Анисимов. – Так уж и не изменился… Еще как изменился, Ефросинья Павловна… старость, то тут, то там хватает… Ты же по-прежнему красавица… Все одна?
– Как все одна? Вон Егорка вырос, скоро оженить думаю, – весело призналась Ефросинья.
– Я не в этом смысле, ты же меня понимаешь, – возразил Анисимов.
– Понимаю, – кивнула она. – Сорок лет – бабий век, говорят. Сейчас вон девки сидят, за любого старика готовы, а мне куда теперь… Все мое давно отгорело.
– Ах, чепуха какая! – повысил голос Анисимов. – Что же мне тогда прикажешь делать? – Он недовольно перекосил лицо, потому что то, ради чего, бросив самые необходимые и важные для себя дела, он пришел сюда и говорит с этой бабой, съежилось, опять ускользнуло.
Он неприятно поморщился, он забыл, зачем пришел сюда, и сейчас даже с какой-то обидой, недоуменно смотрел на лицо Ефросиньи; он видел, что она его не понимает, и еще больше злился. И Ефросинья, видя по его лицу, что ему чего-то недостает, и что-то не понятное ей терзает, и что все это заключается в нем самом, словно бы отодвинулась от него, отделилась невидимой стеной, и какая-то тень промелькнула в ее глазах. Того, что было, не забудешь, нельзя забыть, пройди хоть сто лет; она вспомнила прежнее, Ванюшку, станцию, вагоны, последний крик сына и слегка нахмурилась. Не помня себя от страха, в самый, может, тяжкий день своей жизни прибежала она к этому человеку, а вместо помощи получила кучу пустых слов и чашку горячего чая. А Ваня так и пропал, ни слуху ни духу, а какой парень ладный из него вышел, полюбуешься, бывало, со стороны, сердце веселится… А может, Родион и не мог ничего, в беде кто ж виноват? Оно ведь как покойница свекровь говорила: из одного дерева что икона, что лопата… Каждому за себя страшно было в такую лютость, на любом повороте пуля караулит…
– Что ж Елизавета Андреевна-то? – спросила Ефросинья, стараясь не поддаться окончательно нехорошему чувству. – Ты первый раз наведывался, все про нее говорил…
– Ничего, ничего, работает, – заторопился Анисимов.
– А как ребенок-то, девочка эта? – опять спросила Ефросинья. – Отца с матерью-то у нее не сыскалось?
– Какие отец с матерью? – с недовольством отмахнулся Анисимов от ее неожиданных слов. – Ну что ты говоришь, Ефросинья, – подосадовал он. – Помилуй… Это невозможно. Лиза так привязалась к Шурочке…
– Посиди, Родион Густавович, – сказала Ефросинья, поднимаясь. – Вот-вот на обед мужики поедут. Пойду, Егор всегда голодный приезжает. Пообедаешь с нами, Родион Густавович?
– Подожди, успеешь, – остановил ее Анисимов, чувствуя беспокойство и недовершенность оттого, что он так и не узнал, чем же в жизни держится эта женщина, в сравнении с которой он был пуст и весь какой-то потухший. – Ну, я понимаю, привыкла ты к одиночеству, но ведь трудно одной-то? Говорить об этом тяжело… Захар, он всегда был…
– Его уж ты не трожь, – нахмурилась Ефросинья, и морщины резче обозначились у глаз. – Мое это дело. Что тут его винить? Я и не жалуюсь. Тут уж не по нашему хотению, а кому что на роду написано. Я не жалуюсь, жизнь у меня хорошая…
– Хорошая? – еще больше заволновался Анисимов. – Тогда скажи, чем же ты живешь, отчего у тебя жизнь, как ты говоришь, такая хорошая?
– Дети у меня хорошие, – вздохнула Ефросинья.
– Так что ж они, что ж дети? – спросил Анисимов. – Выросли – разлетелись. Нет ничего… А сама, сама-то?
– Оттого и радостно… разлетелись – и все, крылья им теперь никакой ветер не обломает, думаю. – Ефросинья быстро и коротко взглянула на Анисимова; тот внимательно, с какой-то нескрываемой жадностью слушал, вбирая в себя, стараясь не пропустить ни одного звука, ни одного оттенка, – А потом, Родион Густавович, у меня другой интерес есть. Я вот на заре проснусь, выйду на порог, гляну кругом – как-то хорошо так станет… Господи, думаю, откуда в мире такое? Во всем-то свой уют, свое согласие…
– Боже ты мой! – не удержавшись, изумился Анисимов, потому что слова Ефросиньи прозвучали резким диссонансом с его собственными мыслями и настроением. – Ты прямо поэт, Ефросинья! Какое же согласие, где оно? Все только и стремятся друг друга задавить… Слушай, Ефросинья, это правда, что ты в войну немцев вместе с избой сожгла? – спросил он, понизив голос, часто и напряженно помаргивая.
– Сожгла. – Ефросинья как-то долго и странно посмотрела на него, но он не захотел этого заметить.
– Как же ты не побоялась?
– Боялась, как не боялась. А вот так оно накатило, ни туда тебе, ни сюда…
– Накатило, говоришь? – словно зачарованный, жадно переспросил Анисимов.
– Накатило, – подтвердила Ефросинья, и глаза ее приобрели холодный внутренний блеск. – Эк глядишь-то, – добавила она с усмешкой и внезапно переменила разговор: – Да пока с Егором была, ничего, а вот теперь в армию ему собираться… одной сумно, гляди, будет, не привыкла я так-то, как сыч в пустых стенах…
– У тебя дочка вон какая, только заикнись, – вспомнил Анисимов тихо, поймал пролетевшую мимо какую-то пушинку, подержал ее на ладони, рассматривая, и легким выдохом сдул. – Что ты, у нее лишняя будешь?
– Звали, как же, сколько раз звали. С Егором звали, – уронила Ефросинья; задумываясь, и Анисимов отметил про себя, что лицо ее как бы сразу угасло, опустело; с какой-то болезненной остротой Анисимов ждал, и Ефросинья, словно почувствовав это его жадное ожидание, подобралась, насмешливо повела в его сторону глазами. – Дочка – она ломоть отрезанный, Родион Густавович. Была у нее недавно, опять все уговаривала: переезжай, говорит, мать, совсем ко мне, зачем тебе одной то мыкаться? Что ты, мол. возишься? И дрова, и вода, и огород, а тут все тебе будет. Посмеялась я на ее слова, хоть и ученая стала, а жила-то мало еще для хорошего разумения, вот и несет околесь. Век на готовом не жила и жить не буду. Сами вы в Москву переезжайте, говорю, куда уж мне-то по Москвам шататься на старости лет? Эх, говорю, доченька, доченька… Да с тем и замолчала, махнула рукой.
И опять легкая тень набежала на лицо Ефросиньи; говорила она сейчас то, что, по ее мнению, можно было говорить Анисимову, человеку чужому, с которым и Захар в свое время не в ладах жил, по ее еще и еще раз кольнула мысль, что у Аленки неладно что-то с мужем, никак он ее не переборет. Третий год словно бы шальные все по разным городам, съехаться не могут, все налетом да налетом друг к другу. Об этом и ездила поговорить с дочкой, да разве послушается? Эх, господи, хоть внучку понянчила, порадовалась…
Перебивая ее мысли, Анисимов вздохнул.
– Раньше я думал, что не хватает русскому человеку, русскому характеру какой-то железистой присадки, – сказал он больше себе, чем Ефросинье. – Оттого и едет на нем всякий, кому не лень… А теперь вижу… не то что-то, не так… не додумал я чего-то… не могу понять, в чем тут загвоздка…
– Я баба простая, Родион Густавович, всяким ученостям не обучена, – отозвалась Ефросинья. – Вот как есть, так и говорю… Ах, господи, втравил ты меня, вон уж Егорка-то, слышу, идет. С кем это он?
Теперь и Анисимов расслышал приближавшиеся голоса и вскоре уже здоровался с Егором, крепышом лет семнадцати, кареглазым, с обветренным лицом. Анисимов постарался скрыть свое состояние, глядел ясно. Его удивил не столько приемный сын Захара, которого уже собирались женить и которому подходила пора в армию идти; какая-то другая струна прорезалась, зазвенела в душе, и этой ноющей струной было неожиданное чувство обрыва. Время-то как проскочило, тот самый Егор, у него на глазах подобранный в стоге соломы, теперь жениться собирается. Смущаясь от его взгляда, не зная, что еще делать, Егор, нахлобучил на кол изгороди свою фуражку, стал закуривать, а Анисимов все не отрывал от него расширившихся, словно вбирающих в себя глаз. Он отказался остаться обедать, с небрежной торопливостью распрощался и тотчас заторопился на дорогу, где можно было остановить машину и подъехать до станции.
– Что это он? – спросил Егор у матери, обжигаясь горячим, перетомившимся борщом; он все никак не мог забыть странно пустых и в то же время жадных глаз Анисимова. – Вроде как больной…
– Вроде и больной, чего-то все говорит, говорит, – согласилась Ефросинья, помешивая в своей миске. – Всякое случается, судьба у каждого на свой лад нацелена. – Она замолчала, неожиданно ясно вспомнив Захара, вот так же, как Егор, за столом обжигавшегося в вечной спешке горячим варевом. – Бывает, Егорка, все бывает, душу, гляди, кто обронит, а там весь век мыкается из стороны в сторону. Все ищет, ищет, да так, бывает, и помрет без души. Страшно, поди. Как без души-то жить? А помирать? Без нее пусто человеку, сквозняк в нем, ничего не держится – ни хорошее, ни плохое. Ешь, ешь, – спохватилась она, заметив, что Егор внимательно глядит на нее. – Ты знай ешь. Слушать слушай, а дела помни… Что, после обеда опять косить?
– Косить, – ответил Егор коротко; он по молодости уже думал о другом, потому что для каждого возраста жизнь установила свои законы и свои рубежи, и Ефросинья от его несерьезности и поспешности лишь вздохнула.








