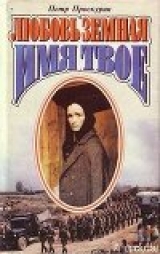
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 64 страниц)
А Лапин, проводив взглядом машину своего старого друга, еще раз окинув тревожно темневшее небо и увидев задержавшегося с кем-то Брюханова, вернее, услышав неподалеку его голос, подошел и поздоровался; Брюханов, что-то сказав своим собеседникам, тотчас быстро и радостно шагнул к Лапину.
– Рад вас встретить здесь, Ростислав Сергеевич, – оживленно сказал Брюханов.
– Я и сам чертовски рад, Тихон Иванович, – так же приветливо и весело ответил ему Лапин, здороваясь. – Дождались наконец и мы светлого воскресенья.
– Ну, это кому как, – шутливо засомневался Брюханов. – Надеюсь на скорую встречу в Москве, Ростислав Сергеевич, и все, что вы мне говорили, помню. Я, разумеется, все, что могу, пытаюсь продвинуть, – быстро добавил он, – но, сами понимаете…
– Ах, как это нужно… хотя бы еще два-три пункта в тех местах, где помечено, Тихон Иванович…
– Деньги, деньги, Ростислав Сергеевич… Вон, – кивнул Брюханов в сторону ажурной, уже не видимой в сумерках башни, – все сразу сожрала… Наверстаем, Ростислав Сергеевич…
– Тихон Иванович, – остановил его Лапин. – Еще вопрос, правда, мелочный, но для меня достаточно серьезный. Я человек немолодой, и у меня есть свои принципы…
– Ростислав Сергеевич, что-то не похоже на вас. Говорите прямо, что случилось?
– Я хочу знать: с вашего ли ведома действует ваш заместитель Павел Андреевич Муравьев?
– То есть в чем, разъясните, пожалуйста – попросит Брюханов, стараясь припомнить все, что знал и что касалось института Лапина и его самого, но ничего тревожащего припомнить не мог.
– Понимаете, Тихон Иванович, меня возмутило последнее дело… Он понуждал меня взять в институт каких-то четырех аспирантов, представьте, мне пришлось самому беседовать с ними, но это же ни в какие ворота не лезет! Он упоминал вас, какие-то общие интересы… но, простите, у всех нас есть родственники, хорошие знакомые и даже, вероятно, общие интересы, – Лапин, заслоняясь от сильного, порывистого ветра, возбужденно замахал другой рукой в сторону теперь уже совсем скрывшейся во тьме ажурной стальной башни с атомным яйцом на самом верху. – Если вот эти интересы, то – пожалуйста, а если другие… Я хочу с самого начала… пусть у нас не будет больше недоразумений, Тихон Иванович. Там, где страдают интересы науки, для меня не может быть выбора…
– Вы зачислили их в штат? – спросил коротко Брюханов.
– Разумеется, нет, – возмутился Лапин, и даже брови у него резко дернулись. – Расточительность мецената мне не по карману, у меня нет для этого ни возможностей, ни времени!
– Прекрасно, – одобрил Брюханов. – Почему же вы так волнуетесь?
– Да, но чего мне это стоило? – в свою очередь удивился Лапин. – Я ведь не привык к такой китайской стратегии, я всего лишь ученый.
– Обязательно разберемся, Ростислав Сергеевич, а теперь… – Брюханов крепко пожал руку Лапина и словно провалился в темноту.
– Слышите, ничего, совершенно ничего не скрывайте из нашего разговора! – крикнул ему вслед Лапин и, чтобы несколько успокоиться, прошел к себе, включил небольшой миниатюрный приемничек, сконструированный и подаренный ему одним из учеников, поймал далекую музыку Моцарта и несколько минут слушал; Моцарт на этот раз не помог. Явно не хватало в эту ночь открытого неба над головою, и даже легкие перегородки, отделявшие его от свободного пространства, были неприятны и давили. Он выключил приемник, встал и вышел; ветер дул с прежней силой, Лапин почти задохнулся, когда ветер хлынул ему в легкие. Было уже далеко за полночь; Лапин безнадежно смотрел в темное небо, пытаясь заметить хоть одну-единственную звезду, но лишь смутно угадывал неостановимое движение стихий. «Плохо, плохо, ах, как плохо», – подумал он и в этот момент услышал резкий, отчетливый голос, заливший все пространство полигона:
– До взрыва осталось три часа сорок семь минут!
Лапин торопливо потянул руку со светящимся циферблатом часов к глазам; взрыв переносился на час раньше, на семь утра; и с того мгновения, как прозвучал оповестивший об этом голос Курчатова, начался неостановимый обратный отсчет, и оставшееся время, как показалось и Лапину, и другим, пролетело мгновенно, и когда в увеличивающейся, несмотря на шум ветра, давящей тишине грянуло: «Ноль!», Лапин прильнул к наблюдательной амбразуре. Несмотря на толстые защитные темные очки (без них даже в укрытиях находиться запрещалось), его больно ударил по нервам невиданный, ни с чем не сравнимый свет. Но он, если бы и захотел, не смог бы закрыть остановившихся, жадных, все вбирающих глаз; перед ним было всесокрушающее торжество вспыхнувшей, превращавшейся в лучистый, стремительно увеличивающийся сгусток материи, перед ним был безумный момент сотворения Вселенной, и невыносимые сияющие черные молнии то и дело пронизывали ослепительную желтую, розовую, синюю, голубую ревущую массу, заполнившую, а затем и поглотившую древнее азиатское небо. Лапин, разумеется, не мог видеть, как плавились и в одно мгновение вспыхивали расставленные недалеко от эпицентра артиллерийские батареи, танки, как, слабо засветившись в общем безумии, исчез, рассыпался старый карагач, как выгорали вместе с помещенными в них подопытными животными и разнообразной техникой массивные бетонные сооружения, имитирующие оборонительные укрепления и различные постройки; расширившиеся от какого-то первобытного ужаса и восторга глаза Лапина не могли оторваться от пухнущего, уходящего гигантским, все более разбухавшим куполом ввысь, переливающегося всеми мыслимыми и немыслимыми цветами исполинского огненного вздутия. Раскололась сама первозданная твердь космоса, в ее бездонных провалах появлялись, дразня, исчезали и появлялись опять беспорядочные осколки неведомых, далеких миров; беспредельное освобождение превратившейся в стремительный свет материи прорывало завесу времен и являло свою оборотную сторону – алые, фантастические пики вершин, гигантские разломы, бушующие непередаваемыми цветами надзвездные океаны, дивные скопища неземных, на глазах рушащихся и вновь воссоздающихся видений, фантастические по своим невообразимым очертаниям миражи…
Кто-то рядом с ним неестественно высоким криком сообщил, что приемники захлебнулись, но он почти не обратил на это внимания; он это заранее знал и в ответ на тревожное сообщение пробормотал что-то успокаивающее, что-то вроде: «Успокойтесь, успокойтесь, голубчик, так и должно быть, не иначе».
Он не мог больше смотреть на это безумное торжество распада, на этот ликующий призрак творения, не мог, но смотрел, и когда поглотивший мир огонь начал темнеть и подземный гул и грохот стали длинными волнами пронизывать каменистую землю, Лапин отвернулся от амбразуры.
Натолкнувшись на чьи-то очень знакомые глаза, он словно увидел в них отражение собственного ужаса и восторга; он узнавал и не узнавал эти глаза.
– Это было прекрасно, – сказал Лапин с напряженным лицом, оглядывая в одно мгновение потрясенный мир: вышедшие из строя приборы, лица сотрудников, детали тяжелых перекрытий. – Это было прекрасно, – повторил он еще раз, подчеркивая свою мысль, стараясь, чтобы его поняли правильно. – Смерти в природе нет, ее придумали люди, чтобы оправдать ее для себя… но ее-то нет, мы это сегодня видели.
Брюханов, оказавшийся в это время рядом с ним, посмотрел на него непонимающе и отстраненно.
* * *
Без малого четыре года назад над городом Хиросимой, в котором, боязливо прижимаясь по случаю войны и ожидаемой бомбежки к стенам домов, дробно семеня ножками в полах кимоно, пробегали ловкие, грациозные японки, вспыхнуло, расплавилось небо, беспощадный меч одним взмахом рассек историю человечества; время потом станут исчислять до Хиросимы и после нее… И первенство в этом принадлежит стране, издавна считавшей себя великой, свободной вообще и свободной в частности от всяких предрассудков, к тому же самой демократичной, что блестяще и подтвердилось; росчерк атомного меча был сделан решительно, без всякой ложной застенчивости и псевдозначительных поклонов в сторону гуманизма; хрупкие японки остались кое-где на стенах и на тротуарах в мягких, размытых силуэтах, словно застывшие тени, а в тех, кто был подальше от эпицентра взрыва и кто остался жить, как таинственный и неизлечимый яд, бесконечно передающийся от отца к сыну, уже были заложены необратимые изменения в самой основе основ жизни; в миллионы веков вырабатываемую, в ревниво хранимую природой в неприкосновенной тайне формулу живой жизни, не принадлежащую отдельно ни одному поколению или веку, было совершенно сознательное, а потому особо кощунственное вторжение. Чаши весов дрогнули, и самый совершенный аппарат жизни – мозг человека – с его почти безграничным потенциальным могуществом совершил ничем не оправданное святотатство, совершил преступление и осквернил основы основ самой жизни и даже самой материи. Безнравственность этого поступка была настолько безгранична, что ее сразу нельзя было осознать, и ее осознание будет потом продолжаться долгие годы.
Когда очередному, тридцать третьему президенту Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэну доложили, что над территорией русской Азии произведен атомный взрыв, он в душе подверг это сообщение довольно мучительному сомнению. Президенту Соединенных Штатов, самой могущественной страны мира, на какую-то долю секунды стало невыносимо жарко, потому что и ему не было чуждо ничто человеческое. Он только сейчас почувствовал дыхание вечности, и атомная вспышка четыре года назад словно отразилась в его глазах; у него остановилась кровь, он понял, что именно этой мгновенной вспышкой над Хиросимой причислен к вечности. И еще, так как он был всего лишь человек, в нем тотчас словно сработала какая-то счетная машина, выбрасывающая из себя вариант за вариантом последствия этого случая уже лично для него самого, для его президентства на следующий срок, для его отношений с партией, сенатом, конгрессом, оппозицией, с военными и еще множествo всяких сложностей, составляющих жизнь такого крупного по положению человека, как президент Соединенных Штатов Америки. От этого чувства ему стало неприятно, и он покосился на доктора Буша, приехавшего несколько минут назад по его вызову, словно проверяя, не заметил ли ого смятения этот ученый муж, стоявший вот уже несколько лет во главе крупнейшего научно-исследовательского ведомства Соединенных Штатов Америки, и тот сделал вид, что ничего не заметил, и продолжал тщательно, по каким-то одному ему ведомым признакам, выбирать сигару в ящичке на круглом столе, затем небрежно сунул ее в верхний наружный карман пиджака; доктору не нравились дилетантские суждения высокопоставленных генералов и сенатора, присутствующих тут же, раздражал их тон, но он по прежнему, как и в самом начале разговора, был невозмутим, корректен, сдержан и лишь слегка ироничен; он чувствовал, что президент свое глубокое, наглухо закрытое беспокойство и недовольство переносит частично и на него, как будто он, доктор Буш, был виновен в том, что русские взорвали свою атомную бомбу намного раньше прогнозов американских военных и специалистов. Вторая причина, вызывавшая недовольство и у президента, и у сенатора, была уж и совсем смешна. Словно от того, что он, доктор Буш, согласится с их сомнениями в реальности произошедшего и подтвердит, что это, может быть, еще не атомный взрыв, что-либо может измениться. А произошло самое обыкновенное дело, расчеты на монополию, как и надо было ожидать, рухнули, пусть несколько неожиданно. Лучше бы всего на этом и остановиться, поставить точку, согласиться на равновесие сил. Разумеется, доктор Буш слишком хорошо чувствовал пульс, дающий ускорение и наполнение современной жизни и политике; он лишь подумал о призрачном равновесии сил и ничего не сказал. Тьма, хаос – прародина всего сущего – должны были в конце концов растворить в себе эту слабую искру, высокоторжественно поименованную человечеством, и поэтому никакой остановки, никакого равновесия, равнодействия быть не могло. Птица, у которой почему-либо отказали крылья высоко над землею, должна разбиться, это закон движения, и человек никакое не исключение. Даже президент, обязанный быть выше обычных человеческих страстей, предвидеть и учитывать исторически отдаленные моменты в жизни своего народа и мира, прежде всего – обыкновенный человек, и на него влияют и несварение желудка, и настроение жены. В докторе Буше сейчас столкнулись и ученый, и гражданин своей страны, и человек, от которого в той или иной мере зависело зреющее у президента решение; доктор Буш ясно понимал, что и президенту, и сенатору Ванденбергу, и министру обороны Джонсону было неприятно выслушивать то, что он, Ванневар Буш, вынужден был говорить, и его несколько забавляла растерянность этих людей, стоявших, как они думали, где-то на самой вершине пирамиды. И когда Ванденберг, внушительный, влиятельный и совершенно невежественный в обсуждаемых сейчас вопросах, со смелостью и безапелляционностыо профана высказывал умопомрачительные предположения, у доктора Буша нет-нет да и прорывалось в душе насмешливое изумление.
– Нет, нет, это маловероятно, – время от времени скупо ронял он, и сенатор от этих проколов словно выпускал пар и становился менее объемным. – У космических частиц совершенно другой почерк, сенатор. Совсем иные трэки. Будет ближе к истине, если мы признаем наличие атомного взрыва. У меня почти нет сомнения, что русские взорвали урановую бомбу.
Доктор Буш стал раскуривать сигару, наслаждаясь вкусом хорошего табака, в то же время не упуская ни одного слова из того, что говорил Ванденберг насчет русских шпионов и национальных запасов урана-235, о необходимых мерах безопасности. Краем глаза доктор Буш все время видел фигуру президента и, понимая, что президент сильно расстроен, в какой-то мере даже искренне сочувствовал ему. То, что произошло, неожиданные данные военной разведки, выражавшиеся в скупых строчках и цифрах короткого отчета, ознаменовали собой поистине необратимые изменения в мире; они коснутся каждого, будь то президент Соединенных Штатов Америки, или этот загадочный и мистический маршал Сталин, или голый туземец с какого нибудь тропического острова, живущий только за счет своего первобытного инстинкта; неожиданным урановым взрывом где-то над древними каменистыми пустынями Азии непредвиденно замкнулась цепь не только поразительных достижений русских, еще раз на весь мир возвестивших о своем бесстрашии и таланте, но замкнулась и цепь глобальных противоречий. Именно в этой точке эволюция переходила в новое качество, в иную плоскость, и тихий холодок тронул сердце и даже мозг доктора Буша. История не кончалась и не прерывалась, этот ее скачок просто вполне мог стать началом возврата к праматеринскому хаосу, к первобытной тьме, и новый и, быть может, самый критический шаг в ту или иную сторону зависел от этого ординарного человека, волей судьбы ставшего на какое-то время президентом Соединенных Штатов Америки. Это было удивительно, об этом не хотелось думать.
Доктор Буш с достаточной проницательностью угадывал сейчас состояние президента, ошибшегося, вернее, обманувшегося в своих самых сокровенных мечтаниях, на них он думал строить долговременную и грозную политику своего государства и мира, и вот все неожиданно рухнуло; президент Трумэн, особенно вначале, действительно не хотел и, не мог принять случившееся, и ему казалось, что в донесения разведки, в расчеты и выводы ученых вкралась какая-то зловещая ошибка, и он с минуты на минуту ждал, что она вот-вот разъяснится. На какое-то время, сцепив руки за спиной и повернувшись к полотнищу национального флага боком, президент словно бы о чем-то встревоженно вспомнил и задумался. Да, он вспомнил Потсдам, свой сверхсекретный приказ сбросить вторую и третью урановые бомбы на японские острова, несмотря на неоднократные возражения советников и многих ученых. Но он и тогда, и теперь был твердо уверен, что в его слабых человеческих руках находится высшее предназначение, что ему самой судьбой определено вывести мир на новый рубеж и что он, именно он укажет человечеству этот особый рубеж, с него и начнет отсчитывать путевые столбы новая, совершенно иная эпоха. Он был твердо в этом уверен, но вот сейчас, хотя он старался не показать этого, какая-то проникающая волна прошла в его мозгу; где-то над необъятными пространствами русской Азии вспыхнул еще один урановый смерч – дело чуждых рук и умов; он уже не мог думать о том, чему он положил начало, с прежней уверенностью. В самое сердце хорошо и надолго снаряженной машины кто-то с дьявольской усмешкой словно швырнул песок, теперь этот режущий, мерзкий хруст судорогой сводил губы и приходилось думать о том, чтобы не выдать себя, не шевельнуть ни одним мускулом в лице.
Президент сразу же вспомнил множество самых различных фактов, относящихся к первому, опытному взрыву американской урановой бомбы и затем ко второму, над Хиросимой, мгновенно лишившему жизни почти сто пятьдесят тысяч человек; грудные дети были превращены в пепел вместе с матерями, и это атомное торжество было высокопарно освящено высшим смыслом, соответствующими гарантийными молебнами богу и лично его, президента Гарри Трумэна, волей. Он всегда считал, что был вынужден пойти на этот шаг, потому что прежде всего думал о своем народе, о процветании и могуществе нации и о чистоте ее звездного флага.
Президент попытался представить себе те почти сто пятьдесят тысяч человек, в одно мгновение превратившихся в тени, в ничто, гигантский гриб с раскаленно-яркой сердцевиной и потом море кипящей мглы, залившей город, стекающей во все стороны, от центра взрыва к подножиям холмов, после того как над Хиросимой появился американский бомбардировщик из 509-й особой авиагруппы, поименованный «Энолой Гей» в честь матери командира корабля, полковника Тиббетса.
И еще президент Гарри Трумэн совершенно ясно вспомнил тот момент, когда он в Потсдаме сообщил Сталину о том, что в Америке создано новое мощное оружие и что оно может в корне перевернуть судьбы мира. Характерное, незабываемое лицо Сталина в крупных темных оспинах произвело тогда на президента Трумэна сильное впечатление; по-прежнему спокойное, холодное, несколько далекое и даже в чем-то затаенно-насмешливое, оно не дрогнуло от этого действительно глобального удара. Трумэн впился в темные, непроницаемые зрачки Сталина, пытаясь отыскать хоть отблеск того смятения, которое должно было охватить при таком известии всякого нормального человека. И не выдержал, перед ним была непроницаемая стена. И президент отвел глаза, с раздражением чувствуя, что еще немного – и он из победителя превратится в побежденного.
И, разумеется, президент Трумэн и тогда, в Потсдаме, и сейчас, когда самые худшие опасения подтверждались и русская атомная бомба стала зловещей явью, не знал и не мог знать, что именно эта его недалекая попытка запугать потенциального противника и в какой-то мере приятно пощекотать собственное самолюбие явилась во многом преждевременным ударом: от него еще раз вспыхнула и еще раз неистово разгорелась воля Сталина. Занятый в Потсдаме тысячами малых и больших дел, часто глобальных, определяющих на десятилетие вперед судьбы человечества, занятый непрерывной, глухой, скрытой борьбой с Черчиллем, этим непревзойденным демагогом в мировой политике, классическим английским политиканом старой закалки, привыкшим при минимальных затратах получать за счет других наивысший процент, Сталин, однако, тотчас отметил про себя, запомнил, а самое главное – какой-то дьявольской интуицией поверил словам Трумэна, сказанным как бы невзначай, мимоходом, о новом сверхмощном оружии. Президент Трумэн, хорошо зная о тяжком экономическом состоянии России, и предположить не мог, что в дело тотчас будут брошены все еще не исчерпанные силы и возможности народа и государства, донельзя истощенные войной, неимоверной разрухой, и что Сталин начнет незамедлительно действовать в этом направлении во всем размахе своей неограниченной власти и ответственности, едва вернувшись с Потсдамской конференции, и что ослабленные военными трудностями усилия отдельных групп ученых, конструкторов, инженеров тотчас будут объединены, и что слабая далекая идея тотчас наполнится стратегической сутью и станет выражением государственной политики, одной из ее основополагающих осей, и на ее воплощение будет брошено все, что только возможно бросить в таком государстве, как Советский Союз.
Разумеется, ничего этого Трумэн не знал и никогда потом не узнает и к заявлению министра Молотова через два года о том, что секрета атомной бомбы больше не существует, отнесется скептически. И тем более с явной болезненной раздражительностью ему придется столкнуться с самим фактом существования атомной борьбы у русских – воспоминание о своем словно бы мимолетном разговоре со Сталиным в Потсдаме будет далеко не случайным.
«Вот именно, далеко не случайным», – сказал себе Трумэн, и опять что-то неприятное заставило президента слегка поморщиться, ему показалось, что его опалил далекий дьявольский жар. «И зачем самолет, сбросивший первую атомную бомбу, назвали именем женщины, матери? – с досадой подумал Трумэн. – Что ж, в истории человечества немало было и будет нелепых парадоксов», – попытался он справиться с нежелательными и ненужными отвлечениями.
Занятый некстати пришедшими мыслями, президент Трумэн, однако, успевал улавливать в общем разговоре суть того, что говорил доктор Буш сенатору, отвечая на его непрерывные вопросы и разъясняя ему то, что требовало специального разъяснения. И президент несколько раздраженнее, чем это бы следовало, подумал, что не доктору Бушу, не этому раздраженному сенатору предстояло принять необходимое решение.
– Доктор Буш, – сказал президент негромко, чувствуя, что ему сегодня неловко и тесно в костюме.
– Да, господин президент? – тотчас отозвался тот с подобающей долей почтительности и вежливости в разговоре с главой государства.
– Скажите, доктор Буш, это правда, что можно сделать бомбу, в сотни раз превосходящую по силе урановую? – спросил президент, и доктор Буш тотчас отметил про себя отсутствующее выражение его глаз.
– Да, господин, президент, – ответил доктор Буш и, несколько поколебавшись, со всей отчетливостью понимая, чем вызван этот тихий, необозримо глобальный по своим последствиям вопрос, пытаясь обратить на себя и на свои слова внимание президента, добавил твердо: – Но это, позволю себе подчеркнуть, ничего не изменит, для науки такого вопроса уже не существует. Все дело лишь в технике. И этого уже нельзя удержать в границах одной даже очень большой страны.
И оттого, что ученый безошибочно и сразу понял течение его мыслей, президент нахмурился. Их глаза столкнулись. Один, предвидевший дальше, беспощаднее, во всем объеме знания то, что произойдет через несколько лет, понял, что трагическое решение уже принято. А второй, сам президент, действительно в этот момент уже принявший решение об изготовлении водородной бомбы, постарался скрыть это спокойным выражением лица; в эту секунду без всяких торжественных церемоний и формальностей человечеству был подписан приговор на долгие десятилетия голода и ненужных лишений, а может быть, и на атомную казнь, потому что созревшее яблоко когда-либо да падает. Доктор Буш не стал больше ничего говорить; в мире Гарри Трумэну дано было немалое могущество, но он был совершенно бессилен и не мог сделать ни одного шага самостоятельно, и даже это не поддающееся по своим последствиям никаким прогнозам решение уже было принято за него негласными, всегда скрытыми за кулисами политики силами; они выдвигали президентов, направляли и решали за них. Стараясь разойтись взглядом с президентом, доктор Буш слегка наклонил голову, он сделал вид, что прощается. В конце концов, подумал он все с тем же остатком иронии, великие или почему-то возомнившие себя великими, забавляясь тем, что они именуют высокой политикой, мало, вернее, совсем не думают о последствиях. Но если у гениев этот основной признак их натуры находится в непостижимо точном соответствии с движением жизни, то у посредственности он даже самые высокие и трагические моменты истории имеет способность обращать всего-навсего в дешевый авантюризм.
* * *
Прошел месяц и еще один; зима, продвигаясь от своих северных твердынь, захватывала новые и новые пространства; дороги и села, леса и степи засыпали глубокие снега, а во вьюжные, разгульные ночи, когда даже столетние лесные чащи стонут, трещат и охают, когда небо сливается с землей и гулко, неистово бухают неведомые подземные колокола, все живое старается укрыться в затишье, за степы домов, у теплых, с весело трепещущим огнем печей, в норах и дуплах, в старых, обжитых гнездах, а то и просто под раскидистой елью, между ее нижними лапами и землей, еще пахнущей мхом и зеленью, опавшими и занесенными сюда кленовыми, березовыми или дубовыми листьями, прелой прошлогодней хвоей. Снег толстым слоем лежит на еловых лапах, но между ними и землей – свободное пространство; в солнечный день здесь светло, и случайно оказавшаяся там ягодка костяники на высоком стебельке вдруг рдяно вспыхнет, заиграет летним цветом… Надежно такое убежище от любой непогоды и врагов, забьется в него заяц-русак, или тетерев, или сама хитрая лисица, или иная другая живность и замрет, затаится, затем задремлет под вой и грохот лесной метели, и тогда в теплой и живой крови начинают бродить и жить неведомые голоса, расцветают причудливо-призрачные сны, и нельзя разобрать и разделить, где в них кончается земное и понятное и начинается, чему нет объяснения и что приходит в шорохах и свете звезд… Бушуют долгие и звонкие метели, густо валят снега, укрывая землю, и кажется, что все на ней хорошо и просторно, что вся она одинакова.








