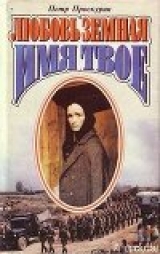
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 64 страниц)
Фома действительно показал характер, с неделю не заглядывал к зятю и, еще издали завидев Алдонина, переходил на другую сторону улицы; тот только усмехался и приветственно приподнимал фуражку.
– Мое почтение, папаш! – кричал он весело, затем как ни в чем не бывало шагал себе дальше.
Фома крепился, продолжая не узнавать зятя, на все приставания и уговоры жены не срамиться перед людьми отвечал, что он этого своего приблудного зятя с поганым татарским прозвищем Кезарь все одно принудительной политикой допечет, докопает и на своем поставит, хоть бы ему пришлось ждать еще сто лет. Но как-то, уже ближе к рассвету, его разбудил шум и гам в избе. Ошалело открыв глаза, Фома приподнялся, успел заметить в какой-то неясной лунной полутьме полураздетую фигуру Алдонина, тут же куда-то исчезнувшую.
– Чего спать не даете, вы, оглашенные! – хрипло, спросонья, спросил Фома у жены, суматошно набрасывающей на себя юбку.
– Танюха рожает! В больницу-то не успели! – криком ответила Нюрка. – Верка, Верка, беги за бабкой Илютой! Зови, поскорей бы там была! А ты, старый чурбан, лампу хоть зажги!
– Вздумалось ей посреди ночи, – ладясь почесать себе нестерпимо зазудевшее плечо, проворчал Фома.
Нюрка мотнула подолом, еще раз наскоро обругала его и была такова; разыскивая спички и зажигая лампу, Фома успел окончательно очнуться, тут же вспомнил о кровной обиде от зятя и решил, что слова своего он не изменит, уселся назад на кровать, нашарил под подушкой кисет и стал крутить самокрутку, но уже через минуту, едва успев затянуться горьким дымом, беспокойно закрутил головой, словно что отыскивая в избе, а еще через минуту уже торопливо надернул на себя штаны, кое-как застегнул их и, упав на пол на колени, торопливо заглянул под кровать, отыскивая куда-то девшийся башмак. Не нашел, побегал по избе в одном, неровно топая, затем энергичным взмахом ноги отшвырнул подальше единственный, оттого и ненужный, и заторопился к зятю босиком. Дальше сеней его не пустили, везде суетились бабы, кто-то жутко выл. У Фомы от такого воя стало обрываться сердце, но внезапно наступила тишина, и Фома различил рядом с собой Алдонина в одном белье, в наброшенном поверх него пиджаке. Непрерывно прислушиваясь, Алдонин стоял с испуганным, чужим лицом. Фома пожалел его и сунул в руку давно погасшую цигарку; Алдонин взял, почему-то понюхал, бросил на землю и машинально растер подошвой.
– Малец дробненький, – донесся из избы, из-за неплотно прикрытой двери, в наступившей тишине тонкий и ласковый голос бабки Илюты.
– Сын, – догадался Алдонин, бросаясь к двери, к резкой полосе света, льющегося в оставшуюся щель и смутно размывающего тьму в сенях, но тут же, вспомнив, что его недавно безжалостно выставили из избы и настрого запретили подходить и близко к роженице, подался назад. – Прокофий явился, – добавил он и, совершенно не зная, что ему еще делать, обнял тестя и крепко прижал его голову к себе. Стиснутый молодыми, сильными руками, Фома, заражаясь радостью зятя, в свою очередь обхватил Алдонина, и они, оттаптывая один у другого ноги, тискали друг друга, пока из избы до них не донесся какой-то странный шум, возгласы, затем опять раздался измученный крик роженицы, уже потише, затем удивленные возгласы баб, бывших в избе, и скоро бабка Илюта все так же невозмутимо, тихо, но теперь с некоторой даже торжественностью, хорошо слышным и Алдонину, и Фоме голосом возвестила, что на свет божий явилась еще одна душа мужского пола…
– Двойня, – растерялся Фома. – Скажу я тебе, Кешка, силен же ты, сукин сын… молодец! Я сам, скажу я тебе, был ого-го-го, но тут… природа!
– Вот тебе, папаша, и Алексей, – не растерялся Алдонин, но голос его прозвучал уже иначе, с некоторой неуверенностью.
– Уважили старших-то родителев, ну, уважили! – заволновался Фома, не чувствуя сырого земляного пола в сенях босыми ногами; он лишь только перебирал ими, словно приплясывал. – Ай да молодцы! Ну, природа! – Он было опять полез к зятю обниматься, но так и застыл в недоумении с полуоткрытым ртом и лишь медленно стал поворачиваться к дверям в избу; оттуда доносилось теперь уже несколько испуганно-изумленных бабьих «ахов», и бабка Илюта все тем же бесстрастным от старости и обыденности любого события в человеческой жизни голосом, все так же с повышенной торжественностью возвестила, что пошел «третенький младенец» и что «бог троицу любит да голубит», и Фома, у которого от нового изумления совершенно остановились и округлились глаза, не мог произнести ни слова, лишь оторопело глядел на зятя, тоже нелепо и растерянно замершего и бессмысленно моргавшего.
– Есть, есть, – радовалась бабка Илюта. – Опять младенчик, опять мужик… Святой крепкий, никак опять к войне? Господи, избави… от…
Алдонин отчаянно рванулся к двери, распахнул ее.
– Туши лампу, старая! Скорей! – гаркнул он перепуганно. – Они на свет лезут!
Его тут же, еще не успевшего толком ничего разобрать, вытолкнули назад, в сени, и Алдонин, тяжело дыша, со страхом прислушиваясь к смутному шуму в избе, несколько помедлил, затем, так и не дождавшись ничего нового, да и не решаясь больше ждать, вышел на улицу; за ним смущенно поспешил Фома. Закурили в молчании, опять-таки непрерывно прислушиваясь к тому, что делалось в избе; Фома, рассуждая сам с собой, сначала неуверенно, но все более воодушевляясь, сказал о том, что это даже хорошо, трое мужиков сразу, никакой тебе более заботы.
– Ты у нас, Кеша, сразу в отцы-героини вышел, – стараясь разговорить по известным причинам ставшего непривычно молчаливым зятя, повысил голос Фома. – За такое геройство мы тебя к ордену всем колхозом приходатайствуем. Пойдем, Кеша-сынок, у меня от бабы есть НЗ, от войны у меня такая хитрость осталась. Пойдем, Кеша, пойдем, тут оно – природа, тут по-другому нельзя, пойдем, – потянул его Фома, и скоро они уже сидели за столом и жарко беседовали, но Алдонин нет-нет да и отодвигал недопитый стакан, задумывался, а когда это случилось в третий или четвертый раз и Фома окончательно пристал к зятю с расспросами, тот поднял голову, долго глядел в потолок, словно окончательно решая что-то, и бухнул:
– Придется козу покупать, папаш, вот оно что.
– Ко-озу? – протянул не сразу сообразивший Фома.
– Козу, – подтвердил Алдонин. – Это животное полезное; жрет мало, а молоко ребятам будет.
– Так-то оно так… У нас в Густищах, сынок Кеша, сроду про козу-то, эту поганую животину, и не слышно было, – осторожно напомнил Фома. – Срам-то у нее весь тебе на улицу… а?
– Эх, папаш, папаш, как погляжу – дикое у вас село! – поднял большой палец Алдонин. – Что такое коза? На ракиту ты ее посади, к примеру, она и там просуществует, корм найдет…
– Ладно, ладно, – остановил его Фома, справедливо полагая, что после такого события, какое только что произошло с его старшей дочерью Танюхой, не каждый может рассуждать в прежнем здравии. – Давай лучше выпьем, сынок Кеша…
Так в Густищах появилось еще сразу трое Алдониных, необычно быстро вставших на ноги, к годовалому возрасту они привыкли почти беспрерывно сновать между своим домом и домом деда, Фомы Куделина, одинаково белоголовые, по крепости похожие на жёлуди с одного ярового дуба.
12Все проходит, все кончается, прошли и эти два года невиданной засухи; стала понемногу проступать и проясняться другая впечатляющая картина. Те густищинцы, которые были убиты в войну (а их число уже подбиралось к полутора сотням), были убиты, и здесь уж ничего нельзя было переменить. Двадцать восемь человек вернулись назад в Густищи кто без руки, кто без ноги, а кто и без глаз, и к этому постепенно привыкли, тем более что такие одноногие, как тракторист Иван Емельянов, стоили куда больше иного незатронутого (сутками не слезал с трактора, однако бабу его дважды увозили в больницу рожать, и всякий раз, несмотря на послевоенную скудность и тяготы, она возвращалась с горластым синеглазым парнем; Емельянов как-то на полевом стане, где собирались на обед трактористы и прицепщики, под всеобщее одобрение объявил Кешке Алдонину, что в следующий раз он непременно перекроет его рекорд с тройней).
Но война породила и совершенно особую категорию пострадавших. Несколько человек остались жить где-то на стороне, побросала семьи, а вот поставленный немцами в войну во главе села староста Торобов, например, каким-то, образом оказался в Австралии и под чужим именем написал своему племяннику в Густищи о том, что работает на ферме, где разводят необыкновенного, диковинного зверя – кенгуру, и тот зверь носит своих щенков в сумке между задних ног и похож на нашего обыкновенного зайца, только скачет куда сильнее, в один раз сажени по две, по три отмахивает. Еще он сообщал, что баба его и дети люто тоскуют в этой чудной Австралии по Густищам, и, бога ради, просил племянника отписать ему, что в Густищах после войны и как. Племянник Торобова, молодой статный фронтовик с полной грудью орденов и медалей, стыдившийся своего неожиданного заграничного родства, письмо из Австралии после его прочтения и изучения с довольно распространенными русскими, к сожалению, непечатными, комментариями в адрес дядьки и австралийского зверя кенгуру швырнул в печку. На этом связь Густищ и Австралии временно оборвалась. Следующая весть пробилась уже из Канады, да еще от кого – от самого видного до войны парня Андрея Разинова, о нем густищинцы говорили: «Ну, этот башка-а, далеко пойдет!» Так вот, как раз этот самый Андрей Разинов оказался после плена в Канаде, где он, как сообщал старухе матери, «…оказался по дурости и потому, что тошно было, просидев всю войну в Германии в подземелье, на военном заводе, возвернуться на родину в таком побитом виде, никак нельзя было мне показаться на глаза своим односельчанам от нечаянного своего сраму. Согласился я поехать на лесные работы в Канаду, работаю тут по лесному делу с местными индейцами, носят они заместо чуба косы, точь-в-точь наши девки. Еще я от такой беспробудной тоски и отчаянности женился на ихней индейской девке, и теперь голова моя пропала совсем. Во всем бабьем деле женка моя индейская устроена, как и наши бабы, только покорностью куда наших девок и баб превосходит, что хочешь с нею делай, хоть режь ты ее, хоть ешь, она только на тебя молиться будет…»
Это письмо широко обсуждалось в Густищах, мать Андрея Разинова, вытирая слезы, ходила из двери в дверь по дворам, охала и причитала, ругала на чем свет стоит непутевого сына, еще больше честила его совратительницу, поганую чужеземную девку, и грозилась написать свою обиду самому Сталину, но ей отсоветовали. Директор густищинской школы Петр Еремеевич написал по ее просьбе ответ в Канаду; старуха Разинова требовала, чтобы Андрейка просил бы власти разрешить ему вернуться домой, так как у него мать старая одна осталась, немощная, скоро глаза закроет. И добавляла, что пусть бы он вернулся, хоть и с той поганой девкой, у матери сердце отходчивое, и такого примет…
Письмо, густо облепленное марками, ушло; о нем, кроме самой матери, скоро все забыли. Отыскались по заграницам еще несколько густищинцев, нашлись человек пять, доселе считавшихся без вести пропавшими, и в своей стране; время шло, накатывались иные заботы, и теперь все воспринималось с меньшей остротой, поговорят-поговорят и перестанут.
* * *
Захар получил очередное письмо из Густищ, от Егора, уже в середине июня сорок восьмого года, в самое бездорожье; основные работы у грузчиков, бригадиром которых уже несколько месяцев был Захар, кончились. Теперь всех разослали по разным местам, а Захар уже вторую неделю бюллетенил: прихватило легкие во время ночных смен на погрузке; фельдшер прописал порошки и велел усилить питание; хмуро выслушав его, Маня молча проводила поселкового лекаря за дверь.
– Сейчас позову соседей, кабана завалю на усиленное питание. Лишь бы языком трепать, – не выдержала она, возвращаясь к Захару. – Не знает будто, что в магазин привезут, то и есть!
– Ладно тебе, – остановил ее Захар. – Его дело сказать…
– Мелет, мелет попусту. – Маня круто заварила кипяток зверобоем, налила в кружку. – Пей, ничего, скоро огород пойдет… Нам-то что, мы свободные, вон Илюшка рыбачит, ягод в лесу полно, проживем… Вот многодетные, те на своей пайке совсем доходят.
В это время Илюша, по-прежнему стеснявшийся Захара и старавшийся держаться в стороне от него, появился в дверях.
– Из Густищ тебе, отец, – подал он Захару письмо и с неловкой поспешностью отошел; Захар взглянул на конверт.
– От Егора, – сказал он Мане, с интересом придвинувшейся ближе. – Сейчас все новости узнаем.
Он стал читать вслух, время от времени останавливаясь в прихлебывая из кружки, питье приятно согревало грудь и пахло хорошей травой. Егор почти на пяти тетрадных листках писал обо всем, что, по его мнению, представляло интерес в Густищах, писал о том, как заезжал в гости Брюханов Тихон Иванович и читал его, Захара, письмо, о том, что говорилось за столом и что сам он с Митькой-партизаном дают на тракторе по две нормы, что он помог Лукерье вспахать огород…
– Видишь, как, – прервал чтение Захар, поднимая светлые, затуманенные воспоминанием глаза, и Маня, благодарно кивнув (она знала, муж просил Егора в письме помочь Лукерье), подумала, что в эту осень мужу сравняется сорок шесть.
Ой, удивилась она, надо же, уже сорок шесть. Захарушка! А он-то еще хоть куда, за три месяца прошлым летом вон какой дом себе заброшенный почти один собственными руками отделал. Печки сам переложил, двери заменил, все сам, Илюшка от него многому научился, ни на шаг от отца, если работа какая. Боже ты мой, с суеверным испугом подумала она, отчего я такая счастливая? Не к добру это, к концу жизни всю хату высветило…
Ей захотелось прижаться к Захару, но, помня, что дети рядом, она сдержалась и, синея заголубевшими глазами, собранная, помолодевшая, вернулась к своим делам. Илюша уселся в другой комнате за чисто выскобленный стол делать уроки, а младший, Вася, ее грех и вечная мука, шумно принялся складывать затейливо выточенные Захаром чурбачки, и она опять подсела к мужу на постель в ногах.
– Курил бы поменьше, по ночам-то в груди у тебя все ходуном ходит, – сказала она, глядя на стеклянное блюдце, доверху набитое окурками. – Чудно мне, Захарушка, – тихо подняла она на него синие-синие глаза. – Что мы здесь сидим, в этой глухомани? Понятно, коли бы уехать нельзя было, как другим. А ты ведь свободный человек, катайся себе во все четыре стороны. Уехали бы домой из этой дремучести… Никак не пойму, что тебя здесь держит.
– Опять ты за свое. – Захар свел брови, это был уже не первый их такой разговор, и поэтому говорил он спокойно. – Баба, Маня, по-другому устроена. Здесь меня никто не знает, что я, как я, здесь я такой же, как все, вон в ударниках хожу. – Он привычно ей диковато усмехнулся, и нельзя было понять, то ли над собой он смеется, то ли в самом деле гордится. – Дома что? Люди как люди кругом, а я – бывший пленный… Каждая сопля в меня пальцем… Вон, скажут, Захар-кобылятник идет, в колхоз всех сгонял, добрых хозяев раскулачивал, а сам в плен угодил.
– Ты ж бегал сколько раз! В горах воевал у этих, у словаков, – с некоторым недовольством, больше по привычке, напомнила Маня. – Они бы попробовали… через минное поле.
– Мало ли что, а кто докажет? – зло оборвал ее Захар и, видя, что она вся сникла, приобнял за плечи, прижал к себе. – Ну чем тебе здесь-то плохо?
– Мне не плохо, мне хорошо, – тотчас кинулась она ему навстречу. – Где ты, там и жизнь моя… Дети-то ни яблочка, ни молочка не видят… И люди кругом… волками друг на друга смотрят. Господи! Мы-то свое отжили, считай, детей бы в тепло вернуть. Васькá бы поддержать, слабенький он.
– Люди везде одинаковые, – помолчав, раздумчиво сказал Захар, – куда ни кинься, всюду одно и то же.
– Не говори, – успокаиваясь от его близости, Маня заговорила ровнее. – Ездили мы в пермяцкую деревню, ох, насмотрелась я. Чудно! – Маня оглянулась на дверь в комнату к детям и еще понизила голос: – Сидим это мы у одной, квасом угощает, а к ней, к матери значит, во-от такой подбегает ребятенок, – Маня, примериваясь, показала на метр от пола, – лет пять ему или шесть: «Матка, кричит, дай цицку, б…» У меня так и захолонуло в груди, а она хоть бы хны. Тут же и выпрастывает из кофты, он пососал, и только его и видели. Я прямо обмерла. Господи, ну и земля! Ну и обычаи! Подивилась я…
– Опять ты не туда глядишь, – засмеялся Захар. – Народ хороший, добрый, работящий… Обычай у них такой, у них такое за скверное слово не считается. Так, вроде красного словца… прибаутки.
– Не знаю, Захар, – не согласилась Маня. – Может, и для красного словца, а жить тут не по себе, страшно. Зима какая… конца нет. А мастера-то, Кирикова, как зарезали… Комендант-то, говорят, совсем спился… все с этим бандюгой, Загребой-то… Опутал коменданта со всех сторон…
– Нам, в чужое мешаться нечего, свое бы расхлебать, – нахмурился Захар.
– Да ведь не просто зарезали, говорят, в карты проиграли… Ну а как на тебя судьба укажет?
– Ты больше слушай, что говорят. Ты себе сколько хочешь знай, а болтай поменьше. Сопела бы себе в две дырки…
– Это ты меня учишь, Захарушка? – Глаза у Мани насмешливо заискрились.
– Учу, а что такого?
– Молчи уж, молчи, горе мое… Сам ты какой? Да, видать, правда твоя, хоть с ней совладать трудно. Загреба вон, зараза плюгавая, девок к себе тягает, он тут и бог и царь, выше – никого… А я вон позавчера зашла к Брыликам-то, в твоей бригаде еще, высокий такой хохол. Хотела тебе сразу сказать, все недосуг. – Захар кивнул, досадуя, что она разъясняет ему то, что он хорошо знает, и Маня заторопилась: – Захожу, значит… Олеся показать узор на кофточку обещала… ну, и обмерла. Семеро пар глаз на меня, все зеленые, все голодные. Старшей-то пятнадцать, а младшему четыре. Какая тут кофточка! Загреба-то, говорит Олеся, на старшую дочку глаз положил, они, видать, из одной местности. Неладно у них, Захар, так жалко детей-то. – Маня отвернулась, скрывая мучившую ее тревогу. – Какая уж там кофточка, какой узор, отнесла я им рыбину, взяла самую… поболе выбрала… Поневоле тоска западет, что ж на свете творится? Хоть тут, в Хибратках, хоть в Москве, у кого сила, тот и прав.
– Нижний этаж, говорят, у Загребы работает куда лучше верхнего, что точно, хоть с виду плюгавый человечишко, – как-то равнодушно подтвердил Захар.
– Что-что? – не поняла Маня, и Захар, взглянув на нее, рассмеялся; Маня, зарумянившись, снова потянулась к нему лучистым взглядом. – Люблю я тебя, черта, – призналась она. – Сама не пойму, за что… С тобой как-то и не страшно. – Оправив покрывало, сшитое из разноцветных лоскутков, она заглянула к сыновьям и принялась готовить ужин. Захар накинул на себя телогрейку, сунул ноги в глубокие галоши, склеенные из автомобильной шины, вышел, и тотчас вокруг привычно зазвенело комарье. И разговоры Мани, и письмо Егора растревожили его, хотелось побыть одному, но руки, лицо тотчас облепила мошкара; отмахиваясь от надоедливого гнуса, он поспешил вернуться. «Надо сказать Илюшке дымокур у порога поставить, – подумал он. – Пора уже».
Ночь выдалась маетная, несколько раз его поднимали приступы кашля, после полуночи сон и вовсе пропал. Он и сам, без напоминания Мани, знал, что жизнь прошла и теперь ничего не изменишь, привык он к этой мысли давно. Мать померла, без него похоронили, даже у могилки не посидел. Старший, Иван, сгинул, как и не было, а глаза зажмуришь, как живой глядит, я, говорит, все, батя, понимаю, я ничего… я так, показалось… ты как виноватый глядишь, а я ничего.
Захар неловко заворочался, до жуткой отчетливости ясно вспоминая тот тяжкий день в своей жизни, когда он заскочил в сарай, схватил в руки веревку и примерил взглядом расстояние от балки до земли, и если бы не застал его старший, Иван, со своим разговором насчет военного училища… Может, от этого грудь разламывает, так бы и выскочил из этих стен, – опять завозился он в душной сейчас постели. Да куда выскочишь-то? Тихон Брюханов в зятьях оказался, ну, это ли не потеха? Тихон Иванович Брюханов его, Захара, зять! Ай да Аленка! Ай да чертова девка! Ну и семя! – с горьким восхищением обругал он свою собственную породу, нашарил папиросы. От вспышки спички темнота отодвинулась, тени побежали по стенам. Он не мог представить себе и Егора взрослым, а тот пишет, что уже работает прицепщиком на тракторе у Митьки-партизана. И этого Митьку Волкова он плохо помнил, и почему его прозвали партизаном, не знал, в партизанах-то, почитай, все село было, а Егор написать все забывал, хотя Захар просил об этом дважды. Но даже не это сейчас заботило Захара, ему отчетливо и больно подумалось, что зря он родился, себя и других мучил и никому – ни себе, ни бабам, которых любил и которые его любили, – не дал ни радости, ни счастья. Что же это за жизнь такая? – изумился он, жадно затягиваясь жарким дымом. – Не повезло мне, с самого начала пошло под горку, не остановишь. Мане легко говорить «уедем», а куда? Главное-то – зачем? Что переменится в жизни? Ничего не переменится. Был Захар-кобылятник, так и остался. Теперь же… ну, пойдет он к коменданту, вступится за этого хохла Брылика (говорят, каких-то бандеровцев укрывал), ну и что? Загреба со своей шайкой тут же пронюхает обо всем, пристукнет где-нибудь в глухомани, и следов не останется. Детей изводить начнут, черт-те что творится. Раков-то, комендант, в самом деле соплей оказался, хоть и фронтовик, контужен вроде под Варшавой… Черт-те что…
Захар загасил окурок; сон по-прежнему не шел, он вспомнил, как его самого в первый раз вызвали в управление на опрос и молодой, лет двадцати восьми, худощавый, с тонкими губами следователь, сосредоточенно выслушивая, слегка клоня голову в левый бок, записывал ответы.








