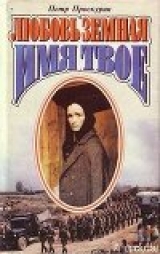
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 64 страниц)
Все с той же умело скрываемой от других душевной сумятицей Брюханов объехав несколько самых неблагополучных районов, завернул в один из богатейших до войны колхозов. И председатель ему был знаком: пожилой, уравновешенный мужик, один из тех, кому пришлось доходить до всего, как принято говорить, собственным горбом. Колхоз вот уже второй год не выполнял план хлебозаготовок, и Брюханов, едва взглянув председателю в лицо, еще больше расстроился.
– Ну, что будем делать, Артемьев? – спросил он без лишних околичностей, и тот, приглаживая на лысине остатки когда-то русой, а теперь пепельно-серой, вечно взъерошенной шевелюры, как это часто делает русский человек, когда отвечать нечего, с привычной отрешенностью глянул в окно, словно еще надеялся в последний момент на спасительное чудо.
– Очень плохо? – опять спросил Брюханов, проникаясь к нему непонятным сочувствием, но больше потому, что нужно было как-то подбодрить, очевидно, во всем разуверившегося человека. Брюханов сейчас спрашивал не только Артемьева, но и самого себя, как бы еще и еще раз проверяя некую очевидную, но очень уже неприятную, угнетающую истину, с которой не хотелось окончательно соглашаться. Артемьев хоть и продолжал молчать, но от окна оторвался.
– Раз говорить нечего, Андрей Гаврилович, пойдем, что ли, по хозяйству пройдемся, – предложил Брюханов.
– Нам – как скажете, – обрел голос Артемьев, упорно разглаживая широкими, сильными ладонями подвернувшуюся ему под руки районную газету с крупной фотографией двух смеющихся женщин. – У нас доярки хорошие есть, вот эти наши, в газетке-то, – кивнул он. – Паша Малеева да Софья Трофимовна Волобуева, за прошлый год надои в три с половиной тыщи у каждой. Вроде живем… письма тоже подписываем. Вроде порядок…
– Пройдемся в поле, Андрей Гаврилович, – предложил Брюханов, и Артемьев, помедлив, понимающе кивнул, аккуратно сложил газету, бережливо сунул ее в ящик стола и вздохнул.
По проселочной дороге Федотыч отвез их километра за три, и Брюханов, твердо вознамерившись во что бы то ни стало вызвать Артемьева на откровенный разговор, отослал машину назад, но это оказалось не так просто. Артемьев не отставая молча шел рядом; ранние яровые хлеба в основном были уже скошены, там и сям бугрились ометы обмолоченной соломы, над стерней низко, с хриплыми криками носились стаи молодых грачей. Далеко по пригорку полз ряд высоких возов сена. Брюханов остановился, поглядел: было видно пространно и даже как-то резко вокруг.
– Красивая у нас земля, Андрей Гаврилович, – сказал он, и Артемьев тоже сощурился, не спеша окинул взглядом все, что было видно, – начиная с возов сена, медленно исчезавших, словно погружавшихся за пригорок, до каких-то неясных маленьких фигурок километрах в двух, суетливо двигавшихся по стерне у березовой рощицы, окаймлявшей далекие овраги, от одного края неба, совершенно чистого, пронизанного слегка сгущавшейся перед наступлением вечера голубизной, до другого, резко уставленного белоснежными ворохами облаков.
– Детишки колоски собирают, – вздохнул Артемьев. – От леса не отходят, как что, они туда, в овраги. А в сумерках – домой, фунтов восемь – десять зерница и набирают…
Брюханов тоже поглядел в сторону рощицы; он не почувствовал ни раздражения, ни досады, этот молчаливый мужик одной фразой вернул его к действительности, к самому важному и больному.
– Объездчик с ними не управляется, – добавил Артемьев. – Он в один край, они в другой…
– А ты, Андрей Гаврилович, оказывается, злой, – словно бы удивился и огорчился Брюханов и оглянулся: в серых главах Артемьева зажегся огонек.
– Может, и злой, – согласился он. – Только вряд ли, Тихон Иванович. Вы вот приехали, поглядели, ну, мужик, думаете, пень пнем, хоть с какого бока его ковыряй, молчит себе. Молчу, правда ваша, а потому молчу – сказать нечего. Вы тут у нас снадобье ищете, а его тут у нас нету, вот и молчу. Такая теперь пора приступила – перестало у нас снадобье родить, ни в лугах, ни в лесах… Может, и есть где такие места, а у нас они перевелись, Тихон Иванович…
– Я ведь к тебе со всем сердцем, Андрей Гаврилович.
– Вижу… Только у меня за душой малой крупицы не осталось. Как говорю, так и есть. Худо на земле, Тихон Иванович, что-то в самих кореньях гнилью взялось. Нет у них больше сил в колос-то тянуть, зерно наливать. А отчего так – моей голове не осилить, неученый я… Одно знаю – не переменится, быть ох какому запустению… беда…
Они уже давно опять шли рядом; Брюханов внимательно слушал разговорившегося наконец Артемьева, как бы еще и еще раз проверял себя и не мог согласиться со справедливостью его доводов.
– Фининспекторы, агенты по мясу, – говорил Артемьев, загибая короткие пальцы. – Да где это видано? Люди годами ничего не получают, где же они возьмут это мясо? Какие из них после этого работники на земле? Самим есть нечего, не то что курицу кормить. Какое яйцо? Какое мясо? У себя, что ли, срезать? Так не возьмут, одна кожа да кости.
Лет пятидесяти пяти, невысокий, худой, с резко суженными к вискам глазами, Артемьев, пользуясь молчаливым согласием Брюханова, высказывал не стесняясь все, что у него наболело; да, впрочем, Брюханов и приехал, чтобы утвердиться в каких-то своих мыслях, наблюдениях и даже выводах непосредственно на месте, там, где все решалось и в силу многих и многих причин и обстоятельств не могло и не должно было не решиться, с какой-то непривычной жадностью слушая сейчас Артемьева, понимал это все много отчетливее и безжалостнее, чем день или даже час назад. Земля была истощена до предела, ее привычные, веками устоявшиеся связи с людьми, всегда выражавшиеся в обоюдной взаимозависимости, в двусторонней отдаче, были безжалостно обрублены. Этот неуклюжий на первый, поверхностный взгляд мужик был абсолютно прав, начался труднообратимый процесс, прекратить или повернуть который в иное русло возможно было энергичной, революционной, не боящейся корневой ломки волей.
Возвращаясь в одиночестве (захотелось побыть наедине в тишиной и своими мыслями), Брюханов, уже входя в село, наткнулся на бегущего навстречу ему из вишневых кустов мальчонку лет девяти, а за ним с криком гналась женщина; мальчонка запнулся, упал, женщина тут же настигла его и сердито хлестнула ивовым прутом; мальчонка, молча, помогая себе ногами, отъезжал от нее задом по земле, но она все не выпускала его, плача и что-то приговаривая. Брюханов подбежал, перехватил прут, но закусившая удила баба слепо рванула прут к себе, обжигая кожу на ладони Брюханова; стиснув зубы, тот удержался, перехватил прут другой рукой, сломал его и, оглянувшись, увидел мальчонку, резво бегущего уже далеко в поле. Женщина, отшвырнув от себя оставшийся у нее обломок прута и приходя в себя, несколько раз коротко вздохнула; глаза ее отошли, стали осмысленнее.
– Вас же судить могли, за что вы его так? – тихо покачал головой Брюханов.
– А твое какое дело? – грубо ответила женщина, поправляя выбившиеся из-под платка волосы; руки у нее еще вздрагивали. – Ты меня судом не стращай… – Она кивнула в сторону села, резко повернулась и пошла; Брюханов догнал ее и зашагал рядом. – Черт конопатый, – внезапно заговорила женщина, – куда ни схоронишь, все равно найдет и сожрет… а их еще двое, и каждый есть хочет… На ужин оставила по куску хлеба, аж под застреху засунула… О господи, и в кого такой черт уродился? – растерянно развела она руками, и Брюханов опустил голову, он сейчас не мог встретиться с ней глазами. У него были с собою деньги, и первым его движением было достать бумажник, но он тут же невольно отдернул руку.
– Никто тут не виноват, – сказал он тихо, дав женщине выговориться. – Надо потерпеть, все наладится, своя ведь, Советская власть…
– Своя, своя, знаем, что своя!
– Вы хоть знаете, с кем говорите? – спросил Брюханов.
– Как же! Видела на портрете, голосовала в прошлом году! – Глаза женщины колюче и насмешливо сузились. – Спасибо, товарищ депутат, за хорошую жизнь, спасибо сердечное! – Она неожиданно быстро и низко поклонилась и, не успел Брюханов опомниться, уже исчезла за ракитами, тесно обступившими какую-то приземистую постройку.
Глаза женщины и привычно озлобленное лицо мальчишки, ее сына, не от хорошей жизни украдкой слопавшего скудный ужин на всю семью и понесшего за это законную кару, не шли у него из головы; блуждая беспокойным взглядом по избам, по плетням, по глубоким рытвинам, выбитым колесами машин на улице села еще по весне, он задержался на двух телятах, привязанных к изгородям. Один лежал, второй, натягивая удерживающую его веревку, то и дело начинал призывно мычать, и это несколько оживляло пустынную улицу. Глядя на этих телят, Брюханов почему-то вспомнил, как он почти два года назад; в день отмены карточек, пошел к вечеру побродить по магазинам, по шумному и оживленному городу, и с каким-то непередаваемым чувством своей личной причастности к общей радости всякий раз, стоя в стороне, наблюдал за шумными стайками ребятишек, впервые за несколько лет свободно покупавших по сто граммов конфет или печенья, тут же празднично угощавших друг друга, и съедавших давно забытые лакомства, и вновь бросавшихся к прилавку, просивших взрослых пропустить их без очереди…
И опять, как и тогда, в морозный декабрьский вечер, он, скрывая волнение, сердито прокашлялся, еще раз оглянулся и быстро пошел по улице.
Федотыча с машиной у конторы не было; присев на грубо сколоченную скамейку у крыльца, Брюханов закурил. Неподалеку, словно только и ждали появления Брюханова, сбежались и стали, резко наскакивая друг на друга, драться два петуха, затем откуда-то появилась старуха, что-то сердито приговаривая, расшвыряла их палкой. Протрусила, на ходу повернув к Брюханову голову с умными глазами, по своим делам шустрая, с большими ушами собака. Он прикрыл глаза; несмотря на усталость, голова была неприятно ясной; хочешь не хочешь, подумал он как-то безразлично, а раньше часа ночи домой теперь не попадешь. А там сразу в Москву, да еще почему-то срочно. Что ж, он готов отвечать за свои поступки, готов взять на себя всю полноту ответственности. Эта борьба между совестью и тем, что он нередко вынужден был делать, мучила его; зерно, запавшее в душу, неожиданно проросло; теперь уже лично от него самого мало что зависело.
«Взять на себя всю полноту ответственности…» – ясно вспомнились Брюханову неровные строчки из дневника Петрова; все-таки, несмотря на все свои зарекания, он время от времени, если становилось особо неуютно и пусто на душе, заглядывал в него, и это уже получалось помимо его воли. Но никогда раньше он не испытывал той беспомощности перед жизнью, что охватила его сейчас, едва он вспомнил о бумагах Петрова, и память еще и еще раз против его воли выхватывала, точно дразня и издеваясь над ним, то одно, то другое место. А если это всего лишь та самая волшебная палочка? – тут же подумал он с хорошо знакомым и неприятным, злым раздражением, возникавшим всякий раз, когда ему приходилось хоть как-то соприкасаться с дневником Петрова. А если допустить другое? Чем больше копаешь, тем глубже она уходит, и так без конца. Если ее вообще нет и весь смысл только в том, чтобы копать и копать… Если даже и это от бессилия постичь самое главное, бегство от самого себя? Могла ли она быть, эта волшебная палочка, у Петрова? Есть ли она даже у самого Сталина? И есть ли она у кого-нибудь вообще? Зачем же пытаться примирить непримиримое, это то же, что пытаться пройти над пропастью по воображаемому мосту… А что же тогда остается? – опять спросил Брюханов. Многое, очень многое… Эта деревенская улица, пыльные ракиты… Голодный, побитый матерью мальчишка, до сих пор, очевидно, прячущийся на речке или в лесу… Сотни, тысячи самых обычных, необходимых дел… Аленка с Ксеней… Тот же Чубарев…
К ногам Брюханова все ближе подбиралось низившееся солнце.
Щуря усталые глаза, Петров оторвался от бумаги, отодвинул от себя пустой стакан с недопитым чаем, недовольно посмотрел на дверь. «Кто бы это мог так поздно? Двенадцатый час… Неужели жена так неожиданно?» – обрадовался он, открыл дверь и удивленно отступил. Перед ним стоял худой, невысокий человек в странном, непривычном одеянии, в длинном, до колен, потертом сюртуке, с выглядывавшим из-под него краем клетчатой рубахи. Лицо его обросло всклокоченной, давно не чесанной бородой, но Петрова сразу же приковали его глаза, немигающие, с большими, резкими зрачками, в них словно застыл какой-то вызов. «Монах? Маньяк? Сумасшедший? – пронеслось в мыслях Петрова. – Постовой его не заметил…» Незнакомец ждал, глаза его, наполненные горячим блеском, напряженно следили за каждым движением Петрова.
– Вы ошиблись? – подал голос Петров, невольно вовлекаясь в какое-то внутреннее единоборство с неожиданным гостем и отмечая про себя его неуверенность и нездоровый цвет лица.
– Вороны, вороны, – быстро и неясно пробормотал пришедший. – Во все небо вороны, адская нечисть… чуть дрема накатит, крылами бьют, небо затмили. – Его глаза, словно окна в неведомый, хватающий за душу мир, наконец, к облегчению Петрова, прикрылись тяжелыми старческими веками. – Десятый год не сплю… шелестят крылами… вороны, саранча, саранча была в княжение Иоанново, неба не видно, так и вскакиваю, нету сна в мире, нету отдохновения. – Голос пришедшего окреп, и Петрову пришлось сделать усилие, чтобы сохранить спокойствие, под глазами дрогнуло…
– Кто вас сюда послал? – невольно резче, чем ему хотелось бы, спросил Петров. – В чем, собственно, причина?
– Гонцы – божьи вестники, – ответил пришедший, и в голосе у него послышалось ожидание. – Никто их не присылает, сами, только двери жилищ, могильные плиты, страшно открыть чужому, неведомому, запустение и разврат… – Он опять не отрывал от Петрова воспаленных глаз, и у него на лбу и щеках появились старческие розово-бледные пятна.
– Да вы больны, кажется, – сказал Петров тише.
– Пристанища мы жаждем… а плоть жалка, греховна… Не может сия юдоль вместить божий дух. Вороны… вороны…
– Заходите. Что-то у вас, видимо, стряслось, если пришли, без дела ко мне не приходят. – Сам не понимая, почему он это делает, Петров посторонился, пропуская в комнату позднего гостя. Вместе с ним появилось давно забытое ощущение остроты и беспредельности просторов жизни, интересно, какое место в ее процессах занимает этот пришелец? Из каких-то всклокоченных, неизвестных глубин вынырнул еще один удивительный, ни на что не похожий человек и теперь, неуверенно присев у стола, пристально, немигающе следил за тем, как Петров неторопливо и тщательно закрыл дверь, пересек комнату, достал из буфета чистый стакан и сахар (сам он пил всегда крепчайший чай без сахара), наполнил стаканы янтарным остывшим чаем, придвинул гостю галеты, сыр и принялся грызть галеты крепкими желтоватыми зубами, выжидательно глядя на пришельца. С добротных сапог у того натекли на паркет грязные лужицы, он взглянул, подобрал ноги подальше под кресло и продолжал пристально и подробно разглядывать обстановку кабинета, задерживаясь тяжелым, немигающим взглядом на книжных полках, и опять в глазах у него пробежала искорка интереса.
– Прошу, что же вы чай не пьете? Не хотите? Или подогреть?
– Какой чай, – отказался пришелец, слабо шевельнув длинной, худой кистью руки. – До чая ли в ночное время. Плоть греховна, услаждение ее пагубно для духа…
Прислушиваясь к глуховатому голосу ночного гостя, казалось, вслух, наедине с самим собою читавшего какую-то полузабытую книгу, Петров слегка склонил голову.
– Если все-таки конкретнее? Ближе к делу? – спросил он.
– Монах и пустынник Иероним из той бывшей Зежской пустыни, что была разгромлена и осквернена твоей волей, – опять затосковал пришедший. – Не со мной стряслась беда, с божьим храмом.
– Вы что же, пустынник Иероним, жалуетесь? – спросил Петров, в свою очередь исподволь изучая лицо пустынника. – И чаю не хотите?
– Чай – мирская потеха и суета, – поморщился пустынник Иероним, – в душе провал, все затмило бесовское глумление, одна чернота… Как дальше жить?
– Вы уверены, Иероним, что я смогу утолить вашу жажду?
– Все смешалось… У гроба матери бесовские пляски, блудодейство, – с грустной укоризной заметил пустынник Иероним и кивнул на разложенные на столе бумаги и таблицы; в его густой, всклокоченной бороде влажной, горячей полосой сверкнули зубы. – Тебя большим человеком считают, а ты прямо слово боишься молвить… Душевное плюгавство разъело… Как жить-то? Скоротечные заботы… все о себе, все о себе! А дух в запустении…
Пустынник Иероним стиснул руки и в неожиданной вспышке бессильной ярости потряс ими над головой, а Петрова охватила тупая, разъедающая усталость, сказывалось напряжение последних дней; пустынник словно отодвинулся куда-то в сторону; он попытался встряхнуться, не смог, тотчас решил, что он уснул за столом и что этот попавший под колеса жизни пустынник тоже сон, так, причудливая игра памяти… и его, Петрова, вовлек в себя все тот же жестокий, плотный поток, и они только на мгновение столкнулись в этих неуловимо несущихся друг другу навстречу плоскостях, с тем чтобы никогда больше не встретиться.
– Гнев никогда не был опорой мудрости, – услышал Петров далекий, как бы удаляющийся голос, вздрогнул, удивленно глянул. Что за черт! Ничего не исчезло, странный ночной пришелец с бессонными, больными, почти немигающими глазами все так же неподвижно сидел перед столом, и Петров сильно потер виски и лоб. Темные натеки на паркете расползлись сильнее, но запах нечистого, давно не мытого тела исчез, теперь в комнате неуловимо пахло грибами. Приходя в себя, несколько обескураженный и раздосадованный тем, что каким-то образом не вовремя задремал, Петров запоздало обругал себя, в такую историю, насколько он помнил, он еще не попадал.
– Господь дал тебе отдохновение, – сказал мягко пустынник. – Ночь сморила…
– Сколько же я спал? – спросил Петров с недоверием.
– Тщетен бог мирского времени, что считать, – трудно вздохнул пустынник, был он занят чем-то другим, своим, несравненно более важным. – За откровение твоей души в этот короткий сон возблагодари господа… Забудь, прости себе и другим… Вороны-то летают… Ох, терзают… вырвали душу-то… вороны, вороны…
– Чью душу, старик? Что вы мелете среди ночи-то? – тихо спросил Петров, осторожно отхлебывая холодный чай. – Нелепый у нас с вами разговор… Вороны, воробьи, вороны… Летают, а что же им делать? Что вы от меня хотите? Помощи? Какой? Вас обидели?
Пустынник потянулся к Петрову, словно хотел и не мог вспомнить, чего-то самого важного, из-под длинных, тяжелых волос выглянуло маленькое хрящеватое ухо.
– В мире нехорошо… пусто,.. Ничего не знаю, ничего не пойму… Вы разделили единое, на вас ответ, на вас и страх. Сказано: жатвы много, а делателей мало… – шевельнулся пустынник, и у Петрова вдруг появилось чувство, что он видит перед собой слепого, который идет по узкой тропке, постукивая впереди себя палкой, и не может свернуть в сторону; был он худ и пронзительно беззащитен на своей одинокой тропе.
– Ну, святые писания я и сам знаю, а если ближе к делу… что же вы мне проповеди взялись читать? Вы все сказали? Если все, идите, – четко, с усилием выговорил Петров, думая, что это скорее всего очередная провокация, с вымученной усмешкой глядя в наполненные дрожащей синеватой влагой белые глаза пустынника и жалея его. – Кому-то, вероятно, хочется, чтобы вы умерли мучеником и святым? Ни крови, ни мук не будет! Идите.
– А ты не побоишься пойти со мной? – как-то с неожиданным интересом спросил пустынник, весь обмякая и ссутуливаясь. – Совсем недалеко…
– Зачем?
– Чтобы мои слова обернулись для тебя делом. Не бойся, я один, никого у меня нет, плохого тебе не сделаю. Стар… болен, – пустынник не отрывал глаз от лица Петрова. – А ты погляди… Может, свет божий войдет тебе в душу…
Взгляд Петрова остановился на телефоне, и пустынник, словно давно ждал этого, медленно подобрал под себя ноги, лицо его еще построжало, но в то же время в нем появилось разочарование; тотчас он, насмешливо и ожидающе оскалившись, замер.
Это длилось недолго. Петров прислушался к бесшумно таявшей ночи, к себе. Было достаточно одного слова, чтобы этот старик встал, шагнул к двери и бесследно исчез, растворился в ночи, вероятно, время от времени в сумятице бесконечных дел раз-другой мелькнет затем размятым пятном. И сам исчезнет, и то, ради чего пришел и сидит, оскалившись, как бы еще и еще раз окончательно утверждая в себе скверну и мерзость человеческой породы; Петров еще никогда не встречал такого разрушительно-безжалостного выражения лица, такого, казалось бы, все постигшего, не способного больше ничему удивляться взгляда; в комнате усилился запах хороших лесных грибов.
Петров задержал дыхание, удивляясь себе и в то же время с разгоравшейся ясностью, что иначе поступать невозможно, быстро встал из-за стола, шагнул к двери, надев по дороге фуражку. Его остановил голос пустынника.
– Пиджачок… пиджачок захвати, – с неожиданной заботой посоветовал он. – Сыро в ночи, ветер, тьма…
Петров недовольно оглянулся, но привычно набросил на себя кожаное пальто, и вскоре они уже шли по притихшим, темным улицам города; пустынник, несмотря на свою худобу и немощь, двигался как-то плавно и бесшумно, всякий раз тихо предупреждая Петрова, когда нужно было сворачивать или обойти неровное место.
Нахохлившись, спрятав руки в карманы пальто, Петров едва поспевал за ним и запоздало злился, правда, больше на себя, чем на пустынника; теперь все произошедшее начинало приобретать комический оттенок, и Петров, отворачиваясь от резкого встречного ветра, хмуро посмеивался над собой, хотя что-то по-прежнему заставляло его идти за пустынником. Ну что ж, думал он, вызов принят, теперь безразлично, что о нем подумают, как видно, это одна из тех немногих минут, когда убеждения нужно отстаивать… и перед другим, невзирая на то, кто он и что, и прежде всего перед самим собой, когда нет ни малейшей возможности шагнуть в сторону, и эта принудительная, ненужная честность до конца в отношении самого себя может свести с ума… Совсем забытое ощущение… тот же настороженный, острый холодок в плечах, как когда-то в кабинете жандармского ротмистра…
За все время пути им не встретилось ни одной живой души, только однажды из какой-то подворотни легкой тенью метнулась бездомная собака; пустынник Иероним, не замедляя шага, привычно перекрестился.
Темнота, усилившаяся к рассвету, все поглощала и размывала; все тонуло в ней, дома, деревья, заборы, и только время от времени проступали какие-то бесформенные, безликие контуры, фигура пустынника делалась то огромной, то соврем пропадала, и тогда Петров шел больше по слуху; бесшумные, мягкие шаги точно окружали его со всех сторон.
Петров никогда не носил с собой оружия и сейчас подумал об этом, пытаясь хоть как-то сориентироваться и понять, каким путем они идут. Он хорошо знал Холмск, по всей вероятности, пустынник кружил где-то в черте старого центра, и, однако, когда начался подъем, Петров понял, что из центра они давно уже вышли и теперь поднимаются к Крепостному холму, к городищу, как называли его старые жители. Это была пустынная, полуразрушенная часть Холмска, кое-где с остатками старых крепостных стен, с несколькими церквами и колокольнями, с редкими вековыми деревьями, которые по весне густо покрывались галдящими грачами, с приткнувшимся сбоку к крепостным сооружениям бывшим женским монастырем с многочисленными кельями, трапезными и прочими монастырскими строениями.
Слегка покачиваясь, пустынник легко, словно это не стоило ему никаких усилий, поднимался все выше и выше и остановился наконец почти на самой вершине холма, ветер рвал у него полы сюртука. Петров, не привыкший к такой быстрой ходьбе, совсем задохнулся; в это время где-то высоко послышались птичья возня и гомон, и Петров невольно покосился во тьму.
– Вороны… вороны… Слава господу, пришли, – глухо пробормотал пустынник, и Петров, несколько освоившийся с темнотой, различил, что они стоят перед грудой развалин.
– Развалины святого храма божьей матери Холмской, – голос пустынника прерывался порывами ветра, – По твоему повелению разрушили для мощения центральной улицы Холмска. Под ноги, все под ноги, аки дикий кочевник… Спит голос духа, плоть лютует, ярится… Дивно, дивно стало жить в мире… вороны… вороны, одни вороны в небе…
– Когда же это случилось? – угрюмо спросил Петров, плотнее запахивая настывшее пальто и чувствуя текучий озноб в душе; мрак, висевший над городом, над Крепостным холмом, физически давил, почти нечем стало дышать.
– Недели полторы тому, – глухо, словно сквозь забившую уши вату, дошел до него голос пустынника. – Камня потребовалось малость, уж и возить перестали… а народ с храма камень не берет, у народа душа крещеная.
Последние слова пустынника особенно неприятно поразили Петрова, он действительно ничего не знал, что, впрочем, теперь уже не имело никакого значения; за все, что происходило и происходит в Холмске, отвечает он, и перекладывать с себя вину и обвинять кого бы то ни было смешно и наивно.
– Возможно, церковь-то никакой исторической ценности не представляла? – подумал он вслух все так же угрюмо, с ширившейся в душе пустотой. – Сколько их поналепили на земле…
– Не кощунствуй! На этом месте камни святы! Склони ухо… вопиют! вопиют! – поспешил остановить его пустынник. – Что ты говоришь, что ты говоришь! Человек хоть в праздники должен в согласии со своей природой быть. Храм божий сиял лучезарно во тьме и пороках, – пустынник простер было руку в сторону развалин, но тотчас бессильно уронил ее, стал слепо и бережно ощупывать какую то бесформенную глыбу. – Звонница в храме сем заложена была еще основателем Холмска князем Всеволодом Святым Холмским до монгольского разорения… Работа чудная, византийских мастеров… Здесь, в храмовых подземельях, захоронены холмские князья, великие ратные люди. Вороны… вороны! Все в грязь, все под ноги. – Голос пустынника пресекся, и он некоторое время пытался справиться с обессиливающей слабостью тела, затем снова заговорил; он не грозил, не требовал, лишь тихо, горестно размышлял сам с собою, о том, чего не мог понять и что его беспредельно мучило.
Ударил особо сильный порыв ветра, загудел, заныл в развалинах; пустынник захлебнулся, жалко закашлялся и словно совсем забыл о Петрове.
– Красоту-то какую все под ноги, под ноги, – бормотал он вперемежку с кашлем. – Камень огнем возьмется… Вороны, вороны… Нет народа без пророков. Во лжи будет приходить человек на свет, во лжи уходить в конце дней своих… не коснется уха слово истины… Вижу, вижу… в самом зачатии пророки ослеплены, обезъязычены… Зрю… распяты на крестах огненных… вороны… вороны… Горе вам, обуянные гордыней адовой… струпьями души вернется содеянное… пожрут сыновья отцов… жены рыщут волчицами… Господь всемогущий, господь вседержитель, даруй прощение, в слепоте души сие… по дьявольскому наущению сие…
Петров не мешал старику молиться, не вслушиваясь больше в его несвязное бормотание, он думал о своем; кончалась ночь, край неба на востоке набух рыхлой, едва проступавшей серостью, ветер становился острее и резче; здесь, на вершине холма, негде было укрыться от его резких, пронизывающих порывов. С трудом удерживаясь на ногах, пряча лицо в поднятый воротник, Петров, встречая уже прорезавшееся утро нового дня, на время как бы отошел и от пустынника, и от его тоски, и от всех остальных неотложных своих дел и обязанностей; возвышавшийся над городом Крепостной холм, смутно проступая в предрассветной тьме развалинами, был наполнен гулом, каким-то скрытым движением. Очевидно, от этого желание безрассудства ударило в голову, прошило огнем. Почему именно здесь, под рваными тучами, на холме у этих развалин, прорвалось то, о чем он никогда не разрешал себе думать? Была работа, работа, работа, только работа, были четкие задачи и цели, и вот одна нелепая ночь, одна случайная встреча – и прорвалось то, чего он никогда в себе не подозревал. Что-то стронулось, что-то сместилось в его мире; если была жестокость, то она была определена высшими целями, но оказывается, что есть еще история народа, смысл и гармония вечной красоты, и она не укладывалась ни в какие определения и законы, она словно изначально была заложена в основы его души и вот теперь дала себя знать, но сколько раз прежде он не обращал на это внимания. Почему?
– Пойдем, – позвал пустынник, и Петров не колеблясь, словно между ними уже установилась какая-то внутренняя связь, шагнул следом, и минут пятнадцать они молча пробирались через мертвые беспорядочные груды камня.
Протиснувшись через какой-то завал, пустынник нырнул под искореженные взрывом железные скрепы, словно под арку, Петров ощупью следовал за ним. Загремело; тяжело дыша, пустынник стал отваливать камни, и Петров понял, что он расчищает вход в подземелье; почувствовался текущий навстречу холодный, застоявшийся в сырости воздух. С трудом сдвинув в сторону еще одну глыбу намертво запекшегося в старинном растворе кирпича, пустынник нажал плечом на невысокую, кованную железом тяжелую дверь, и она с ржавым скрипом поддалась; ток пропитанного запахами тления воздуха, сырости, плесени усилился. Пустынник обернулся к Петрову, указывая на подземную щель, и тот шагнул за ним в непроницаемую тьму. Где-то совсем рядом чиркнула спичка, и Петров увидел пустынника, зажигавшего свечу, услышал легкое потрескивание загоревшегося фитиля; смутные, бесформенные тени зашевелились в сводчатом, низком проходе, выложенном старинным плоским кирпичом. Пустынник отдал горевшую свечу Петрову, зажег себе вторую и, коротко кивнув, снова двинулся по какой-то сложной системе подземных переходов, то поднимаясь вверх, то спускаясь глубоко вниз, сгибаясь при этом почти вполовину; Петров ни о чем не спрашивал, лишь старался не отставать от него.
Наконец они оказались в сводчатом низком зале, и Петров понял, что это центральное помещение подземного лабиринта бывшего храма; свет горевших свечей не пересиливал тьму в его углах. Тяжело дыша, с густо выступившим потом на лбу, пустынник устало привалился к каменной переборке, сосредоточенно думая о чем-то своем; высоко подняв свечу, Петров внимательно пригляделся. У одной из стен он увидел возвышающиеся над полом плиты; покрытые затейливой, затекшей старинной славянской вязью – кириллицей, они словно бы размягчились от сырости и времени; Петров напрасно старался хоть что-либо разобрать и только беспомощно щурился сквозь очки.
– Захоронение первых холмских князей, основавших и построивших сей град… Тут вот святые отцы – пустынники Федор Зежский и Данила Холмский. На их мощах основан сей храм еще до монгольского разорения. Велик был бой за холмскую крепость… Гляди сюда, вот плита, под ней прах Холмского Всеволода… пал в этой сече… Пал, но меча из рук не выпустил. Здесь он захоронен, монголы не ступили на этот святой холм… Века, века не коснулись…








