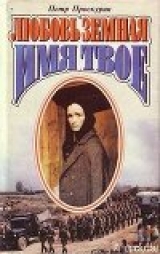
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 64 страниц)
Весна переходит в лето без заметных усилий, и лето так же незаметно переходит в осень; жухнут травы, идут монотонные дожди, идут по два-три дня, а то и неделями; жизнь кажется бесцельной, бессмысленной тратой сил, расползаются из берегов переполненные свинцовые реки, невесело темнеют мокрые леса, в полях осенняя тусклость и все то же щемящее беспокойство. Где-то под самыми тучами, ползущими над землею низко и рвано, прокричат гуси или в грустной обреченности простонут редкие теперь журавли, и опять шум дождя да шорох ветра, опять человек вздрагивает от каждого неясного звука и ему все кажется, что еще минута – и он окажется лицом к лицу с темной загадкой, на которую он и не думал, и не хочет получить ответа…
Осень начинается где-то в конце августа; возьмется на бахче переспелый арбуз сочащейся кроваво-красной извилистой трещиной, и тотчас в великом множестве слетятся мухи и наползут муравьи на это нечаянное сладкое, дурманящее пиршество, будет вся эта многочисленная суетливая мелкота лакомиться сытным, прохладным соком земли, и разыграются на этом пиршестве свои трагедии и битвы: один из муравьев свирепо налетит на другого, тот послушно отступит по закону слабого, заискивающе пошевелит усиками, узнавая; или муха безвозвратно завязнет в сочной мякоти, а муравьи уж тут как тут, бегут, торопятся на ее отчаянное жужжание, перекусывают ноги и крылья, еще живую куда-то с упоением тащат, цепляясь друг за друга и передавая друг другу добычу; все вокруг согласно волнуется и шумит, солнце светит, ветер жарко стелется по земле. Сухо. Но оторвется с клена яркий, узорчатый лист, косо пролетит к земле, заворачивая вверх то один, то другой край, затем мягко коснется земли и останется лежать ярким пятном, и тотчас неосознанная тревога и грусть шевельнут душу. Осень уже недалеко, это ее первое, осторожное дыхание, оно будет густеть и крепнуть с каждым днем и скоро кричащим гулом красок окутает леса и сады и вдруг двумя-тремя ударами крепкого ветра и дождя разом собьет эти гулкие, кричащие краски… И тотчас проступят голые ветки, станет пустыннее и холоднее, небо поблекнет, а там подоспеют и монотонные осенние дожди, затянут мутным пологом овраги и низины, остановят полевые работы; дороги покроются жидкими грязевыми потоками, болота разбухнут, села утонут в однообразном шелесте дождя, будет низко стлаться над ними горчащий мокрый дымок из печных труб. По его запаху в таку. осеннюю мокрую ночь можно определить, что у соседей варят на ужин или кто потихоньку уже наладил выпариваyие самогона… Осень накроет и села, и малые, всего в десяток дворов, хутора, и большие дымные города с их шумом, стройными рядами уличных фонарей, мокро заблестит асфальт, грустно нахохлятся отсыревшие деревянные лошадки на опустевших каруселях, и редкая парочка забредет в темные аллеи голого, по-осеннему неуютного городского парка.
Каждый относится к осени по-своему, так же, как к весне или к лету; один, скажем, любит осетровый балычок, а другой редьку с крестьянским квасом или перетомившиеся русские щи, одним словом, нет в мире одинаковых вкусов и привычек ни в погоде, ни в пище, ни в чем другом. В Густищах осень была встречена нерадостно, как и во многих окрестных селах, потому что на трудодень, кроме ста двадцати граммов ржи, ничего больше не вышло; бабы, приобретшие в войну невероятные способности в смысле экономии, уже все рассчитали далеко, чуть ли не на год вперед. Пока можно было перебиться всякими овощами, яблоками и другими дарами осени, хлеб нужно сберечь для самого тяжелого времени, для весны, и его не трогали. Хорошо уродилась в этом году сахарная свекла на огородах, особенно кто сдобрил землю перегноем, и теперь по ночам, плотно занавесив окна, чтобы не пробивался свет, кое-где гнали самогон, потихоньку приторговывали им, копили деньги, чтобы уплатить последнюю четверть сельхозналога, одеть-обуть ребятишек в школу…
В короткие перерывы между дождями убирали и колхозную свеклу, ухватив за ботву, выдергивали из размокшей земли, сбрасывали в кучи; бабы, нахохлившись, обвязавшись толсто платками, сидели на ветру, очищая клубни от ботвы и земли, грузили на подводы, на машины, увозили на сахарный завод. Но вывезти все не успевали, буртовали тут же, в поле.
Осенью, в конце октября, когда стали пробрызгивать на утренних зорях первые морозцы, тихо умер на сто пятом роду жизни дед Макар. В этот день как раз проглянуло несильное осеннее солнце, и дед Макар, совсем почти невесомый, выполз погреться на лавочку перед убогой, поставленной после войны избенкой. Лукерья, сама сильно постаревшая за войну, помогла ему: плотнее запахнула на нем полы старенького, латаного-перелатаного полушубка, со смутной жалостью взглянула в его невидящие глаза; вернулась к своим привычным делам; нужно было перебрать в погребе картошку, связать в плетенки и развесить лук, а там и фасоль надо давно полущить, просушить хорошенько и ссыпать в мешочек… За своей бабьей работой Лукерья забывалась, становилась веселее и словно молодела; ей казалось тогда, что у нее по-прежнему большая семья – и муж, и дочь, и женатые сыны могут с внучатами в гости заглянуть – и что для такого случая всегда нужно иметь хороший припас… тут же руки у нее опускались, она несколько минут сидела с потухшим лицом. Она вспоминала, что мужа у нее больше нет – сгинул в войну, сынов нет, звери да дикие птицы неприбранные кости, видать, растащили… И единственная беспутная дочка где-то на Севере, укатила за своим нехристем Захаркой, уж если придет в два-три месяца скупое письмецо – и то радость, и то праздник. И сегодня, как только Лукерья усадила свекра на лавочку погреться на солнышке и, спустившись в погреб, взялась за картошку, тут же стали опять припоминаться ей дорогие, навсегда ушедшие люди. Руки привычно и споро делали свое дело, а перед глазами – неотвязные, желанные лица, все больше припоминались ей почему-то Маня да этот лиходей Захар, так и засушивший девке жизнь. Война и та не растащила их в разные стороны, думала осуждающе Лукерья, отбрасывая побитую, подпорченную картошку в сторону, а здоровую складывая в лукошко. «Так у девки хорошей жизни и не вышло, какая-то бродяжка из нее получилась, господи, перекати-поле. Не бабья доля, не бабье дело, – вздыхала Лукерья, привычно простуженно шмыгая носом. – Грех и судить-то, родная кровь, жалко, детей двое, куда уж без мужика, – начинала она спорить сама с собой, оправдывая дочь. – Видать, судьба ей такая, как раз впору пришлась. Это как одежка: кто и в шелк разоденется, все на нем коробом топорщится, а кто и в холстинке маковым цветом цветет, тут уж ничего не попишешь – судьба».
В погребе копился прохладный полумрак, пахло сырой, теплой землей и сладковатой, еле ощутимой гнилью. Яркий столб света наискось, врываясь в лаз, разрезал земляной пол погреба пополам, какой-то отогревшийся жучок оживленно и бестолково елозил по земле в солнечном луче. Лукерья поглядела на продолговатого жучка, с жалостью вздохнула и опять взялась за работу. Сверху до нее смутно доходили какие-то неясные звуки, голоса, но она, погруженная в свое, не воспринимала их; этот огромный, уже не касающийся ее поток катился мимо, все стороной, и ничто в этой посторонней, равнодушно, непрерывно катившейся куда-то жизни ее не затрагивало; неожиданно из темного угла на солнечный свет выползла ящерка и замерла, затянув пленкой старые глаза. Лукерья изумленно воззрилась на нее, хотела перекреститься, сердце взялось жутью: показалось ей, что осталась она совершенно одна на белом свете. С трудом переводя дух, Лукерья оглядела темные углы погреба и, не в силах больше оставаться одна, отряхнула с колен труху, стараясь сдерживать страх, тяжело выбралась по ступенькам приставной лесенки наверх; солнечный ясный свет, разлитый вокруг, ослепил ее. Прижмурившись, она огляделась кругом. Все вроде было в порядке, дед Макар, уткнувшись жиденькой бороденкой в грудь, пригрелся на солнышке и сладко дремал, на другой стороне улицы Митька-партизан о чем-то оживленно толковал с Володькой Рыжим. Лукерья выпростала ухо из-под толстого платка послушать, но Митька как раз в это время, взявшись за дверную скобу, кивнул Володьке на прощание, и она так ничего и не услышала. Тяжело придерживаясь за верхний венец обруба, Лукерья совсем выбралась из погреба. «Пора старого покормить», – решила она, окликая свекра, и, не получив никакого ответа, подошла к нему.
– Э-эй, старый, – по привычке недовольно сказала она, трогая его за плечо.
Дед Макар, как набитый половой куль, невесомо похилился на бок, затем и вовсе опустился на лавку, словно пристраивался поспать подольше; отдергивая руку, Лукерья в страхе попятилась. Все было ясно и определенно, у Лукерьи даже жалости не было, а был только страх перед простотой случившегося; затем какая-то дрожь передернула лицо Лукерьи, она тяжело опустилась на колени перед стариком и тоненько, в голос, заплакала, потому что теперь вот она осталась в жизни совершенно одна, никому больше не нужная. Пытаясь в плаче уйти от этой сверлившей голову мысли, она тоненько и обреченно причитала на всю улицу, а когда очнулась и подняла залитое слезами, запухшее лицо, различила кругом много народу и впереди всех – Митьку-партизана с Володькой Рыжим. Мужики стояли с шапками в руках, бабы потихоньку всхлипывали, сморкаясь, вперебой утешали Лукерью, уговаривали ее не печалиться, что ж, старик отжил свое, и даже с большим лишком, и что он, видно, богу угоден, раз господь так ласково приблизил его к себе, без всякого тебе ожидания и муки…
– Упокой, господь, душу праведную, – набожно обмахнула себя крестом Варечка Черная, неодобрительно косясь на своего бывшего мужа Володьку Рыжего, хотя он ничем не выделялся среди остальных. – Угоден был богу, угоден, – опять перескрестилась она. – В старину-то оно как говорили: земля-то и даст, и заберет в свой час. Ох, господи, прости нас, грешных!
– Беда, беда, – как эхо, отозвалась Лукерья, – мне и похоронить его по-божески сил не хватит. Пропала я теперь, люди добрые, совсем пропала…
– Ты это брось, тетка Лукерья, – возмутился Митька-партизан. – Мы деда Макара выше фельдмаршала проводим! Такие поминки отгрохаем – земля зашатается! А ну, мужики, давай покойного в хату, как положено по его чину – на лавку, в передний угол!
С этой минуты в Густищах и началось нечто никогда до этого не виданное, хотя и раньше густищинцы охотно приходили друг к другу на выручку в счастливые моменты свадеб и крестин; приходили и тогда, когда беда кому-нибудь незванно-негаданно стукнет в ворота, но кончина деда Макара объединила густищинцев как-то особо, и получилось это естественно и просто. Умер дед Макар, тот самый, которого отдельно от Густищ никто не воспринимал, его не замечали, как не замечают неба над головой или земли под ногами, потому что они всегда есть. И поэтому в смерть деда Макара многие даже не сразу поверили, привыкнуть к мысли, что его больше нет, было действительно трудно, и в Густищах сразу образовалась особая атмосфера сплоченности, какого-то деятельного единого порыва. Во дворе Поливановых все время происходило молчаливое организованное движение; старухи под руководством Салтычихи не спеша готовили одежду, грели воду, обмывали и обряжали покойника, и Чертычиха, суетившаяся больше других, как, впрочем, всегда на похоронах, взглянув на высохшее от старости, небольшое, с бугристо выступившими суставами тело старика, покоившееся на широкой лавке в ожидании последней дани жизни – теплой воды, уже вылитой из чугунов в ведра, умилилась.
– Бабы, – сказала она, задавив тяжелый в предчувствии собственного такого часа вздох, – старый, он что младенец безгрешный… никакого стыда в нем… безгрешный, безгрешный…
Старухи согласно закивали, а Салтычиха, засучив рукава, стала поливать тело деда Макара теплой водой из глиняной миски и несильно тереть пучком чистой, еще не утратившей золотистого цвета соломы. Переворачивая тело с помощью других старух, Салтычиха осторожно и тщательно обмыла его, затем умыла покойнику лицо, вымыла уши и шею, насухо вытерла чистым льняным полотенцем; его тут повесили просушить, потому что по обряду оно должно было быть постлано покойнику в гроб. Затем деда Макара сноровисто и ловко обрядили в холщовые новые порты и такую же широкую рубаху, подпоясали, руки сложили на груди, чтобы они не съезжали в стороны, большие пальцы связали новым носовым платком. На лоб приладили бумажный венчик со словами заупокойной молитвы, в исхудавшие пальцы пристроили припрятанную до срока тоненькую восковую свечку. К этому времени гроб поспел: мужики быстро сколотили его из припасенных самим покойником еще при председателе Кулике пахучих сосновых досок, и вскоре дед Макар уже лежал в своей последней домовине, а Варечка Черная пристроилась у изголовья читать Евангелие и даже для большей убедительности нацепила на нос старенькие очки в круглой черной оправе; она только-только нашла нужную страницу, как раздался тоненький, неожиданно высокий и чистый голос Лукерьи, заставивший всех одновременно вздрогнуть и затихнуть:
Как я ростила, горющица,
Да роженых своих детушек,
Ночью спать я не ложилася,
Днем на место не садилася…
Лукерья вела высоким, тоскующим, как бы не своим голосом рассказ о самой себе, лишь только к покойнику обращалась со своей бедой и болью, и все молча слушали, не вмешиваясь в этот разговор. В своем плаче она говорила о своих надеждах и о том, как они не сбылись и как ей горько оставаться на белом свете совершенно одной…
В это же время Митька-партизан, взявший на себя обеспечение всей, так сказать, материальной стороны (рытья могилы, поминального обеда после похорон), был занят другим родом деятельности. В таком деле без водки нельзя было обойтись, и Митька, призвав на помощь двух-трех парней вроде Дерюгина Егора, послал их по дворам и сам отправился следом; но уж в очень скудное время отошел дед Макар, к вечеру удалось собрать всего пять литров самогонки, а это было все равно что ничего. Митька, взглянув на раздобытые по дворам, заткнутые чем попало разнокалиберные бутылки, задумался, непрошеная тоска тронула сердце. Жил, жил человек, земли за свою жизнь перевернул с боку на бок видимо-невидимо, детей родил и детей пережил, а вот умер – и кончилось все, даже нечем проводить в последнюю дверь… Кто же установил такой непотребный порядок? Нехорошо, не по людски, хоть какой стороной поверни, не по-людски, не должно так быть.
К вечеру опять натянуло тучи, поднялся ветер; прислушиваясь, Митька застыло глядел на бледный язычок пламени в лампе. Анюта, давно ходившая около, обхватила его сзади за шею мягкими, теплыми руками.
– Что ты, Мить, сидишь, пора ужинать… Поздно…
– Успеется.
– Ну уж говори, что уж ты, – ласково попросила Анюта, трогая дыханием волосы ему на затылке.
– Война вспомнилась отчего-то… Вот такая ночь, льет, холодно, до костей пробирает… А мне еще верст сорок до своих идти. – Митька по-прежнему не шевелился, ему была приятна сейчас скупая ласка жены.
– Родной ты мой… Дошел? – Руки Анюты стали бережливее, чутче.
Он не ответил, неуверенно взглянул на нее.
– Самогонки бы надо литров сорок достать, Анют…
– Со-о-рок, – озадаченно потянула она. – Куда столько? Хватит и двадцати, не на свадьбу, поминки как-никак…
– Двадцати! – поднял брови Митька. – Двадцати… Эх вы, бабы… курицы… Он сто четыре года прожил… сто четыре! Его бы с полком на лафете провожать надо, чтоб потом – все вусмерть! Столетний человек ушел… Слушай, Анюта, не подскажешь, у кого эта дурость есть? – спросил он, кивая на мутно белеющие на окне бутылки.
– У кого… поди узнай, у кого… У Стешки Бобчихи, должно, есть, но не даст, думаю…
– Почему?
– Белый свет не напоишь, а ее вон за налог что ни день трясут. – Анюта потерлась подбородком о затылок мужа; с тех пор как отношения между ними кое-как наладились, Анюта даже внешне переменилась, стала спокойнее и ровнее, а на мужа не решалась лишний раз глаз поднять. И сейчас она глядела на него с понимающей нежностью. – Давай, Мить, ложиться, – попросила она. – Бабка-то сегодня над покойником будет сидеть, ждать ее нечего…
– Ты ложись, я только до тетки Стешки доскачу, – сказал Митька и торопливо встал, затянул ремень. – Ложись, ложись, я мигом, – добавил он, заметив мелькнувшее у жены на лице недовольство, и через несколько минут уже разговаривал со Стешкой Бобок, вышедшей к нему за порог в накинутой на плечи старой шубейке.
Выслушав Митьку, она покачала головой.
– Хочешь – обижайся, хочешь – нет, Мить, не дам, – ответила тетка Стешка, поблескивая в темноте белками глаз. – Тут у меня своя забота: может, с государством разочтусь, бог даст, а то намеднись агент-то приходил, последнего поросенка грозился забрать, ирод бездушный. Не проси, не дам, у меня больше и бураков не осталось, все в ход пустила… Что ж я, тебе отдам, а сама кулаком утрусь? Дед теперь помер, ему теперь все равно…
– А нам, тетка Степанида, нам-то не все равно! – разгорячился Митька. – Я тебе свои отдам, только и останется, что твой труд… и в этом люди помогут… Я тебе…
– И-и, Мить! – протянула тетка Стешка, запахивая плотнее шубейку на плоской, широкой груди, и в лице у нее появилась слабая улыбка. – Да ты у себя этот год бураков-то не сеял…
– Правильно, не сеял, – не растерялся Митька. – Так ведь что из того, что не сеял? Что ж ты думаешь, у меня их и нет? Будут у тебя бураки, тетка Степанида. Это я тебе говорю, за каждый литр по два пуда. Хочешь, расписку дам? Завтра же ночью будут…
Тетка Стешка примолкла, предложение было заманчиво, и не слышно было случая, чтобы Митька-партизан кого-нибудь обманул.
– Чего ты мозгу-то сушишь? – не выдержал Митька. – Прямо в погреб ссыпем, знать ничего не будешь. За литр – два пуда. Сколько у тебя-то, а, тетка Степанида?
– Литров тридцать будет, – с недоверием, помедлив, вздохнула тетка Стешка.
– Ну, так завтра утром заберу, – подвел черту Митька. – А в ночь все вернем. В этом я тебе самое верное слово даю…
– Ладно, – согласилась наконец с явной натугой тетка Стешка. – Только ты уж не обмани, Мить, грех тебе большой будет вдову обидеть… а, Мить?
– Заладила свое, перестань, тетка Степанида, – в досаде махнул Митька рукой и тотчас исчез в темноте; тетка Стешка еще поежилась, потопталась у двери, не зная, правильно ли она поступила, и, озябнув, отправилась спать.
На другой день с утра опять стал побрызгивать мелкий, спорый дождь, тотчас, как это и бывает осенью, земля раскисла, вода выступила на дорогах и стежках; Митька еще спозаранку пришлепал на наряд и, дождавшись, когда Федюнин, нахлобучив на голову капюшон брезентового плаща, пошел от скотного двора к конторе, догнал его.
– Слышь, Фрол Тимофеевич, – сказал он, пристраиваясь рядом, – дело до тебя есть…
– Говори, – коротко уронил Федюнин, злой на дождь, остановивший снова все работы, на свою участь, которая казалась ему тем хуже и несправедливее, что всего в каких-нибудь двадцати километрах, в Зежске, ждал его чистый, просторный дом с водопроводом и теплой уборной и не было там никаких тебе забот со свеклой и гниющим в поле картофелем, с дохнувшими по непонятной причине свиньями и многим другим, чего нельзя было даже примерно перечислить.
Митька, старавшийся по своему делу и меньше всего заботившийся о председательских, как и большинство густищинцев, испытывал к Федюнину скрытую и глубокую неприязнь и говорил, стараясь не встречаться с ним глазами.
– Дед Макар умер, Фрол Тимофеевич, на похороны бы ему пудов пятьдесят бураков выписать, – сказал Митька. – Надо старика проводить…
От неожиданности Федюнин даже споткнулся и рывком повернулся всем своим объемистым туловищем к Митьке; тот невозмутимо глядел ему по-прежнему выше переносицы, и у Федюнина даже горло перехватило от такой наглости.
– Ну а еще что выписать? – спросил он довольно миролюбиво. – Может, корову или двух забить, чтобы уж и закуска была?
– Правильно, неплохо бы какого-нибудь шелудивого бычка завалить, – согласился Митька, изо всех сил удерживая на лице выражение полнейшего равнодушия. – Только подумай, Фрол Тимофеевич, целый век человек по земле топал…
Федюнин приблизил к Митьке почти вплотную мокрое от дождя длинноносое лицо.
– Вы меня здесь все за дурака считаете или только ты такой один отыскался, а, Волков? – спросил Федюнин, тяжело уставясь в невозмутимые Митькины глаза, и ни тот, ни другой не хотел уступить; вот тогда именно и затянулся между ними узелок, и потом уже его не под силу было распутать никому; Митька почувствовал непреоборимое желание стоять на своем, показать чужому ко всему здесь человеку, кто здесь в самом деле хозяин, он даже укорительно и ласково покачал головой; ощутил и Федюнин острый холодок между лопатками и, засопев, прочнее расставил короткие ноги.
– Ты, Фрол Тимофеевич, не отнекивайся, – с нарочитой мягкостью прищурился Митька. – Я к тебе по делу, вот давай об деле и говори, а то ты куда-то вбок гнешь. Бурак общественный, колхозный, дед Макар тоже всю жизнь спину на общество гнул. Собрал бы правление, оно и решило бы… Для колхоза пятьдесят пудов бураков, сам посуди, все равно что ничего…
– За такие разговорчики знаешь куда пропечатать можно, а, Волков? Если каждому старцу по пятьдесят пудов швырять, от колхоза ничего не останется. – Федюнин сплюнул. – Ведь твой старичок, Волков, насколько мне известно, вообще в колхозе не работал. Что ты мне на это скажешь?
– Ага, не работал, – готовно согласился Митька, слизывая с губ капли дождя. – В колхозе-то оказался чуть ли не в девяносто лет… Так ведь и раньше он тоже не Думой царской управлял, Фрол Тимофеевич…
– Несерьезный ты человек, Волков, – с досадой махнул рукой Федюнин, порываясь идти дальше; дождь усиливался, начинал пробивать одежду, больные колени ныли все сильнее.
– Раньше тоже хлеб сеяли, убирали, память у человека все та же, – гнул свое Митька. – Дед Макар – это же корень в нашем селе, как же его… вот так взять и выдернуть без всякого почету?
– Знаешь, Волков, ты мне здесь сантименты не разводи, – повысил голос Федюнин, всем своим видом показывая, что терпение его лопнуло и что еще немного – и он окончательно взорвется. – Ты и сам-то не колхозник, служишь в эмтээсе… Несерьезный разговор затеял, не дам, не проси, мне своя голова дороже.
– Вот как, не дашь, значит, – раздумчиво и даже с каким-то удовлетворением подвел итог Митька и опять облизнул губы. – Ну, и на том спасибо. Фрол Тимофеевич, значит, самим придется брать…
Федюнин, с облегчением переведший дух от утомительного и неприятного разговора и уже хотевший идти дальше, быстро повернулся на последние слова Митьки.
– Как это самим? – спросил он с тихой угрозой.
– Просто, Фрол Тимофеевич, – мирно усмехнулся Митька и добавил ласково: – Пойдем в поле да и возьмем, сколько надо, а куда же деваться, надо же деда по-христиански проводить. Потом, что положено на трудодни, можешь с нас удержать. Так что восполним…
– Ах так, значит, в поле? – заражаясь от Митьки каким-то тихим очарованием, тоже понизил голос Федюнин. – Ну, так я вас из ружья… из ружья… сам караулить пойду… из ружья. Пуф! Пуф!
– Напугал, Фрол Тимофеевич, весь дрожу, – тем же ласковым шепотом ужаснулся Митька и посоветовал: – Только уж лучше не ходи, не надо…
– Всех под суд отдам… всех! – показывая наконец истинный свой характер, сорванным голосом крикнул Федюнин.
– Пожалуй, это еще поймать надо, Фрол Тимофеевич, – усомнился Митька, и глаза у него окончательно и как-то ласково-бессмысленно посветлели. – Ты уж лучше не ходи, не тревожь себя, Фрол Тимофеевич, простуду схватишь… а ты для государства человек ценный, надо себя беречь…
Он пошел не оглядываясь, что-то весело и фальшиво насвистывая, а у взбешенного сверх всякой меры Федюнина, убежденно считавшего всех густищинцев ворами и бандитами, от невозможности тут же показать свое право предательски задрожали ноги. Он бессильно плюнул и крикнул вслед Митьке:
– Запомни, Волков… из ружья! Из ружья! пуф! пуф!
Митька услышал, зло оскалился, но оглядываться не стал.








