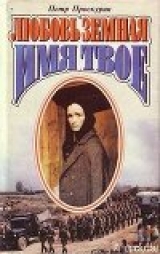
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 64 страниц)
Луна ушла из комнаты, и Хатунцев-младший заснул, твердо решив завтра же написать и отправить необходимые письма; это свое решение он помнил даже во сне и все боялся, что опять вмешается какой-нибудь случай и придется откладывать или что он забудет о своем намерении. Под утро ему приснились луна и пустынный, весь как бы призрачный город, но это был не Холмск; он брел из улицы в улицу, пересекал незнакомые площади, мосты; и странно – куда бы он ни свернул, луна, рыжая, как бы раз и навсегда оттиснутая в небе, обязательно была у него с правой стороны…
Он удивился этому, и тоже во сне; утром его решение укрепилось окончательно, и, встретив в длинном коридоре клиники Аленку и машинально любезно поздоровавшись, он, рассеянно вспомнив о вчерашнем разговоре с Анисимовым, слегка посторонился, уступая ей дорогу, и сразу же свернул в боковой коридор. Все прежние наблюдения и догадки в отношении ее получили завершение, и то чувство неприязни, которое у него всякий раз при виде ее возникало, теперь окончательно объяснилось. «Все, оказывается, совершенно просто, – окончательно успокоился он, даже с некоторой долей благодарности за вчерашний сумбурный вечер. – Первое впечатление не обмануло, все есть, внешность, ум, возможно, способности… и в то же время что-то такое, отчего становится неуютно… бр р! – передернул он плечами, – Такие бабы с вывихом, как правило, ищут приложение себе где нибудь на стороне, уходят от своей естественной природы… Наука, политика, в газетах стихи пишут… все правильно, все на месте… Старик Анисимов, как всякий неисправимый устроитель новой жизни, видит в этом норму и даже привлекательность, но это его дело. Пожалуй, следует признать лишь одно: ничто даром не проходит, даже нелепые случайности».
Приводя свои мысли в порядок перед обходом, Хатунцев-младший, разумеется, не подозревал, что в ту ночь луна была и в комнате Анисимова и что Родион Густавович, любивший расслабиться перед началом дня, дать себе минутку-другую полежать в постели, созерцая потолок и мягкий рисунок обоев, прежде чем захлестнут неотложные дела, перебирал в уме вчерашний разговор у Хатунцевых и был почему-то неспокоен; сейчас ему казалось, что вчера он был излишне навязчив, захлестнула такая минута – и не выдержал, а этого нельзя себе позволять.
За стеклянной дверью в коридоре собирались в школу Елизавета Андреевна с Шурочкой; как всегда, они разговаривали тихо и ласково, но Анисимов был уверен, что стоило ему показаться, и они тотчас бы прекратили свою беседу и стали бы принужденно говорить о чем-нибудь другом. Эта их душевная близость и отъединенность от него сейчас раздражали Анисимова больше обычного, кажется, все возможное делал, игрушки покупал, конфеты, ломал себя, заставлял всякий раз притворяться, но добиться ничего не мог; он подумал, что жена намеренно мешает ему сблизиться с девочкой, не хочет впустить в их ревниво оберегаемый мир, но почему, почему?
Он подождал еще немного, оделся и вышел в коридор.
– А, заговорщицы, доброе утро, здравствуй, Шурочка, – сказал он как можно сердечней. – Сколько у тебя уроков сегодня?
– Четыре, дядя Родя. – У Шурочки сделалось так хорошо знакомое Анисимову заученно-вежливое выражение.
– Ты забыла поздороваться с дядей Родей, Шурочка, – заметив расстроенное лицо мужа, сказала Елизавета Андреевна, больше всего ценившая сейчас с таким трудом установившееся равновесие в доме.
– Здравствуйте, дядя Родя, – тихо сказала Шура, не поднимая глаз.
Анисимов погладил ее по волосам, и почувствовал, как она вся сжалась под его рукой, и поразился испытанной при этом боли и растерянности.
– Ну, идите, идите, – заторопился он, – Так и опоздать можно.
12Больничные шумы давно затихли, и в затененных палатах, в полуосвещенном коридоре с только что протертым, влажно блестящим линолеумом установилась вечерняя, доверительно-уютная атмосфера. Дневные процедуры и обходы окончены, больные занимались своими нехитрыми делами, и сами болезни, казалось, на время отступили, притаились до утра. Закончив описывать последнего поступившего больного, Аленка еще раз проверила назначения, отложила историю болезни в аккуратную стопку; на сегодня, кажется, все, можно было уходить. Она поймала себя на мысли, что не хочет идти домой, испугавшись, она подумала, что надо прибегнуть к проверенному средству и беспощадно, не утаивая ни одной крохи, допросить себя. Отчего не хочется, что изменилось? Да оттого, что он здесь, с какой-то беспощадностью к себе решила она, где-то в соседнем крыле клиники, и она может, если захочет, его увидеть, и опять, как тогда, в коридоре, понесутся навстречу его глаза… Но ведь это совершенно невозможно, возмутилась она, это пошло, это что-то стыдное, бабье; попытавшись сосредоточиться, она остановилась неподвижным взглядом на маленьком чернильном пятне на крышке стола.
Быстро, без разбору, покидав свои вещи в чемоданчик, бросив туда и металлический молоток, она бессильно опустила руки, вспомнив его привычку рассеянно почесывать переносицу кончиком молотка. Опомнись, что это еще за наваждение, когда это она позволила себе начать думать о нем? Как это она могла позволить себе? На молодого мужика потянуло? Ого, вот это заградительный огонь.
Не медля больше ни минуты, Аленка спустилась в грузовом лифте, отрезая себе пути к случайной встрече, и почти выбежала на пустынный тротуар; быстрая ходьба ее немного успокоила. Подлая, скверная баба, продолжала она себя ругать, да тебя не держит никто. Брюханов всегда даст тебе свободу, он бы просто выгнал тебя, узнай хоть отчасти о том, что с тобой происходит, он не представляет, что ты способна на такие мысли. Он всегда говорит, важен не сам факт измены, а что при этом человек испытывает, счастье или стыд.
Чувствуя, как разгораются щеки, Аленка все убыстряла шаги; вся беда заключалась в том, что Брюханов раз и навсегда от всего в жизни ее освободил, жизнь просто стелется ей под ноги, это она с жиру бесится… Институт, домработница, теперь вот ординатура, прекрасная клиника… А постояла бы у корыта день-деньской, обстирывая голодных, ревущих ребятишек, как ее мать, или пухла бы с голоду, как бабка Авдотья, отнимая у себя для внучат последний кусок хлеба, вот тогда дурь в голову бы не полезла.
Вскочив на подножку дребезжащего трамвая, она как-то обостренно отметила, что немногие пассажиры, ехавшие в этот вечерний час, как по команде, почему-то повернули к ней головы; плотнее запахнувшись в плащ, она быстро села на самое заднее сиденье, отвернулась к окну, и в ней опять возник и разросся все тот же тягостный мотив: ну почему, почему она такая несчастная? Ну разве она виновата, что в ней что-то все время рвется наружу, ноет какая-то струна в сердце, никак не утихнет? Она до сих пор так и не может войти в мир жен других обкомовских работников, все они такие спокойные, уверенные в себе и в том единственном призвании, которому они обязаны служить, и она чувствует себя белой вороной в их царственно-покойном мирке; а ведь пора бы давно успокоиться, уже взрослая женщина, у тебя дочь, любимый муж, ты хозяйка своему счастью и не пустишь в душу к себе непрошеных гостей…
Аленка представила себе детскую с зеленым настольным абажуром, выстроившиеся смирно в ряд игрушки на коврике, Ксеню, убиравшую их перед сном на место и особо заботившуюся о своем любимце, плешивом от старости тигре Зике; представила, как Ксеня обрадуется ее приходу и как она будет укладывать дочь в кровать и дышать ее ровным теплом, как Ксенины ручонки в последний раз стиснут ее шею, и, заторопившись, едва не пропустив свою остановку, спрыгнула с подножки на тротуар. Ну вот, сказала она себе, ты уже и спокойна, ничего нет, ты все придумала, все то добро, что Брюханов тебе сделал, все то добро, что мы друг другу сделали, не может пройти даром, бесследно, да и как же жить после, если это случится, как смотреть друг другу в глаза? Вот и тополя перед домом, старые друзья, они растут вместе с Ксеней, она уже успела сродниться и с ними.
Какой-то отпускной морячок с развевающимися лентами бескозырки бодро двинулся было следом за ней с противоположной стороны тротуара, но, увидев ярко освещенный солидный подъезд обкомовского дома, быстренько растушевался в полумраке; Аленка засмеялась, но сразу же примолкла, тихая боль отдалась в сердце. Пораженная сверкнувшей мыслью, она торопливо заскочила в подъезд, припала спиной к стене. Господи, подумала она растерянно, господи, ну почему баба так устроена? Каких зароков не давала после того, что пришлось в войну увидеть, без остатка посвятить жизнь людям, их счастью, – и вот тебе… Откуда такая чушь? Да, да, все так, появись перед тобой на противоположной стороне улицы Алешка Сокольцев и позови, разве ты стала бы раздумывать? Ни одной минуты, выпрыгнула бы прямо в руки из окна, с четвертого этажа… но он ведь не появится, тут же ответила она себе, чувствуя безнадежно сжавшееся сердце.
Брюханов, против обыкновения, был уже дома, а Ксеню Тимофеевна уже успела уложить, и только тигренок Зика таращил свои стеклянные рыжие глазенки в изголовье детской кроватки.
– Где ты пропадаешь, Аленка? – нетерпеливо встретил ее Брюханов. – Завтра уезжаю в Зежский район, нам еще увеличили капиталовложения, грандиозные заворачиваются дела. Целая армия специалистов едет, прекрасные специалисты, асы своего дела, прямо хоть областной центр в Зежск переводи! Как нам удастся выкрутиться? Размещать совершенно негде. Чубарев звонил, рвет и мечет…
– Погоди, Тихон, пойду умоюсь…
– Чубарев интересную идею выдвигает – непосредственно при заводе институт открыть, готовить свои кадры, не надо будет Москве кланяться по каждому случаю. – Брюханову не терпелось выговориться; пристроившись на плетеном ящике для белья в ванной, пока она приводила себя в порядок, загорелый, в дорогом бостоновом костюме, он как-то сразу развеял все ее страхи и сомнения.
– Тихон, ящик раздавишь, что за мальчишество! Опять в костюме дома! – заметила она. – Иди переоденься, пожалуйста…
– Ты не в духе? Что-нибудь случилось? – спросил он.
– Совершенно ничего. Просто у тебя ужасная привычка, сутки не виделись, а ты сразу о делах, все в одну кучу, – засмеялась она. – Институт, Чубарев, завод, какие-то специалисты… А когда же просто жить?
– А это и есть жизнь, другой нет, не будет. Тебе бы Чубарева в упряжку. Он бы тебе личную жизнь организовал. На бочке с динамитом. Анархист! Но какой замечательный анархист! – уточнил он. – Сразу с ножом к горлу, а то, что задумал, возможно только через Москву пробить. Задача… Дело новое, на Чубарева уже жалобы пошли, тут и местные и столичные мастодонты сомкнутся. Пожалуй, у тебя все-таки что-то стряслось, Аленка, – сказал он, протягивая ей полотенце.
– Конечно, у косого всегда тетка кривобока, – непривычно резко, почти враждебно взглянула она. – Прожекты, идеи… Посмотри лучше, что делается у тебя под боком: голодные, заметь, деревни… Ездила с инспекцией в район, насмотрелась… Ужасно, Тихон, пьют много… самое откровенное преступление перед будущим… Дети зачинаются отравленными алкоголем отцами… уже в зачатии они обречены… На данном уровне знания это социальное преступление. Я ведь Америк не открываю, ты сам знаешь данные статистики по области, об этом надо кричать. Что же вы хотите? Только восторгов, что ли?
– Кто это «вы»? – холодно, словно издали, спросил Брюханов.
– Все эти твои чиновники… да и сам ты в первую очередь.
– Так, что-то совершенно новое… Хорошо… Ты, значит, считаешь честностью швырнуть в лицо народу обвинение, что он спился, находится где-то на пороге гибели, вырождения… Кто же тогда все делает? Кто отстроил страну после немца? Нет, это ты в одну кучу все валишь… Народ тебя не поймет…
– А ты действительно считаешь себя уполномоченным говорить от его имени? – как бы проверяя что-то свое, вскользь уронила Аленка.
– Считаю, ты ведь тоже, кажется, не стесняешься целым народом швыряться…
– Приходится только позавидовать… Уверен, спокоен. Одно не ясно: почему ты не хочешь ничего сделать, чтобы хоть чуточку стало легче народу в самом простом? Ни от Москвы не надо санкций, ни…
– Ну, знаешь, Алена, это уже чистейшая демагогия, – с досадой оборвал Брюханов, уходя к себе в кабинет; Аленка, успевшая выпить стакан холодного молока, прошла следом, поглядывая ему сбоку в нахмуренное, тяжелое лицо.
– Нет, ты мне ответь: сколько можно с народа тянуть – с бабки Лукерьи, с Нюрки Бобок, с Куделина? Сколько можно? – спрашивала она, стараясь смягчить резкость своих слов. – Когда-то же ведь надо дать им продохнуть. Никакого народа ты, Тихон, прости, не знаешь, не любишь… Так, это для вас – глина… помесил, помял, слепил… Солнце выскочило, все растрескалось, посыпалось… Вам же опять работа…
– Так, так, так… давай уж до конца, слушаю, слушаю, – поддакивал он, по-прежнему хмурясь и теребя какую-то попавшуюся под руку книгу; у них бывали подобные стычки и раньше; хотя Аленка говорила сейчас слишком обидные и несправедливые вещи, настоящей злости почему-то на нее не было. Скорее всего потому, что это были и его мысли, и его боль. Пусть ее выговорится, решил он, продолжая самым внимательным образом слушать непривычно разошедшуюся жену, плутала она в общем-то в детских заботах, не знала и не могла знать того, что было известно ему. Для нее все было так, как она говорила и думала сейчас, а все на самом деле было не так и не могло исправиться по первому слову и желанию… Область в прошлом году не выполнила хлебопоставки, и ему стоило больших усилий оставить в колхозах хоть немного зерна. Для нее не имело значения и существование таких работников, как Лутаков; в своих неофициальных беседах в Москве, во время командировок, при случае он мог щегольнуть несуществующими успехами в сельском хозяйстве области, незаметно подчеркнуть и свою немалую роль в этом.
– Ладно, давай ужинать и спать, Алена Захаровна, – попросил он, – завтра Федотыч в шесть за мной заедет…
Но какой-то бес вселился в Аленку, она не двинулась с места.
– Знаешь, Тихон, если человек на своем месте не может изменить что-то к лучшему, по-моему, честнее уйти, оставить это место… Может быть, придет более смелый, более решительный человек…
– А если придет не более смелый, не более решительный, а как раз наоборот? Где гарантия? – Брюханову снова вспомнился Лутаков, широченный, квадратный, сразу заполняющий собой все помещение, с заразительным, здоровым смехом, с его твердой, спокойной манерой держаться.
– Нет гарантии, Тихон. Никто тебе не даст. Да потом ты ведь все равно никогда не сделаешь этого шага, – в ее голосе мелькнуло сожаление, – пустой это разговор.
– Почему?
– Ты относишься к эпитимному типу личности… Минутку, минутку, сейчас разъясню. – Аленка потянулась к коробочке с папиросами, взяла одну, повертела в пальцах. – Это люди, которые уже не могут без власти и будут идти к ней, несмотря ни на что. Это их природа. Большей частью для них, подобных людей, таких категорий, как «добро», «совесть», «справедливость», не существует.
– Во-от как, – протянул Брюханов, все пристальнее присматриваясь к жене. – А что же для них существует?
– Категория «надо»… Вот и вся их мораль.
– Любопытно… Ну а ты, Алена? – все тем же спокойным тоном спросил Брюханов. – Какими достоинствами одаришь человечество ты сама?
– Я, милый мой, всего-навсего психастеник, самый заурядный психастеник. Буду всю жизнь бороться со своими бесами и заниматься самоедством, так что за меня будь спокоен…
– Идет. – Брюханов быстро встал, подошел к ней и положил руки ей на плечи. – Только когда они тебя будут совсем одолевать, твои бесы, не забудь позвать… Знаешь, я их кадилом…
Запрокинув голову на спинку кресла, Аленка заставила себя улыбнуться.
– Что, Брюханов, – спросила она, – выдержим, думаешь?
– Давай ужинать, Аленка, – сказал он. – Пора освободить Тимофеевну, мне тоже сегодня еще кое что сделать надо…
– Обиделся?
– Нет…
– Как хорошо, что у человека есть свой дом.
Аленка, быстро прижавшись щекой к его руке, встала; в этот вечер они оба, словно бы по негласному уговору, старались не касаться того, что могло напомнить о недавней размолвке; Брюханов шутил с Тимофеевной, оживленно обсуждал с Николаем его студенческие новости, и когда тот после ужина предложил партию в шахматы, сразу же согласился и увел его к себе в кабинет; ни Брюханов, ни Николай не любили за шахматами разговаривать, и, удобно устроившись за круглым столиком, освещенным успокаивающим зеленоватым светом лампы, они, полностью сосредоточившись на игре, казалось, больше не замечали друг друга. Николай передвигал фигуры быстро, почти не раздумывая, его комбинации, развиваясь, приобретали неожиданную сложность и глубину, и Брюханов, не раз испытавший на себе, чего стоило малейшее невнимание во время шахматных баталий с Николаем, лишь в самом начале, сделав очередной ход, оторвался, чтобы взять папиросы и пепельницу, и поторопился назад, на свое место; как он и ожидал, Николай уже успел передвинуть свою фигуру, и Брюханов, скрывая удивление его ходом, проворчал: «Так… так», – и прежде, чем решиться на ответное движение, закурил и долго думал.
В дверь кабинета заглянула Аленка, напомнила, что уже поздно, что все спят.
– Мы недолго, спокойной ночи, – отозвался Брюханов, не отрываясь от доски.
– Ты, кажется, хотел что-то еще успеть сделать, – сказала она.
На этот раз Брюханов, в раздумье вертевший над доской в пальцах своего коня, на мгновение задержался на ней взглядом и кивнул; Аленка, жалевшая о своей вспышке и резкости, тихо прикрыла дверь, и Брюханов, помедлив, решился наконец переставить коня.
– Вы хорошо подумали,.. Тихон Иванович? – спросил Николай со свойственной ему прямотой, слегка улыбаясь.
– А что такое? – забегал по доске взглядом Брюханов, время от времени посматривая в лицо соперника. – Положительно ничего не вижу, не пугай, брат…
– Взгляните на моего ферзя, вы открыли Д5…
– Так что же? – спросил Брюханов. – Что, ты туда хочешь?..
– Конечно. Берете вы его или нет, мой следующий ход конем Ф6…
Брюханов еще раз взглянул на доску; теперь в какое-то одно мгновение картина на ней совершенно изменилась: порядок и надежность собственной обороны, неприступно, как он думал, выстроенной в начале партии, распалась; чужой, почти неправдоподобный по изяществу и простоте комбинации, по минимальности, почти скудости брошенных в дело средств, замысел все перечеркнул и поломал.
Еще и еще раз растерянно, с обиженным выражением лица пометавшись глазами по доске, Брюханов пыхнул папиросой и откинулся в кресле.
– Черт знает, что у тебя за башка! – сказал он. – Какая-то машина… Нет, с тобой положительно невозможно играть!
– Еще? – смеясь глазами, подзадоривая, спросил Николай.
Они стали быстро выравнивать фигуры, и скоро Брюханов, сразу же полностью захваченный событиями на доске, опять почувствовал близкую развязку. Он пытливо раз, другой, третий оценил расстановку сил; все было спокойно, все надежно прикрыто, никакого простора для неожиданных действий противника при любой, самой смелой фантазии быть не могло. Но в то же время уже беглого взгляда на расположение фигур Николая было достаточно, чтобы ощутить (именно не понять, а пока только где-то глубоко в себе ощутить) тугую, стремительную волну заложенных в них комбинаций, они могли вспыхнуть в любой момент и в любом месте, и несмотря на кажущуюся некоторую небрежную разобщенность фигур, все они представляли готовое прийти в действие одно стройное целое.
– Что-то ты мне сказать хотел? – спросил Брюханов, заранее подтрунивая над этим своим детским приемом, в надежде отвлечь противника.
– Да передумал, так, ерунда это. – Николай сделал ход, в Брюханов, непрестанно следнвший за его рукой, задержавшейся над доской на секунду, лишь обреченно вздохнул.
– Так… понеслась, – наклонился он ниже, только теперь замечая, что его противник сегодня что то уж непривычно хмур и скуп на слова и чем-то порядком расстроен, что уже можно было понять за ужином, а теперь стало совершенно очевидно.
– Так и быть, все равно тебя не обыграешь, – Брюханов отодвинул от себя доску. – Давай лучше потолкуем, что у тебя там стряслось.
– Не стоит, Тихон Иванович, пустяки, – нахмурился Николай. – Без этого слишком поздно, Аленка совсем рассердится… Право, пустяки, – стал уверять он. – Как-то случайно сорвалось с языка…
– Знаешь, Коля, шахматы – это одно, – остановил его Брюханов, – там мне с тобой тягаться нечего. Ты мне до сих пор доверял, кажется…
Собирая фигуры, Николай с быстро появившимся на лице румянцем по-прежнему попытался уклониться, начал что-то невразумительное говорить о каком-то происшествии в институте, затем о необходимости на днях съездить в Густищи, к матери, совсем запутался и под пытливым, несколько даже обиженным взглядом Брюханова окончательно раскраснелся и умолк.
– Деньги я потерял, Тихон Иванович, – не поднимая глаз и смахивая со столика что-то невидимое, сказал он. – Не свои деньги… почти семьсот рублей.
– Подожди. Почему у тебя оказались чужие деньги? – удивился Брюханов, в то же время скрыто любуясь разгоревшимся лицом Николая.
– Я же профорг курса…
– Так что же?
– Собирал эти деньги… в конверте носил, в портфеле, все время на месте были, а сегодня на лекции…
– Понятно, – пожалел его Брюханов. – Но если уж вышел об этом разговор… нет, нет, ты можешь не говорить, если не хочешь, – быстро добавил он в ответ на совершенно недвусмысленное движение в лице Николая, ставшем вдруг резким. – Ты совершенно не о том подумал. Я хотел сказать: почему ехать к матери? У нас есть деньги… ты бы мог взять у Аленки, вот и все.
– От Аленки как раз так просто и не отделаешься, она меня ведь все воспитывает, – хмуро пошутил Николай и поднялся. – Спокойной ночи, Тихон Иванович.
– Значит, ты не возьмешь эти семьсот рублей? – спросил Брюханов выжидающе.
– Нет, спасибо, не возьму.
– Почему?
– Мне надо будет сказать вам, что это за деньги…
– Я этого не требую, – возразил Брюханов, теперь еще больше недоумевая.
– В том-то и дело, – как-то по-детски беспомощно взглянул на него Николай, – что я не могу вам всего рассказать… а так просто взять тоже не могу… ну вот и все…
– Что за чертовщина! – не удержался Брюханов. – Так не могу и этак не могу! А как же можно? Ну, слушай, Коля, не валяй дурака. Вот тебе деньги, и дело с концом. – Брюханов достал бумажник, отсчитал семьсот рублей и пододвинул их к Николаю. – Не накручивай ты, ради бога, там, где не надо… Ну…
– Тихон Иванович, а вы обещаете, что все это останется только между нами? – решился Николай. – Даже сестре…
– Будь спокоен… обещаю, все обещаю… спрячь.
– Понимаете, у нас на курсе у одной из студенток…
– Я ничего не спрашиваю, – быстро сказал Брюханов, но засмеялся и махнул рукой. – Давай, тебя ведь не переупрямишь…
– Девушка хорошая, умная, занимается серьезно, но связалась, понимаете, с безответственным человеком. – Николай говорил, упорно глядя в стол. – Тоже наш студент… И вот все у нее оказалось под угрозой, институт, дальнейшая судьба… Попытались мы этого типа вразумить, а он ни в какую, такой гад оказался… А она только на стипендию и дышит… Сирота, в войну все родные погибли. Вот и решили тайком от нее собрать денег со стипендии… ну, понимаете, на… на врача… Фу-ты черт, вспотел даже! – Николай облегченно перевел дух.
– Что? что? что? – не сдержал своего изумления Брюханов. – На врача, говоришь? На… аборт, что ли? Но почему именно ты? Другому, что ли, постарше, не могли поручить?
– Я ведь уже говорил, что меня в том семестре профоргом выбрали, – в свою очередь раздосадовался Николай. – Отказаться надо было, а я…
– Вот так история, – задним числом смутился Брюханов и забарабанил пальцами по столику; они взглянули друг на друга раз, другой, взглянули еще и расхохотались. Брюханов, скомкав деньги, сунул их Николаю в карман, придерживая рукой за плечо, проводил до дверей.
– Ничего страшного, жизнь есть жизнь, – сказал он. – Такое ли еще бывает. Иди ложись, а то нам сестрица Алена и в самом деле может выволочку задать… Иди, иди, весь наш разговор, не беспокойся, останется между нами.
– Спокойной ночи, Тихон Иванович… Спасибо…
Высокая, тяжелая дверь бесшумно приоткрылась, глаза Николая блеснули из полутьмы коридора, и Брюханов остался один. Он походил по кабинету, постоял, отодвинув штору, у открытого окна. Над городом, нарушаемая звоном трамвая на соседней улице, развозившего последних, запаздывающих людей по домам, струилась полночь. Брюханов прислушался. Вспомнилось непривычно чужое, холодное, почти враждебное лицо Аленки. Начинает исподволь сказываться разница в возрасте? Непохоже, он этого совершенно ни в чем не замечал. То, что он недостаточно бывал дома, естественно; во всем, что касалось его лично, он с ней совершенно откровенен. Как у всякого человека, у него, разумеется, было и такое, чего он не мог открыть даже ей. Но ей это и не нужно. Откуда же это непонимание, духовное отчуждение?
Если тому причиной все-таки он? Однажды она видела у него в руках тетради Петрова, кажется, спросила, что это, и он с небрежным видом отмахнулся: так, мол, не стоит внимания, всякие служебные пустяки… А что, если Аленку раздражает именно его отъединенность, женщину ведь обмануть трудно, почти невозможно. Почему он даже самому близкому человеку не может открыть полностью того, что его мучает последнее время? Положить перед ней тетради Петрова и сказать: читай, посмотри, какие встречаются среди нас гусаки… Только одним этим шагом можно повернуть ее к себе, но имеет ли он такое право? Сам еще не добрался до сути, барахтается, как щенок, – и сразу швырнуть и ее в самый омут, давай вопить, захлебываться вместе? Так, что ли? А смысл? У нее и без того приличный кавардак в голове…
Летняя ночь уже начинала слегка размываться.








