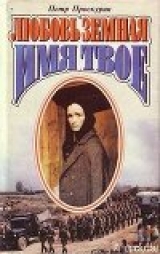
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 64 страниц)
Сухой мороз лег, острые звезды, усеявшие звонкое ночное небо, словно текли через его душу пронзительной пылью; дыхание жизни кончилось и оборвалось, потому что два встречных потока сшиблись и ничего больше не стало. И все-таки какой-то далекий согласный хор гремел, разрывая всяческие стены и перехлестывая через края в ожившей от долгой тьмы душе Макашина; то была слава чему-то неведомому, чего он не знал, но что было сильнее всего и необходимее всего; душа у него распалась, и кто-то звал и влек его. Он уже давно миновал последние дома поселка (они проплывали мимо светившимися окнами, как последнее напоминание и надежда жизни), и теперь вокруг тянулось серебристо-бледное от луны, с глубокими голубовато-холодными тенями молчание тайги; под ногами сухо и громко похрустывал снег. Макашин ничего не замечал – ни дороги, ни тайги; мальчишеское лицо не отступало от него, оно сейчас как бы просвечивало изнутри его самого; шаг у него креп, становился размашистее и тверже.
– Раз, два… раз, два, – командовал он сам себе. – Ничего… ничего… Раз, два…
Ему невыносимо хотелось сейчас пройти с хрустом по всей тайге, по всей земле, ломая деревья, топча города и сшибая горы, словно был он гигантского роста и силы; ничего удивительного в том, что у него появился сын, о котором он не знал, не было, но именно то, что он об этом узнал, стронуло в его душе давно копившуюся лавину; жизнь в нем от этого пошла какими-то вихрями и провалами. Все, о чем он думал, как представлял себе в течение последних нескольких лет, было опрокинуто, смято, вдруг все остановилось и потекло в обратную сторону, и этого нельзя было перенести; время в нем сейчас словно бы было в трех плоскостях, оно струилось и вспять, в прошлое, и вперед, оно словно и остановилось в нем. Что-то случилось, что-то горячее прихлынуло к глазам; небо в искрящейся звездной пыли отступило, померкло, распахнулась заснеженная тайга; лохматый, тяжкий ком жизни, со скрежетом повертевшись на месте, рванулся, и устремился назад, и рассыпался в одну из мартовских ночей на глухой проселочной дороге, когда он увидел перед собой ребенка и с дрожью, похожей на замирание смерти, узнал в нем себя; это чувство потом никогда не забывалось в нем полностью, работал он или отдыхал, пил или был с женщиной; сколько раз он срывался среди сна и с подскакивающим до самого горла сердцем садился, ничего не понимая, лишь чувствуя убивающее одиночество в ночи. Всю свою неприкаянную жизнь он хотел сына, именно сына, и вот теперь это исполнилось; от одной мысли, что будет с мальчишкой, если узнают, кто у него отец, у него сохло во рту, он уже дважды на ходу хватал снег и, обжигая горло, глотал. Он понимал, что должен что-то сделать, чтобы прекратить это состояние, но не знал, что именно; не раздумывая он пошел бы на что угодно, лишь бы успокоиться хотя бы на время. Какая-то радостная мысль родилась в нем, когда он прочитал в газете о Захаре Дерюгине; еще до того, как он принял определенное решение, он уже знал, что это как раз то самое, что ему необходимо, этот последний рубеж ему было суждено перешагнуть, чтобы в жизни ничего неизвестного более не оставалось, чтобы стало спокойно на душе и можно было бы дожить как-нибудь отведенный ему срок; он не знал, не мог знать или предполагать, что ему придется столкнуться с чем-то таким, что его надежда в одночасье развеется; вначале слова Захара о Густищах, затем веселое, шаловливое, щенячье в своей детской бездумной радости светлоглазое существо, начало которому было дано им в ночь весны сорок третьего, сразила весь его внутренний порядок, его право на встречу с Захаром и на разговор с ним, в котором чуть раньше он был убежден безоговорочно. И тогда случился стремительный шаг назад, к дорогам сорок третьего, а затем и сорок четвертого года; разумеется, он мог бы забраться за тридевять земель, но после того, что случилось в Густищах, какая-то цепь не отпускала его, и он, лежа как-то на тесных нарах блиндажа, зажатый спящими соседями, понял, что ему никуда не уйти прежде всего от самого себя. Лицо казненного однофамильца из Выдогощи, документы которого он на всякий случай хранил при себе, прорвалось к нему, из пулевого отверстия возле брови вытекла и застыла густая, темная кровь, натекла в глазницу, второй глаз был широко, почти судорожно открыт, и мертвый зрачок свинцово темнел; потом Макашину часто казалось, что эта горошина запала в самую его душу, присутствует там, распространяя в нем страх и холод; а в ту первую ночь, когда окончательно наметился его дальнейший путь, казненный однофамилец преследовал его удушливым кошмаром при малейшей попытке задремать.
Какое-то неожиданное препятствие выросло перед Макашиным, он шагнул в сторону, в другую, почти по пояс проваливаясь в снег; это были скорее всего стянутые в одно место при раскорчевке дороги пни, неплохо было бы докопаться до сушняка, наладить огонек и отдохнуть, черт с ними со всеми – и с Захаром, и с Маней, и с Густищами, земля велика, места на ней любому хватит. И мертвым хватит, и живым… Вот только бы вспомнить что-то более важное, постой, постой… Про что это он только что думал? Привалившись спиной к обрывистому намету, он слегка как бы осел в снег, гудевшим ногам сразу стало легче. «Да Васей-то и зовут сына, вот бестолковая голова», – неожиданно легко мелькнуло в нем, и он коротко засмеялся. «Вася, ах, да, Вася», – сказал он и несколько раз вслух повторил это имя, привыкая к нему окончательно. Дорога или кончилась, или он, не замечая, просто свернул с нее; дальше он теперь, выбравшись из занесенного снегом бурелома, двинулся по целику, утопая выше колен, а иногда и до пояса; голубовато-тускло сияющие ели проползали мимо густыми, высокими пиками; иногда редко и резко чернели освободившиеся от снега лапы. Он шел несколько часов, стало светать, и звезды побледнели, он остановился на небольшой поляне; старые заснеженные кедры обступали его, и когда он потянулся взглядом к их вершинам, у него от высоты закружилась голова. Он сильно устал, но заставил себя собрать побольше сушняка, обтоптал снег и разжег костер. Несмотря на трудную и долгую ходьбу по бездорожью, он замерз и теперь, жмурясь и часто моргая настывшими глазами, с наслаждением тянул руки к слабому огоньку; сучья, разгораясь, потрескивали, легкий белесый дымок бесследно исчезал в смутно раскидистой кроне кедра. Постепенно отогреваясь, Макашин блаженно поворачивался к костру то одним, то другим боком; ему захотелось пить, и он, слепив большой и твердый ком снега, насадил его на палку, подержал у огня, с интересом наблюдая, как снег постепенно начинает таять, темнеть, пропитываться водой, затем осторожно поднес ко рту, высосал, все с тем же тихим и покойным удовольствием ощущая вкус дыма. Он уже решился, посидев еще немного, он стал доставать из карманов все, что там было, и складывать перед собою; все, что могло гореть, он медленно, одно за другим, подбрасывал в костер. Газету с портретом Захара, носовой платок, смятую пачку папирос, паспорт, трудовую книжку, замусоленный блокнот, в который он последний год заносил кое-какие расчеты по работе; все тщательно переворошив, чтобы сгорело дотла, он замер; тепло костра больше не действовало, он сейчас ощущал легкую, веселящую изморозь изнутри. Это было похоже на то, что он испытывал, убивая других, его сейчас вновь затягивала в себя жадная воронка, куда-то все глубже, глубже, назад, все стремительнее. В глубине души таился, выветриваясь, последний страх, мелькали лица убитых им людей, молящие, полустертые, но не забытые глаза теперь тоже словно просвечивали у него самого изнутри, и все для него превратилось скоро в один белый крик, заполнивший пришедшее в тайгу утро из края в край. Он рванулся в него; он сам никогда не умирал, но теперь ему хотелось почувствовать все, что испытывает человек в этот момент. Он не мог бы объяснить себе того, что с ним произошло, жадная дрожь еще раз прошла по телу, и он постарался хоть несколько унять ее. Не к месту вспомнив Васю, его вечно светящиеся в нем самом, в Макашине, родные глаза, по которым он всегда неосознанно тосковал, он еще помедлил. На лице у него появилась неуместная, но все более крепнущая улыбка, затем он взял пистолет, стараясь не прикасаться губами и языком к стылому, липкому металлу, осторожно просунул дуло в рот и выстрелил.
Последовал огненно ломающий все рывок головы назад, руку с пистолетом отбросило; вершина кедра с затухающим звоном подскочила, рванулась в сторону, прозрачный от белизны снег стал чернеть и проваливаться. Но каким-то странным, непостижимым образом на его лице опять образовалось, как-то закрепилось и затвердело подобие улыбки.
* * *
Через год, поздней осенью, когда уже вновь начинала подмерзать земля, двое местных охотников натолкнулись под вечер на эту поляну в кедрах, привлеченные ее уединенностью и красотой, и решили остановиться на ночевку. Один из них, помоложе, сходил за водой к быстрой, говорливой речушке неподалеку, слегка прихваченной с берегов ледком, затем стал собирать сушняк. Что-то белевшее в высохшей траве привлекло его взимание, он подошел ближе и увидел остов скелета с полусгнившими на нем остатками одежды, пожелтевший череп, словно отполированный дождями, ветрами, остальными превратностями погоды и всякой таежной мелочью, вроде муравьев и червей. Молодой охотник подозвал товарища, и они, как приличествует в подобных случаях, порассуждали о жизни, припоминая самые разные варианты несчастных случаев. Охотники не нашли ничего, что могло бы указать на личность погибшего; покрытый тусклой ржавчиной пистолет с несколькими неистраченными зарядами внес в догадки еще больше неясного, и они, прибрав останки и слегка привалив их землей, отдохнули, а затем, не сговариваясь, решили устроить ночевку где-нибудь в ином месте.
4Захар Дерюгин, как всегда, в семь часов утра вставал, одевался, съедал что-нибудь, с напускным равнодушием поглядывая на в одночасье постаревшую, с пустыми глазами жену, говорил ей несколько ничего не значащих слов и уходил на работу. Маня, после посещения Макашина вот уже больше месяца хворавшая, садилась у окна и подолгу глядела на мохнатую, узорчатую изморозь на стеклах, а иногда оттаивала своим дыханием кружочек и пыталась увидеть, что делается на улице. Зима была лютой, с ярыми, безветренными морозами, доходившими до пятидесяти градусов, и небо оттого большей частью было высокое, ровное, без единой помехи глазу, чистое, и только маленькое мерзлое солнце колюче поднималось в нем невысоко над тайгой. Пока кружочек на стекле вновь не затягивался, Маня следила за пробегавшими по улице людьми; но иногда эта ее отрешенность прорывалась раздражительными вспышками, она начинала бесцельно бродить по дому, натыкаясь на стены и мебель, часто плакала; возвращался домой Захар, и она утихала, молча собирала на стол, кормила его; в доме внешне сохранился прежний, привычный порядок, но и сам Захар, и Маня хорошо знали, что это не так. Если раньше жизнь семьи шла одним согласным руслом, то теперь Маня и Захар жили как бы отдельно и каждый сторонился другого; какое-то внезапное открытое недоверие установилось между ними. Что-то важное разладилось, а что – никто не мог понять, и это все больше и больше обоих мучило. Являлись и просветы, когда они, словно выныривали из несшей их мутной волны и опять видели друг друга по старому, но это случалось редко; Маня уже почти совсем не могла спать по ночам и сделалась плоха лицом; она теперь с нетерпением ждала минуты, чтобы погасить свет, остаться в темноте с тем неназываемым и безликим, что тотчас обступало ее со всех сторон; она знала, что ничего нельзя вернуть, и если Захар пытался затеять разговор, она начинала бояться еще больше, что-либо невпопад отвечала, а сама тотчас выдумывала себе дело, то принималась чинить ребятишкам штаны, то затевала стирку, а то скоблила и без того чистые полы. Как больной зверь забивается в дремучую чащу, отыскивая только одному ему ведомыми путями исцеление, тайную силу, заложенную в нужной неприметной травке, в потаенных деревьях, так и она вела себя; ее спасением было бессознательное бегство в прошлое, в тот страх, в ту жуть, что ей однажды пришлось пройти и вот теперь всплывшие опять. Она понимала Захара и не могла оправдать себя; к ней из темноты тянулись широкие, полные ожидания глаза Макашина. «Ну чего же ты, Маня, бей!» – слышала она его голос и отодвигалась от похрапывавшего Захара подальше; надо, надо были ударить, холодея, думала она, да ведь пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот если бы тогда она не обвяла от бабьего дурного страха, ударила бы, сейчас бы ничего и не было, жила бы себе припеваючи, ох, насмерть наказал бог за тяжкий грех с Макашиным, не замолить, не заслониться. Еще тогда, в сорок третьем, хотел Макашин забрать одного из сынов Захара; столько бы лишней злобы не случилось, не дрогни у нее тогда рука. «Господь долго ждет, да больно бьет», – любил повторять дедушка Макар, только вот теперь доходит до нее правда его старых слов; бросить бы все, уехать к своим, к матери. Нельзя ей больше тут оставаться, еще горшая может статься беда. Плохо ей рядом с Захаром, как-то не может она по-прежнему прямо ему в глаза поглядеть; а если он душой-то правду почуял? Макашин в тот вечер говорил: отведи меня в милицию, сдай, – а Захар вон как, рук не захотел марать, а почему, почему? Как же, грамотный, с работы вернется, пожрет – и за книжку на старости лет, все никак своего председательства над людьми не забудет. Все оно его блазнит, жить по-людски мешает. Другие вон и за зверем в лес, и за рыбой, и огороды у них вдвое больше раскорчеваны, а у этого все усмешки; досмеялся, доизгалялся, Захар Тарасович, тебе что, хоть бы и с Илюшей, дорого он тебе достался, что ли? Мужик и есть мужик. Растил ты его, поил, над болячками его старился? Тебе что…
Маня не могла понять, что с ней случилось и чего eй хотелось, не знала, кого она больше ненавидит сейчас – Макашина, себя или Захара; по ночам она часто вставала и уходила в другую комнату, прислонялась к теплому боку печки; здесь, рядом с детьми, ей становилось покойнее, но выхода, как она ни прикидывала, как ни старалась, не видела.
Теперь и вспомнишь матку родную, мучилась она, уж как не советовала она ехать к Захару, как ругалась. Ты, говорит, как родилась в недобрый час, на позор родителей, крученой, так и осталась, поезжай, поезжай к своему кобелю непутевому. Узнаешь, почем фунт лиха; коли бы она ее послушалась – и горя никакого, пусть бы Макашин с Захаром бились смертным боем, а дети бы при ней были; опять Маня торопко, с ледяным ознобом в плечах, тянулась во тьму; не далось ей уворованное у другой счастье, ворованное и есть ворованное. «Да разве я виновата, разве у меня была радость-то настоящая в жизни? – спрашивала она кого-то. – Пролетело все, и оглянуться некогда было. Все тайком, украдкой, грязь эту так и не могли отгрести; да только какая же это грязь, какая грязь? – тут же спрашивала она себя. – Не было никакой грязи, если разобраться, все было по-божески; как нищая, получила распоследний кусок – и рада, и довольна; да и то боялась, что в любой момент отнять могут, вот в своем бабьем страхе и промыкала долю, а сейчас спросить не с кого. Стоило откуда-то выпрыгнуть Макашину, и все зашаталось, а он ведь не сгиб напрочь, из-за любого угла может выскочить, теперь куска всласть не съешь, детям в глаза не поглядишь открыто… Чует сердце, не в том она даже и бабья жизнь, чтобы потом прийти к совершенно порожнему месту; вот и Захар рядом, и спит, и ест, а уже нет в нем того, чтобы он для нее весь мир закрывал, словно он в одночасье истончился, какие-то прорвы от этого открыл за собой, и потянуло из них ознобливым сквозняком. Ничего и Захар, оказывается, не мог сверх своей меры, а я на него надеялась, как на гору нерушимую: защитит, отведет горе-беду, из любой ямы вытянет. Сама дождалась, а ждать нельзя было, самой видеть бы, что не на кого и надеяться».
Она подходила к спящим детям, прислушивалась к их дыханию, опять возвращалась к теплому боку печи, прижималась к нему; она не хотела винить Захара и все старалась найти для этого разные лазейки, и, однако, она все чаще в свои бессонные ночи досадовала на него. И больше всего за то, что он спит, иногда даже похрапывает (это случалось все чаще), а она вот мучается с собой, боится, что Макашин где-то бродит в миру, может, сидит где-нибудь за углом в ночи, ждет…
Ей все казалось, что она со своей бедой осталась совершенно одна; она не знала, что именно в этом была не права, потому что, как только она крадучись вставала и выбиралась из постели, Захар тотчас открывал глаза и уже больше не мог спать; он твердо знал теперь, что Макашин забрел к нему не так просто и, возможно, в чем-то оказался сильнее и в единственном за много лет разговоре между ними хоть отступил на словах, но что-то темное, чужое оставил после себя. Захар никак не мог понять, почему ему стало так тяжело и как он, поживший, стрелянный уже не раз в жизни волк, в чем-то промахнулся с Макашиным; и баба ничего не говорит ему, но он-то хорошо видит, что с ней творится что-то такое, чего нельзя было допускать, и что причина этого – тот же Макашин. Надо было тут же, у порога, схватить и задавить, запоздало сожалел Захар, а там пусть бы разбирались, да нет же, ударился куда-то совсем в другую сторону, а ведь свой суд-то короче.
Пройдя войну, плен, Захар был уже не тем Захаром, что в любой дождь и снег мог пробираться к Мане в горницу, обещай ему за это хоть смертную казнь, что-то прежнее, бесшабашное подсохло в нем. Он теперь знал, что в жизни ничего нельзя объяснить с налету, а многое и совсем нельзя понять, но вот день или два тому назад к нему пришла неожиданная и мучительная потребность понять, когда, в какое время, в нем надломился серединный гвоздь; он сам не знал, зачем ему это было нужно, но работа началась, и не в его силах было, он знал, остановить ее. Каждую ночь, как только Маня вставала и бесшумно уходила, он тотчас открывал глаза, у него начиналась своя жизнь, отдельная от всего на свете, отделенная и от него самого; он должен был найти самый исток, зерно, из которого все началось, и в бессонные ночи перебирал дни, недели, годы, и все они издали казались на один лад. Вначале казалось, что виной всему была его ранняя женитьба, дети один за другим, бедность, но, поразмыслив, он тотчас отбрасывал время до организации колхоза, да и время до начала войны тоже. И Маня, и рождение Илюши, и его схлест с Брюхановым – все это не могло подбить его; он и сейчас не мог без стыдного горячения в лице вспомнить тот момент, когда Иван, его старший, так и сгинувший безгласно в войну, застал его тогда в сарае с веревкой в руках; уж не тогда ли все это и началось, спрашивал он себя, не тогда ли и попало ему в душу семя, забившее потом все чертополохом? Нет, не тогда, не то, решил он, натура у него медвежья и тогда, в молодости, все вывозила; вот потом какую избу отгрохал. А Ефросинья ее с немцами вместе сожгла, вот тебе и каменная баба, думал он; каменная, каменная, а сердце у нее гордое, и сюда отказалась ехать, значит, век жила с ним в обиде, а запрятанная обида – она горше любой другой. Так она с этим камнем и шла рядом, а он-то по-своему рассуждал: у нее, мол, характер легкий, покричала и забыла, да и чего ей не хватало от него? Вот только теперь, через много лет, он видел, чего ей не хватало; но как бы он ни хотел, он уже не мог вернуть ей долга, слишком тяжко он тянул, и не то что за остаток жизни, за всю жизнь сызнова этот долг не поднять. Из-за этого, пожалуй, и отказывался съездить как-нибудь в отпуск на родину, хотя отлично знал, что Ефросинья давно простила его; простила потому, что поняла его, лучше, чем он сам себя, да и кто знает, что его держит на этом проклятом месте вот уже пять лет?
Захар пялил глаза в сплошную темень, он знал, что над ним потолок, ни дождь, ни снег на него не повалят, и все-таки у него все крепло и крепло чувство своей беззащитности и открытости; словно на какой-то беспардонной картине, уместившей в себе всю его жизнь, жизнь его родных и знакомых, он все видел перед собою одновременно, с начала и до конца, и опять не мог не удивиться. Как же, думал он, пойми тут, что к чему, если родная дочь Аленка стала женой его же бывшего дружка Брюханова, мужика моложе его лишь всего на один год, и вот тебе на, живут, девку родила, внучку то есть ему, а он ни разу родной дочке не написал, хотя от нее письма не раз получал, и все они лежат у Мани в коробке. В этом ему тоже, видать, не разобраться вовек; ему не понять ни дочки, ни Тихона, теперь зятя. Ха-ха, зятя! А с другого бока, так что ему за резон рвать да метать в злобе? Раз сошлись и живут, значит, им виднее, сам-то он не больно спрашивал… И зять-то каков – закачаешься, секретарь обкома, что хочешь думай себе, а Аленка, видать, девка не промах, пусть хоть она за всех Дерюгиных по-людски поживет. И младшего, Кольку, вот у себя держит, учит, парень, говорят, способный, башковитый, пишут, в год по два класса проходил, поди пойми, откуда он такой получился? Вот так она, жизнь, распорядилась, собственные дети растут, а ты словно и ни при чем, оттого и душная злоба иногда плеснет на того же Брюханова: не пахал, не сеял, а урожай весь у него, пользуется себе чужим и не оглядывается. Да на это и закона не придумано, в этом каждый по-своему живет.
Он не раз обрывал себя; в конце концов он по собственному опыту знал, что все меняется, и то, что сегодня казалось важным, необходимым, завтра может вызвать усмешку, и наоборот. Или ты в самом деле, по словам Макашина, не добрал своего? – спрашивал он. Так если чего и не досталось, так не пропал же. Придет время, и с Маней наладится, и в Густищи в свой срок явишься погостить. А там и Холмск недалеко; ну, скажешь, давай, зятек Тиша, посидим! Поговорим! Да ты не суетись, не бойся, я тебе не помешаю, не запачкаю, я так к тебе, без всякой жалобы, я к тебе полюбопытствовать. Вот у тебя дети мои, скажу, одна в женах, другой в примаках, вот видишь, я для них ничего не сумел, а ты – все, вон какой ты важный, ну, так вот, я и зашел глянуть. Я так, без злого умысла, взглянул себе и пойду, так оно с самого начала определилось, тебе свой широкий большак, а меня вкривь повело, по болотам и рытвинам. Непростое оно дело – судьба, ты ее на козе не объедешь. Не хватило у меня какой-то малости, вот и все. Ну, да и мне обижаться нечего, по жизни не согнувшись, прямо прошагал…
И как-то в одну из таких ночей Захару, почти непрерывно жегшему крепчайший самосад, стало не по себе, затошнило, закружилась голова; он хотел встать и напиться, но, едва приподнялся, что-то словно отбросило его назад; он почувствовал медленную боль в правом подреберье и следом вкрадчивый удар вверх, к предплечью. Словно потянулись из его тела какие-то большие тугие нити, привязывающие его к чему-то извне, они словно выкручивали из него острую боль и рвались одна за другой и все-таки никак не могли прорваться полностью.
Он лежал, боясь пошевелиться, стараясь припомнить, когда и где с ним уже было нечто подобное; из полумрака выступал кусок бревенчатой стены, а напротив бесформенно расплывалось затянутое толстым морозным кружевом окно.








