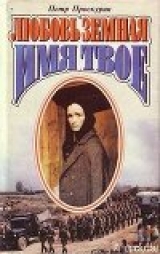
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 64 страниц)
Вечером, несмотря на упорное неодобрение Мани и ее настойчивые попытки удержать его дома, Захар пошел к Загребе. Он понимал Маню, но еще лучше он понимал, что если сейчас испугается и не пойдет, от этого нельзя уже будет потом оправиться. Было видно, что Загреба ждал, он тотчас позвал Захара на жилую половину, отделенную от кухни капитальной стеной из кедровых бревен и толстой, массивной дверью, вручную затейливо окованною по углам; как только Захар переступил порог, в глаза ему бросилась большая, прикрепленная к стене полка с книгами и рядом с нею картина в золоченом багете, изображавшая двух обнаженных до пояса женщин с молочно-розоватыми грудями; в приоткрытую в другую комнату дверь виднелся угол спинки широкой деревянной, с резьбой кровати. Стол был уставлен бутылками с пивом, настойками, разнообразной закуской – соленой рыбой, вяленой медвежатиной нарезанной большими кусками, остро пахнущим сыром, посреди красовался графин с разведенным спиртом. Потирая руки, Загреба подмигнул Захару уже как своему; он был теперь в хорошем шерстяном костюме в мелкую полоску и белой рубашке с отложным воротом; от этого, вероятно, он еще больше помолодел, в глазах у него проскальзывала веселая насмешка.
– Раздевайся, Дерюгин, к столу, к столу, весь день кое-как, на сухомятке… давай!
Пока Захар раздевался, Загреба успел налить; Захар взял свой стакан, и снова чувство близкой опасности заныло в нем; он чокнулся с Загребой, все с той же ожидающей усмешкой глядевшим на гостя, и выпил.
– Закусывай, Дерюгин, не стесняйся, – подбодрил Загреба и, только дождавшись, когда Захар неловко подцепил на вилку кусок медвежьего окорока, поморщился, проглотил полстакана разбавленного спирта и сразу же сунул в рот папиросу. Захар с интересом, не торопясь разжевывал твердую, отдающую неведомыми таежными запахами медвежатину; Загреба тем временем несколько раз глубоко затянулся и тотчас налил из графина еще. Захар покосился на его тонкую в кисти, бледную руку; вяленая медвежатина ему понравилась, и он взял еще, уже несколько размякнув от выпитого спирта, но чувство настороженности не проходило. «Однако что ему нужно, этому пану учителю? – подумал он. – Этот на пайке не будет сидеть… Не за красивые же глаза он меня поит-кормит? Сам ничего не жрет, смотри-ка», – подумал Захар, отмечая, что и вторую порцию спирта Загреба закусил все той же папиросой и сидел все так же прямо, с беспокойным блеском в глазах, лишь еще сильнее побледнел. Он почти сразу налил в третий раз; Захар, качая головой, продолжал есть, и Загреба как бы забыл о нем, ушел в себя; пьянея от мяса больше, чем от спирта, Захар привольно откинулся на спинку стула, потянул из кармана кисет.
– Вот налопался, – сказал он благодушно. – Спасибо, не ожидал…
– Давай, Дерюгин, еще, – кивнул Загреба на стаканы.
– Премиальные, что ль, заколачиваешь? Погоди, давай покурим. – Захар отодвинул от себя стакан.
– Что ж, каждому по потребностям, выпью, – сказал Загреба и поднял стакан. – За твое здоровье, Дерюгин.
– Закуси лучше, кишки опалишь, – посоветовал Захар, видя, что Загреба опять посасывает папиросу, но тот не отозвался на это.
Перекидывая из угла в угол рта изжеванный окурок, он, казалось, совсем забыл о госте. «Черт с ним, – решил Захар. – Сейчас поднимусь и пойду, очень он мне нужен со своими выкрутасами». Загреба, угадывая, предупредил:
– Наверное, Дерюгин, сидишь и думаешь: какого он, мол, черта позвал меня? Так? – все с той же долгой, неисчезающей усмешкой на бледном лице качнулся он к Захару. – Что, мол, ему надо от меня?
– Думаю, как же, мне не думать нельзя.
– У меня действительно есть разговор к тебе, Дерюгин. – Загреба глянул поверх головы Захара. – Но… без всяких недомолвок, человек ты умный и должен понять. Обо мне в поселке много всяких мерзостей болтают. Что я зверь, девок к себе таскаю, сердце во мне мохнатое… ведь говорят, Дерюгин?
– Я к тебе, парень, в стукачи, кажется, пока не нанимался, – принял вызов Захар и, намеренно располагаясь свободнее, расстегивая верхнюю пуговицу на рубашке, вольготно вытянул ноги.
– Не то, не то, – с досадой остановил его Загреба. – Совсем не то. Мелешь какую-то чушь… Я человек маленький, я от скуки здесь подыхаю… К тебе люди тянутся, ты в передовиках ходишь, а люди тянутся к тебе, хотя здесь передовиков не любят. Значит, ты зачем-то им нужен. Зачем же?
– Только и всего? – озадачился Захар, вернее, сделал вид, что озадачился. – Не знаю. У меня время на разную чепуху не остается. Знаю свое дело, а больше не надо.
– Разумеется… ты прав, каждый должен знать, что ему надо и зачем, – подхватил Загреба. – Но это не всегда, не всегда, Дерюгин. Сколько таких, чего-то ему хочется, все-то он мечется, ищет, а чего – точно и не знает.
– Ты-то не из таких, у тебя прицел точный, – заметил Захар; он помедлил, обдумывая складывающуюся ситуацию, повертел в пальцах стакан со спиртом. – Выпьем, – предложил он теперь уже сам, все с тем же легким вызовом в глазах, который можно принять и за дружескую усмешку.
Загреба отхлебнул, задержал во рту огненную горечь почти неразбавленного спирта; теперь, после третьего раза, к сердцу подступила долгожданная легкость.
– Ты прав, Дерюгин. – Загреба свободно переходил от одной интонации к другой. – Ты себя, видать, привык уважать, я это чувствую, твое к себе уважение, но человек – он что такое? Он должен порядок понимать, свое место в общем ранжире. А какое твое место в этом ранжире? Признайся, самое последнее. Я тебе честно скажу: ты меня сразу заинтересовал, долго я к тебе приглядывался. Вот, думаю, удивительный характер: свободен, как птица, лети в любую сторону, а он здесь, в этом болоте, торчит. Я бы на его месте минуты не ждал… Интересно! Интересно! Все просто объясняется. – Загреба широким жестом указал на стол. – Почему бы, думаю, не встретиться, не узнать для себя чего-нибудь нового? Мне здесь десять лет знаменитого русского комара кормить, нужно приспосабливаться. Открой мне, Дерюгин, свой секрет: что тебя здесь держит? Все ведь бывает, вероятно, и мне после нашего разговора легче станет, увижу то здесь, чего пока никак не найду… Что это за жизнь без всякого интереса? Согласен?
– Темнишь, Загреба, – не принял его откровенности Захар. – Так не бывает, чтобы совсем без всякого интереса… Что-нибудь да подвернется…
– Есть, Дерюгин, есть, – с досадой согласился Загреба, с виду совершенно трезвый. – Но ведь это в данном случав такая мелочь… тьфу! Допустим, иду по поселку, все знают, что это я иду, какой-то затюканный кладовщик по здешнему ранжиру. Стараюсь, чтобы поменьше замечали, а если кто-нибудь вроде тебя, Дерюгин, лишний раз поглядит, мне уж и не по себе. Начинаешь мучиться: почему да как? Это, что ли, эликсир жизни, ради этого гнить? А рядом свободный человек держится за это место, которое бы ты и в кошмарном сне не хотел увидеть, любопытно ведь! – Загреба быстрым движением выплеснул в себя остаток спирта из стакана, впервые отщипнул хлеба и бросил в рот.
– Задачку ты занозистую завернул, парень, орел, – откровенно признался Захар. – Как ты ее теперь будешь распутывать…
– Знал я, Дерюгин, что ты человек с нутром, потому и позвал на свободе поговорить, без помех. Только ты проще, проще, ничего лишнего не думай, не ищи…
В это время за дверью в соседнюю комнату послышалась какая-то возня, царапанье, а затем и легкое повизгивание; Захар понял, что это знаменитая немецкая овчарка Загребы по кличке Яшка, с которой он не разлучался, и по бледному лицу Загребы тотчас расползлась радостная улыбка.
– Заскучал, заскучал, Яшка, – сказал он, твердыми шагами подходя к двери и впуская поджарого, с темной спиной и с подпаленным животом, остроухого зверя ростом со стол; тотчас припав слегка на задние лапы, пес тихо зарычал на Захара.
– Силен псина, – одобрительно усмехнулся Захар, в то же время чувствуя, как невольно тяжелеют, напрягаются руки.
– Спокойно, Яшка, здесь свои, – сказал Загреба, похлопывая собаку по загривку; Яшка выжидательно поглядел на хозяина, подошел к столу, тщательно обнюхал ноги Захара и лег на пол. Загреба бросил ему несколько больших кусков мяса; Яшка ловил их в воздухе и глотал, почти не разжевывая, и Загреба с минуту любовался псом, методично и твердо постукивающим кончиком хвоста об пол. В их отношениях улавливалась какая-то глубинная, не совсем обычная связь; этого кобеля в поселке боялись не меньше самого Загребы. Захар знал, что лучше всего поступить именно по словам Загребы: быстро, не мешкая, собраться и куда-нибудь уехать, – но с такой же определенностью он знал, что никогда этого не сделает, тем более после того, что ему сейчас приоткрылось; нельзя было подчиняться желанию этого недобитого бандеровца, хотя бы потому, что он именно этого и хотел и вел к этому дело. Черт с ним, пусть себе побесится, никакой Загреба ему не указ, даже интересно становится. Будь он сам помоложе, он бы тоже мог сейчас и промахнуться, наговорить этому бандиту кучу всего, но теперь, когда он хорошо узнал цену зря брошенному слову, еще посмотрим, кто кого объегорит.
– Первый раз медвежатину пробую, – вспомнил Захар, изучающе глядя на Загребу, словно ожидая от него новых необыкновенных откровений.
– Понравилась? Хочешь, достану, – предложил Загреба. – У меня знакомые охотники из местных есть…
– Неплохо бы, – согласился Захар, втягиваясь все глубже в какую-то запутанную игру и начиная уже опасаться этого; но и Загреба, в какой-то мере позабыв об осторожности, закусил удила, чувствуя перед собой непокорную, в чем-то, несмотря на грубость и, как ему казалось сейчас, прямолинейность, насмешливую силу; тут уж на первый план выходило нечто совсем простое, вроде того что встретились два козла на бревне через ручей…
Вовремя уловив это, Загреба хлебнул из стакана еще, совсем дружески улыбнулся Захару, и тот ясно представил себе, как Загреба по вечерам, запершись в одиночестве, в присутствии умного кобеля мертвецки напивается, засыпает где придется и кобель лижет горячим языком ему лицо. «Ах ты зверь! – подумал Захар. – Значит, я тебе мешаю на этой земле…» И еще мелькнуло, что надо, пока не поздно, как-то вырваться поскорее, Маня с детьми теперь тревожится, черт знает что думает; но именно с этого момента Загреба, все-таки не удержавшись, закуролесил, и началось главное, затянулось до полуночи.
– Вижу, вижу, – горячо и зло сказал он, и Захар краем глаза уловил, как все в облике собаки, вроде бы и не шевельнувшейся, переменилось. – Ты вот сидишь, Дерюгин, а что думаешь обо мне? Гад, мерзавец, может быть, еще хуже… Пей! – внезапно повысил голос Загреба, одобрительно оглядываясь на немедленное предупреждающее рычание пса. – Пей, вместе со мной пей!
– Не ори, Загреба, закусывать надо было, – посоветовал Захар почти спокойно. – Ты, видно, совсем меня плохо знаешь. Насильно ты меня ничего делать не заставишь, я не таких видел. А выпить я еще выпью, сколь хочу… выпью.
– Вот и хорошо. – Загреба задержал дыхание, вылил в себя спирт; Захар подумал и последовал его примеру, не забыв при этом опять потянуть к себе блюдо с мясом, и, выбрав кусок поаппетитнее, откусил от него.
– Хорошо, правда, Дерюгин? Сидишь, пьешь со мной, а что ты обо мне знаешь, Дерюгин? – жестко, в упор, повел свое Загреба, и Захару показалось, что он все время словно идет по какому-то кругу, все сжимая и сжимая его к центру; сжимает и словно боится того, что должно будет случиться. – Что ты, я спрашиваю, знаешь обо мне?
– На кой черт ты мне нужен? – разозлился Захар. – Ну, скажи, какой мне от этого прибыток, Загреба? Без тебя хватает забот…
– Если ты действительно умный, поймешь. Мне тоже душу освободить хочется, – ясно и четко признался Загреба. – Я что, по-твоему, на свет вот так взял поселенцем и родился? Мне, Дерюгин, в детстве большую судьбу предсказывали, слышишь? – понизил он голос – Не знаешь ли, а, почему это я проиграл, Дерюгин?
– Не знаю. – Захар глянул в сторону, потому что на пего пахнуло чем-то невыносимо понятным и в то же время жалким и беспомощным.
– Вот, не знаешь, – словно обрадовался Загреба. – Я все знаю… Только сказать нельзя… Пожар у меня все по ночам в голове, Дерюгин… мозг горит. Неужели все только приснилось – надежды, счастье, сказочные страны, – все рассыпалось падучей звездой? Теперь только тьма, комарье, – передернул плечами Загреба, – медвежатина, бандиты, грязь…
– Вот, вот, здорово говоришь, – слегка подался к нему Захар, чувствуя какое-то непреодолимое желание противоречить и понимая, что Загреба ни на секунду не выпускает его из-под контроля. – Бывает и так, грязью по грязи, чтоб погуще было. Ничего и не разберешь.
– Ты чистеньких в этой жизни видел, Дерюгин? – быстро спросил Загреба, с наслаждением отмечая на лице Захара признаки некоторой растерянности. – Если видел, значит, с особой породой встретился… Грязный мир, все в грязи потонуло. Что ж ты молчишь, Дерюгин? Что это у тебя по лицу пробежало?
– Пошел ты, тоже, артист нашелся! – огрызнулся Захар, чувствуя, что невольно подпадает под чужое настроение и власть. – У меня своя жизнь, у тебя своя. А если мне неинтересно с тобой?
– Потому и неинтересно, что возразить нечего…
– Брешешь, брешешь, – в тон отозвался Захар, лихорадочно погружаясь в свое прошлое, бесконечное, близкое, жадное, по сейчас в голову не приходило ничего подходящего, и он с неприязнью глянул в ждущие глаза Загребы; тот с чуткостью зверя понял это, радостно и шумно дохнул.
– Давай лучше выпьем, Дерюгин, – предложил он.
– Пить так пить, – согласился Захар, уходя и от самого себя, потянулся к стакану. – Только вот что, Загреба, за твои слова я пить не буду, тут мы с тобой на разных дорогах. Если ты девку принудишь, к примеру, спать с тобой…
– Кто их принуждает? – Загреба как-то возбужденно и неодобрительно засмеялся. – Сами во все дыры прут, ты верь больше всякому бабьему трёпу, они…
– Слушай, Загреба, молчи, – попросил Захар. – Лучше еще выпей.
– Бесполезно, на меня не действует. – Загреба пренебрежительно махнул на графин. – У меня такой редкий организм, невосприимчив к алкоголю. Так, чуть-чуть… Слышал об этом? Черт с ним, как говорят местные людишки, хотя порой жалко…
Захар с готовностью взял свой стакан и проглотил теперь безвкусный, слегка вяжущий во рту спирт; он не мог сейчас до конца понять сидевшего с ним за столом человека, не мог понять, к чему тот вел дело, и хотел поскорее вернуться к своим необходимым и привычным делам. Но он не мог встать и уйти, не хотелось бы уступать Загребе так просто. Кроме того, за этим таилась еще какая-то, более значительная, опасность.
Делая вид, что слушает погрузившегося в воспоминания, куда-то в свое детство, Загребу, иногда про себя посмеиваясь, Захар в то же время с особой ясностью представил главное, что случилось с ним в последние годы, особенно после того как он, уже находясь в отряде словацких партизан, вновь попал в плен и в неразберихе германского отступления опять остался жить, хотя по всему должен был бы погибнуть, был затолкан в какой-то смрадный, битком набитый вагон, несколько дней куда-то несущийся и в конце концов очутившийся среди англичан. И то, что с ним случилось даже в последние два-три года, самому ему сейчас показалось совершенно невероятным, словно он прочитал об этом в книжке или кто со стороны ему рассказал; он не мог даже представить себе, что все это он прошел и вынес, сидит вот в глуши уральской тайги, пьет спирт с этим «паном учителем», для которого и в самом деле нет законов, и что только это сейчас и есть настоящая жизнь. Двусмысленное недоумение Загребы насчет добровольной жизни в этих местах приоткрылось иной стороной: он подумал, что зря заманил сюда Маню с детьми, да и зачем ему действительно сидеть в этой чертовой дыре с ее лагерями и бандитами?
Он горестно покачал головой от этой мысли.
– Видишь, согласен, согласен, – говорил в это время Загреба, истолковывая движение Захара по иному, по-своему. – Я сюда двадцати восьми лет попал, сам не знаю, за что… В исторических склоках права личности всего лишь пустой звук, подул – и нет ничего… Ф-ф-у! А здешнее царство, Дерюгин…
– Ладно, спасибо за хлеб-соль. – Захар тяжело поднялся, пошевелил плечами. – Пора мне…
– Раз пора, иди, иди, удерживать не намерен, – вскинул на него беспокойные глаза Загреба; пес в это время тоже встал, потянулся лениво, пошел и лег поперек двери.
– Ишь ты, скотина, – понимающе изумился Захар и с недоброй, тихой миролюбивостью посоветовал: – Ты его, Загреба, лучше убери. А то я и ножичком могу псину-то, у меня такой ножичек с собой. У меня жена, дети, мне кормить их надо… огород надо завтра копать.
– Яшка, сюда! – позвал Загреба пса, тотчас шевельнувшего хвостом и отошедшего от двери. – Не так подумал, Дерюгин… иди… И не забывай, о чем я тебе говорил. Что ты, в самом деле, здесь забыл? Места на земле много… А здесь неинтересно, здесь если только в уголок забиться, притихнуть… не по твоему это характеру, Дерюгин…
– Места много, да и людей тоже, – пробормотал Захар, уже совсем намереваясь уходить и только раздумывая, попрощаться ему или нет.
– Еще вот что, Дерюгин, – неожиданно добавил Загреба. – Этот Брылик из твоей бригады как будто топором меня грозился срубить. Ты ему там кинь пару слов… а? Что он бесится, невинного человека марает… Зачем же?
Загреба говорил так спокойно и ясно, что Захар подумал: уж не под стол ли он сливал свой спирт; слегка расставив ноги на прочном полу из кедровых досок, не отвечая, он с холодным, спокойным лицом ждал пояснения.
– Ну, прощай, Дерюгин…
– Бывай, Загреба.
Захар толкнул тяжелую дверь, чувствуя на себе два взгляда – человечий и собачий, горячий, звериный; он помедлил, повернул голову.
– Ты знаешь, Загреба, ей-богу, не знаю, кому из нас притихнуть надо. Ты бы тоже подумал, сколько веревочке не виться, конец будет. Никак в толк не возьму, на что ты рассчитываешь?
Ощупью отодвигая щеколды и скидывая с петель крючки, он вышел на улицу; сырой, холодноватый ветер ударил ему в лицо, и шум тайги вокруг поселка, уже по-летнему тревожный, словно чего ждущий, охватил его. Несколько окон слабо светилось в сплошной тьме; с удушьем у горла он почувствовал, как безгранична и густа тьма кругом, и какая-то прежняя, молодая ярость вспыхнула в нем. «Ах, сволочь, ах, звереныш, – злился он. – Ноздри-то у него как ходили… как на свежую кровь… а? Подожди, жизнь, она тебя еще покрутит, она не из одних девок сопатых…»
Где-то во мраке прорезалась светлая широкая полоса, и оттого свистящий вокруг ветер стал еще гуще. Стремительно и мощно проносились мимо минуты, часы, года, сердце еще раз радостно ворохнулось и улеглась на место; что бы ни толковал Загреба, какая бы червоточинка ни заныла и у самого под сердцем, еще были дети, и он не хотел и не мог жить, забившись куда-то вот в такую беспролазную тьму.
15Лето пришло и покатилось своим чередом, цвели лиственница и кедр и прочее дерево; ветер нес нескончаемые волны тончайшей пыльцы, цвела неяркая, скудная северная земля, по ночам в ее глухоманях, в отошедших от зимы болотах и многочисленных озерах слышались тяжелые, трудные вздохи, всплески, а то начинали суматошно кричать утки, или взгоготнет потревоженный гусь, или еще какая водяная птица. А то родится и разнесется далеко вокруг и совсем уж непонятный звук, настолько он необычен и необъясним, что те, кому приходится его слышать где-нибудь в пути, на ночевке у костра у светлой таежной речушки, тут же настораживаются и замирают и долго потом стараются понять, что же это за таинственный, далекий и властный зов, на голос которого тотчас отозвалась вся кровь? Из какой бесконечности пришел он, отчего волнует? Смутно, неясно, со звенящей тоской чувствует в эти минуты человек свою тесную, неизъяснимую связь с тьмой глухих, ушедших времен, отдаленный, еле слышимый, мучительной первобытной страстью наполнивший сердце голос разольется в нем сладостным ядом, жадной горечью жизни. Невольно тянется человек навстречу тому, чего не может ни назвать ни определить…
После странного, тягостного разговора с Загребой Захар ушел в себя и помрачнел; чтобы не пугать жену, он ничего не сказал ей о сути их с Загребой столкновения, Загреба же при встречах был приветлив и охотно заговаривал первый, как бы много вокруг ни собиралось людей. А третьего дня, когда они встретились наедине (Захар вывернулся из-за угла навстречу Загребе, сам того не желая), тот поздоровался, остановил его, предложил закурить, будто были они лучшими в мире друзьями. Закурили из портсигара Загребы, попыхали белесым пахучим дымком, таявшим на ветру; рядом с Загребой, влажно поблескивая темными глазами, как изваяние, без единого движения, застыл пес.
– Как, Дерюгин, ничего не надумал? – дружелюбно улыбаясь, спросил Загреба, и Захар в ответ ему охотно засмеялся.
– Шутник ты парень… Самый карась пошел, какие тут могут быть думки? – возразил он, не упуская беспокойных, как бы хмельных глаз Загребы и от этого сам невольно зажигаясь.
– Карась, говоришь, идет? – Загреба задумчиво поковырял землю носком сапога, словно и не было последних слов Захара. – Это хорошо, карась… детишки, зимы здесь долгие… на окнах узоры – глаз не отведешь, красота…
Перекинувшись двумя-тремя незначительными фразами, они разошлись; не забывая о Загребе, но и не слишком-то задумываясь о нем и его выкрутасах, Захар все так же ходил на работу, копался дома по хозяйству, подконопатил и просмолил заново лодку, перебрал сеть, починил вентеря, затем, выбрав свободное время, в одночасье смотался с Илюшей и расставил их в облюбованном месте и в выходной, еще на заре, отправился за добычей.
Шлепая веслами по воде и глядя на вихрастый затылок Илюши, сидевшего на носу лодки с небольшим багром и внимательно смотревшего в воду перед собой, чтобы уберечь лодку от столкновения со случайной корягой, Захар дышал легко и свободно, с удовольствием, цепко посматривал по сторонам. Поросшие густым тальником берега узкой протоки медленно ползли мимо, кое-где в высоких местах тайга подступала к самой воде. Часто встречались подмытые в весеннее половодье, сильно наклонившиеся к реке деревья, в любой момент они готовы были рухнуть в воду, и Захар старался протолкнуть лодку под ними поживее, усиленно работал веслами; даже слабый порыв ветра мог обрушить в реку почти лежащее плашмя дерево. Старую глухую протоку километрах в тридцати от поселка, тихой, глубокой петлей врезавшуюся в тайгу, Захар знал достаточно хорошо; к осени она мелела, течения в ней почти не ощущалось, проступали желтовато-серые плесы. Но в самый разлив, как сейчас, тихая протока наполнялась тугой стремительной силой, и чтобы подняться вверх, приходилось хорошенько попотеть, хотя все равно это было и приятно.
Захар удивился про себя, как сильно прибыла вода и усилилось течение за три дня, с тех пор, как они с Илюшей ставили вентеря, на тот же самый путь вместо трех-четырех часов пришлось затратить чуть ли не втрое больше; в одном месте перерубили толстую коряжину, в другом, натолкнувшись на залом, протащили лодку по берегу.
Поглядывая на низившееся в тайге солнце, Захар уже знал, что они сильно запаздывают. «Назад придется ночью добираться, – встревоженно подумал он, – темень с вечера, хоть глаз коли… Правда, вниз-то по течению легче, если бы не бурелом, а то на каждом шагу коряжины… недолго и до беды. Придется заночевать, кстати, и на работу в понедельник в ночную, успею…»
– Пригнись, Илья, – предупреждающе сказал Захар, проводя лодку под стволом валежника, еще каким-то чудом горизонтально державшегося над самой водой.
Илья с неосознанным щегольством молодости наклонил голову ровно настолько, чтобы проскочить, и в волосах у него остались кусочки красноватой сосновой коры. «Все-таки задел башкой», – подумал Захар весело, но вслух ничего не сказал: боялся спугнуть парня, сын понемногу стал привыкать к нему и между ними только-только начали выстраиваться с виду грубовато-ласковые, но на самом деле глубокие, доверительные отношения. Они понимали друг друга без слов, вот и сейчас в ответ на предупреждение отца Илюша только кивнул, привычно откинув длинную прядь со лба, и Захар по доброму усмехнулся, подумал, что совсем не заметил, когда Илья превратился в почти взрослого парня с широкими, сильными плечами, с упрямым, ершистым затылком и с явным сознанием какой-то своей внутренней правоты и силы. И к чему о чем-то жалеть? Вот она, жизнь, сидит перед ним на носу лодки, напряженная, жадная; все нормально, все как и должно быть, а больше ничего и не надо.
Еще издали Захар увидел знакомое, давно облюбованное им место: высокий обрыв с двумя раскидистыми, резко выделявшимися в голубизне неба кедрами, дальше протока сразу же широко разливалась, затопляя низкие травянистые места; над ними густо чертили предвечернее небо чайки. Вскоре лодка ткнулась носом в мягкий песок небольшой чистой отмели, и Илюша легко выпрыгнул, потянул лодку за собой.
– Доехали… Вот простору человеку дано, а ему, ненасытному, все мало, – сказал Захар, освободив весла из уключин. Разминая затекшие ноги, он переминался с одной на другую, с наслаждением вглядывался в неизмеримую даль затопленных половодьем низинных мест; кое-где густыми островами торчали верхушки тальника. – Заночуем, Илья, в темноте сейчас опасно. Накомарник возьми, сушняка надо собрать на ночь, ухи сварить… Есть-то хочешь?
– Хочу… эх, здорово! – не удержался Илюша, в одну минуту взлетая на обрыв, к кедрам, где он уже бывал с отцом.
Захар вытянул лодку подальше на песок, выложил из нее все, что было нужно для ночевки, на берег, затем опять столкнул на воду и через несколько минут уже вытряхивал из вентеря набившихся в него карасей для ухи; толстые, тяжелые рыбины шлепали хвостами по днищу лодки, зевали, подскакивали; Захар поставил вентерь на место, закрепил его и скоро уже ловко и быстро чистил еще не совсем уснувшую рыбу, потрошил, прополаскивал ее. Илюша тем временем натаскал сушья для костра, нарубил еловых лап для ночлега, быстро натянул над ними марлевый полог; управившись, они присели у костра с весело булькавшим над ним казанком. Было еще светло, хотя уже чувствовалось приближение ночи: в низинах начинал коптиться предвечерний сумрак, над протокой местами белесо задымился первый туман.
– Рыбу будем завтра выбирать? – спросил Илюша, покашливая от дыма и делая вид, что ему совершенно безразлична начинавшая сильно и аппетитно попахивать уха; Захар взглянул на него, засмеялся, отмахиваясь от все густеющей стены комаров.
– Завтра с утра пораньше и выберем. Под пологом ужинать-то будем? А то не дадут…
– Это дело я сейчас налажу, – с готовностью отозвался Илюша. – А скоро доспеет?
– Можно снимать. Что карасю вариться? Закипело варево – и готово.
Илюша подсунулся под полог, завозился, устраивая место для еды; скоро Захар передал ему казанок с дымящейся ухой, предварительно отмахнувшись от комарья, залез и сам, увидел аккуратно разложенные на чистой тряпочке ложки, два куска тяжелого, сырого хлеба, тут же была сероватая крупная соль в коробке из-под спичек. Захар мысленно похвалил сына; скоро они оба хлебали жирную, наваристую уху, стараясь растянуть хлеб подольше; Илюша отвалился от казанка первым, откинулся на слой свежих, пахучих еловых лап.
– Ох, наелся, – сам себе дивился он. – Гляди, живот лопнет.
– Ничего, цел будет, – осторожно выбирая из ложки кости, ответил Захар. – От еды никто еще не пропадал. Знаешь, твой прадед, дед Макар, говорил, что по сытому брюху хоть обухом бей, не повредишь.
По-крестьянски старательно добрав из казанка остатки ухи, Захар, брякнув ложками, выставил его из-под полога, откинулся на спину.
– Ты спи, – сказал он сыну. – Покурю, сам вымою…
– Мы так, батя, не договаривались, – не согласился Илюша, выскользнул из-под полога, сбежал с казанком к воде, на ходу хватая пучок травы; теперь вечерний сумрак уже основательно заливал тайгу, и только на востоке от вершин деревьев шло синевато-мглистое сияние.
Глубокая тишина, нарушаемая всплесками рыбы да криками какой-то птицы, возившейся на мелководье неподалеку, лишь подчеркивала это неодолимое наступление ночного покоя. Почти вся протока была покрыта толстым слоем неизвестно откуда взявшегося, клубящегося у берега тумана; Илюша опасливо шагнул в него и тотчас утонул в нем чуть ли не до подмышек; ни рук, ни казанка не было видно. Илюша оглянулся, костер на высоком берегу дрожал, словно переменчивый золотой куст, стволы кедров в его свете сочились, переливаясь красновато-темным золотом. Впервые смутное, щемящее волнение от таинственной красоты ночи вошло в его душу; захотелось сделать что-то необычное: побежать, прыгнуть с высоты, полететь; что-то обострилось в нем до такой степени, что он услышал тихий, вкрадчивый шорох трущегося у его ног тумана. И еще ему показалось, что он слышит чей-то нежный голос, словно кто-то позвал его. У него сильнее забилось сердце, захотелось скорее отбежать от берега и оказаться рядом с отцом. Он сдержался, нырнул в туман, почувствовав его влажную прохладу лицом, ощупью подобрался к воде и тщательно вымыл казанок и ложки. И только потом, стараясь не торопиться, вернулся к костру, поставил казанок и ложки просушиться. Захар сонным голосом позвал его из полога спать.
– Сейчас, батя, иду, иду, – отозвался он тихо, не шевелясь, широко открытыми, немигающими глазами глядя на огонь, всем своим существом ощущая, какая большая, скрытая в ночи жизнь вокруг и что, по сути дела, ему мало что ведомо в ней, ему даже почти ничего не известно об этом большом сдержанном человеке, спящем рядом, за пологом, своем отце, хотя он любил его как-то пронзительно, до дрожи, до боли в сердце с тех самых пор, как узнал.
– Батя, – окликнул он негромко, стараясь не потревожить покоя вокруг.
– Что, сынок? – сонно отозвался Захар.
– Скажи, батя, ты о Густищах-то вспоминаешь?
Уловив в голосе сына непривычную грусть, Захар открыл глаза, сон у него как-то сразу пропал.
– Думаю, Илья, как не думать, вся жизнь, считай, там прошла.
Захар говорил вначале из-под полога, затем выбрался наружу, подбросил в огонь сучьев, устроился рядом с Илюшей и тотчас потянул из кармана кисет. Говорить ему не хотелось, лучше бы помолчать, но какое-то предчувствие подсказывало ему, что сейчас нужно, несмотря на трудный день, не спеша посидеть у костра, может, и потолковать о чем-нибудь вдвоем. В кустах что-то шумно затрещало; оба насторожились, а Захар быстро, привычным движением подтянул к себе ближе топор, лежавший у костра, но все опять затихло, лишь еще раз слабый шум послышался где-то очень далеко.








