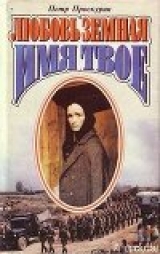
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 64 страниц)
– А ну, враженята оголтелые, кеш, кеш отседова! – закричал он. – Счас хворостиной всем троим врежу без разбору, хоть Прошке, хоть Лешке, хоть тебе, чертенку… Максимильяну! Природа! А ну! – Фома быстро подхватил с земли обмызганную сосновую ветку, и его внуки, бросив метр, брызнули в разные стороны; Фома тут же поднял растерзанный метр, бережно сложил его, сунул в карман, погрозил в сторону внуков, уже опять сбившихся в одну кучку: – Вот я вам!
– Сталый дулак! – ясно донеслось до Фомы, и он, выпучив глаза, вначале оторопел, затем медленно, под хохот других мужиков, двинулся к внукам.
– А ну, внучики, а ну, кто же из вас такой умненький, а? – спрашивал он тихо, шаг за шагом, чтобы не спугнуть, приближаясь к ним. – Ты, Алексей, а? Или ты… Максимильян, а? – растерянно метнулся Фома взглядом с одного одинаково насупленного лица на другое, затем на третье, напрасно силясь определить, кто из внуков есть Алексей, а кто Прошка. – Ну, признайся кто, конфетку получит, сладенькая, а, кто?
Фома сунул руку в карман, делая вид, что что-то там отыскивает, в то же время продолжая незаметно приближаться к внукам, но в тот момент, когда он уже готов был ринуться вперед и ухватить хотя бы одного из них, ребятишки бросились врассыпную, и Фома опять остался ни с чем, издавая неясные восклицания и возмущенно вертя головою. Плотники посмеялись и вновь принялись за дело; Захар оглянулся и увидел незаметно подошедшего Митьку-партизана, стоявшего как-то молчком; Захар успел уловить во взгляде, во всем облике Митьки неприязнь и со скупой усмешкой ответил на Митькин кивок, но едва он взялся за топор, Митька шагнул к нему, сел на то самое бревно, которое Захар приготовился обтесывать.
– Захар Тарасыч, можно тебя на минутку? – спросил Митька, и Захар, взглянув на плотников, опустился рядом с ним.
Дул легкий, сухой ветерок, было солнечно, лишь над слепненскими лесами высоко и редко были разбросаны белоснежные комья облаков. Захар хорошо помнил расположение построек на колхозном дворе до войны, от них ничего, кроме двух длинных подвалов, не уцелело. Новая конюшня, вполовину меньше прежней, была поставлена на старом месте, а склады отнесли дальше в сторону, в поле. Подходило время обеда, и Стешка Бобок с Прасковьей Антиповой запрягали лошадей в телеги, плотно уставленные бидонами, – собирались ехать на пастбище за дневным удоем. Митька проследил за взглядом Захара.
– Значит, не отпускаешь, Захар Тарасович? – спросит он задумчиво, и Захар, не переставая следить за Прасковьей Антиповой, по-мужичьи ловко заводившей лошадь в оглобли, тихо вздохнул.
– Вот что, Дмитрий, – сдержанно сказал он, – я тебе не поп, что ты дурака-то валяешь? Мне бы кто самому грехи отпустил, да, видать, некому…
– Тебе некому, – согласился Митька-партизан. – У тебя и грехи другие, Захар Тарасыч, видать, некому их и отпустить.
– Не там ищешь, Дмитрий, – покосился на него Захар; работающие рядом мужики, Фома Куделин с Володькой Рыжим, хоть и не перестали стучать топорами, но как-то делали это тише, с любопытством тянули уши в их сторону, и Захар еще понизил голос – Лучше себя попытай, Дмитрий, сам в себя загляни. Как у самого с собой дело сладится, так оно и будет. А по сторонам что ж рыскать…
– Не-ет, Захар Тарасыч, не отпускаешь, – упрямо повторил Митька, поднимая с земли желтоватую, истекавшую смолистыми запахами щепку, и, словно разглядывая, то и дело переворачивал ее с одной стороны на другую. – Ты не думай, Захар Тарасыч, ничего плохого, я к тебе не со злом…
– И не с добром, – скупо уточнил Захар.
– Не с добром, – помедлив, спокойно согласился Митька. – Откуда ему, добру, быть? Человек ты больно уж неудобный.. Да и это все так, дурь… я к тебе не от обиды, я к тебе от непонимания… До твоего возврата в Густищи я ведь твердо решил сматывать вожжи, все к тому определилось, уж и душу мне по-другому отпустило. Уже и бабу обломал, и место себе присмотрел… А ты появился, и все наново пошло, вроде кто удавкой меня захлестнул и водит, водит круг себя! Что-то во мне заколобродило, заколобродило… Вот и потянуло хоть стороной-то узнать: что же ото за сила такая у тебя, Захар Тарасович?
– Э-э, Дмитрий, эту самую… не городи, – довольно дружелюбно хлопнул его по колену Захар. – Вокруг своей совести ты на привязи кружишь, никак не порвешь… придет срок, перетрется, само лопнет… А ко мне ты так… от своей же болезни и привязываешься… Не гожусь я в лекари, Дмитрий, башкой не вышел…
– Не прибедняйся, Захар Тарасыч, – тряхнул Митька выгоревшим густым чубом и теперь уже откровенно зло усмехнулся.
– Ты, я вижу, мужик затейливый, – резко сказал Захар, поднимаясь с бревна и в то же время с какой-то почти неприятной верностью понимая Митьку; в самом ведь деле, он не хотел и в душе противился намерению Митьки бросить колхоз и уехать вообще из Густищ, противился неизвестно ради чего; ведь, чуть обвыкнувшись и оглядевшись после своего возвращения, он уже отлично знал, что ни Митька, ни сам он и никто третий здесь не помогут, что…
Они стояли друг против друга, злые, напряженные, и было в их лицах что-то родственное, до того одинаковое, что Фома Куделин, озадачившись, даже приоткрыл рот; ни один из них не хотел уступить, и только под конец Захар, больше подчиняясь не той шальной силе, что так не к месту поперла из него, а неожиданному, сдержанному чувству какой-то общности и мужской солидарности с этим Митькой-партизаном за то, чего тот еще не прошел и не знал и что вынужден будет пройти и узнать, хочет он этого или нет, как-то смягчился, потеплел.
– Затейливый, затейливый, – повторил он. – Ты и о других-то знаешь даже то, чего они ни сном, ни духом не ведают. Слушай, а может, надо проще, а?
Митька косо и тяжело повел плечом, точно что душило его, повернулся и молча пошел, и Захар дня три после этого не видел его, хотя не однажды принимался думать именно о нем, и как-то во время ужина завел об этом разговор с Ефросиньей; не умея хитрить и не находя для этого никакой причины, та подтвердила, что Митьку из-за его прямого и непокладистого характера, слышно, дожирает начальство и в председателях ему мало осталось ходить.
– Он меня еще в правленцы хотел выдвинуть, да я отказалась. Давай, Васек, молочка добавлю, – сказала она по привычке видеть все, что делается за столом, и тут же долила из кувшина парного, только что процеженного молока в глиняную кружку Васе, заметно за последнее время посвежевшему, и придвинула к нему еще один ломоть хлеба. – Поешь – и в постель, ночи теперь коротенькие, не успеешь задремать, открывать глаза надо.
Огромная выкатывалась из-за слепненских лесов луна, и росная тяжесть начинала окутывать землю. После тяжелого дня (на новом коровнике ставили в этот день стропила, решетили их) Захару тоже хотелось побыстрее прилечь, но едва он добрался до дивана в горнице, его подхватил бешеный стук в дверь, а затем и в окно.
– Открой, открой! Тетка Ефросинья, открой, ради бога! – слышался чей-то прерывающийся, молящий голос; натянув сапоги, Захар выскочил на крыльцо, где уже была Ефросинья, и увидел жену Митьки-партизана Анюту, всю растрепанную, босую, в наспех надернутой юбке. – Захар Тарасыч! Захар Тарасыч! Сбесился! Совсем чуть не зарубил! – бросилась она к Захару, едва тот показался в дверях, – Все, кричит, подряд порушу, следа тут от себя не оставлю! Помоги! Сад рубит! Ухватилась было за топор, едва отскочить успела, чуть башку напрочь не снес! Под вечер налогу на сад подкинули на восемьсот рублей, было на тысячу, да еще на восемьсот, вот он и взвился! Захар Тарасыч, посадят же! Помоги, тебя он послушается… он же не в себе, подступиться страшно!
– А ну, тихо, тихо, – приказал Захар, и в наступившей тишине сразу стали слышны гулкие, равномерные удары топора…
– Захар Тарасыч! – вне себя опять вскрикнула Анюта, – Посадят, черта, за свое же добро!
– Пошли, пошли, – сказал Захар и скоро уже широко шагал по улице; за ним с трудом поспевали Анюта с Ефросиньей.
Луна стояла почти над самым селом, полная, как чаша, и даже какая-то бесстыдная в своей полноте и обнаженности; короткая косая тень стремительно двигалась вслед за Захаром. Он два или три раза заметил, что кто-то вышел от изб на залитую луной середину улицы, но ему было не до этого, хотя он и сам не знал, почему вдруг поддался какому-то слепому порыву и бросился среди ночи по первому бабьему крику на выручку. Черт бы их всех взял подряд, не дают хоть бы немного передохнуть, отлежаться, почувствовать себя человеком, ругался он на ходу, что ему какой-то Митька Волков, сад его, дело его – пусть себе рубит.
Но в то же время в Захаре жило и ощущение какой-то вины перед тем же Митькой Волковым, хотя он знал, что сам лично ни перед ним, ни перед кем другим не виноват. Митька-то был полностью прав, когда вроде бы с усмешкой над собой говорил, что он, Захар Дерюгин, не хочет его отпустить и не отпускает; среди залитых неистовым, почти звенящим лунным серебром Густищ Захар понял, что это он, может быть, больше всех остальных действительно не хотел, чтобы Митька-партизан бросил Густищи и подался куда глаза глядят, и что по какой-то особой причине было у него, у Захара Дерюгина, такое право, и все об этом знали, кроме него, и Митька знал, и подчинялся, неволя себя, этому праву…
– Захар Тарасыч, – раздался рядом с ним стонущий голос Анюты, и Захар, что-то пробормотав в ответ, пошел быстрее и скоро, оттолкнув кого-то из успевших набежать любопытствующих и перепрыгнув через изгородь, ужо был в Митькином саду.
У сарая, прижавшись к бабке Илюте, тоненько, не переставая, плакала Митькина дочка – Настенька, за румяные, толстые щеки получившая прозвище Помидор; время от времени она зажимала рот ладошкой, и от этого ее плач становился еще жалобнее. В дальнем углу сада Митька трудился над коренастой грушей; Захар наметанным глазом тотчас определил, что два или три старых дерева уже были свалены, припали к земле бесформенными грудами.
– А-ах! а-ах! – надсадно и яростно вырывалось у Митьки при каждом ударе топора, и Захар, осторожно обойдя перепуганных до крайности бабку Илюту с девчушкой, не спеша направился к Митьке, и едва сделал два или три первых шага, как по ту сторону изгороди затихли и насторожились и даже плач девочки прекратился. Захар не таился, и Митька сразу заметил его, но рубить не перестал, лишь зашел с другой стороны дерева, чтобы ни на секунду не упускать Захара из виду; от каждого удара топора вершина дерева крупно и быстро вздрагивала. – А-ах! а-ах! – надрывался Митька, но стоило Захару еще чуть приблизиться, он выпрямился и бешено шагнул навстречу, вскинул топор; в свете луны синевато-льдисто сверкнуло.
– Не подходи, Захар Тарасыч, зарублю, – послышался напряженный, ненавидящий Митькин голос; в то же время и сзади кто-то пронзительно высоким голосом закричал, чтобы Захар поостерегся, но Захару теперь было уже все равно, и только мелькнула горячая, сумасшедшая мысль, что, верно, такой конец и будет как раз то, что надо, одно мгновение – все погаснет. Что Митька был не в себе, он уже понял, едва услышал его эти надсадные, рвущиеся изнутри «а-ах! а-ах!», это же подтверждал теперь и какой-то лишенный малейшей человеческой теплоты и выразительности Митькин голос, и Захар знал только одно: нужно как-то остановить вконец потерявшего контроль над собой человека. – Не подходи! – еще раз крикнул Митька с еще большим ожесточением и в какой-то белой ярости перехватил топорище ловчее, удобнее для удара; хотя это движение было почти неуловимо, Захар заметил.
– Перестань дурить, Дмитрий, – выдохнул он, не останавливаясь и в то же время окончательно теперь понимая, что Митька обязательно ударит, не сдержится, и какой-то особой памятью отмечая про себя, что он был в партизанах и глаз у него наметанный, не промахнется.
– Не свое рубишь, не сажал, не растил, – неожиданно ясно сказал Захар. – Нет у тебя права чужой труд под топор!
– А это мое! – Митька неожиданно прянул в сторону, слегка пригнул молоденькую, года в три-четыре, яблоньку, в один раз хряпнул ее под самый корешок и тут же ринулся к другой. – И это мое, сам сажал!
Опять мгновенный взмах, и опять молоденькое деревце податливо рухнуло. Людей вокруг становилось все больше, они уже проникли за изгородь, и больше всех, как обычно, было ребятишек и старух; молчаливо и отрешенно, как изваяния, смотрели со всех сторон, как Митька, мечась от одной яблоньки к другой, одним взмахом перерубал их у самой земли и бросался дальше, нелепый, жуткий в своей слепой ярости, и Захару показалось, что это он не безмолвные деревья рубит, а…
– Стой! – рванулся он к нему. – Стой, сволочь! Но смей! Тебе не нужно – другим останется!
– Не подходи! – почти взвыл Митька и бросился ему навстречу, и тут Захар, подчиняясь какой-то одной своей правде, покачнулся, замедлил шаг, затем, опустив руки и бледно улыбнувшись, спокойно шагнул к Митьке; кто-то приглушенно ахнул, кто-то пронзительно закричал.
– Руби, – сказал Захар. – Руби, сволочь, раз для тебя я во всем самый главный виноватый. Руби, сволочь, лучше уж одного меня, чем вот так все под корень… Ну?!
Митька, уже напрягшийся в последнем рывке и занесший руку с топором, как-то в один момент словно подломился, шатнулся назад, не в силах выпустить намертво зажатый в пальцах топор. Споткнувшись о толстый ствол поваленной яблони, он скорее рухнул, чем сел, на него и только тогда, обхватив голову руками, судорожно задергался плечами в немом плаче.
Захар подождал, пока немного выровняется дыхание, подошел и сел с ним рядом.
– Закури, – предложил он, скручивая одну за другой две толстые самокрутки и одну из них протягивая Митьке; тот дрожащими пальцами сунул ее в рот, подождал, когда Захар даст огоньку, жадно затянулся. – Теперь тебе только уходить отсюда, Дмитрий, – продолжал Захар. – Оставаться тебе тут больше не надо… Уходи.
И тут Митька в первый раз поднял голову, как бы проверяя, не издеваются ли над ним, тяжело глянул в лицо Захару.
– Уезжай, – кивнул ему Захар. – Здесь тебе теперь нечего делать, а там где-нибудь, гляди, и приткнешься. Там такие бешеные, может, на что и сгодятся… Так что уезжай, – тяжело добавил он, встал и, как-то слепо оттолкнув руку вскочившего за ним Митьки, не говоря больше ни слова, сгорбившись, побрел через сад к выходу; только он один знал, что это была не победа, а самое горькое, может быть, за всю его жизнь поражение, и он никому не мог признаться в этом; ему некому было в этом признаться.
4Уехав после нелегкой борьбы с собой назад, в Холмск, Аленка несколько дней была словно сама не своя, трудно засыпала и плохо спала; на работе она тоже чувствовала себя неуютно, да и всякий интерес у нее к работе пропал. Она кинулась под защиту к Брюханову неспроста, не потому только, что соскучилась и стосковалась по нему как женщина, и не потому, что должна была, как она уверяла себя, увидеть его. Ей необходимо было проверить себя, вырваться из какой-то липкой паутины, в которой она невольно для себя все сильнее запутывалась. Но чувство прежней слитности с мужем, на которое она надеялась, не пришло, часть ее все равно оставалась там, в Холмске, и с этим чувством половинчатости, двойственности она и вернулась. Прошла и неделя, и другая, прошел месяц; она ходила в клинику, по четвергам консультировала в поликлинике при областной больнице, где работала после окончания института, дежурила, при встречах со знакомыми говорила привычные слова, много времени уделяла дочке, но все это не затрагивало ее душу, все это было внешним, неглубоким покровом, и лишь где-то глубоко, затаенно шла своя разрушительная работа, другая, настоящая, истинная, доводящая ее до изнеможения. Аленка боялась до конца разобраться в самой себе.
Инстинктивно всякий раз она останавливалась перед самым порогом, она не решалась на последний шаг, хотя понимала, что рано или поздно его придется сделать, и сделать самой, никто за нее, даже он, этого шага не сделает.
Однажды после ночного дежурства, когда город был особенно хорош и пахло уже поспевшими ранними сортами яблок, Аленка свернула с главной улицы и переулками вышла в окраинную часть Холмска. Солнце только что встало, и над городом светлело чистое, еще прохладное небо. Аленка остановилась у густого ряда молодых тополей, посаженных уже после войны и как бы отделявших теперь город от лугов и полей; здесь, на стыке двух совершенно не похожих друг на друга миров, шла своя промежуточная жизнь, совершенно незнакомая Аленке, и она была здесь никому не известна и не нужна. У нее, разумеется, есть выбор, подумала она, никто в спину ее не толкает к обрыву, найдутся при желании и удобные обходные тропки, но так же точно она знала, что это не в ее характере – ловчить, что ничего изменить уже невозможно и она пойдет своим путем, она сама для себя его избрала, и думать об этом больше нечего, нужно отоспаться и прийти в себя. И ничто в мире не изменится, если она сделает этот последний шаг. Никто даже не узнает, и так же будет светить солнце и горько пахнуть прогретая солнцем полынь.
Вернувшись домой, она тихо, стараясь никого не разбудить, прошла к себе, разделась, легла в постель и заснула, словно провалилась; проснулась она в точно намеченный час в состоянии беспристрастной, холодной самооценки, она и раньше, знала за собой подобное самоедство и очень его не любила. Привычно улыбаясь, она делала необходимые дела по дому, обсуждала с Тимофеевной нужные покупки, отослала брата с Ксеней в приехавший на прошлой неделе передвижной зверинец, но в ней уже несся, разрастался разрушительный поток. Вот-вот, говорила она себе, играешь с дочерью, всем показываешь, какая ты примерная мать, на всякий случай, для общественного мнения, ты очень умело научилась быть в разладе с собой, значит, в разладе с самыми дорогими и близкими тебе людьми, и тебе не важно, что от этого будут одни страдания и что никто тебе этого не простит и не оправдает. В том же неустойчивом душевном состоянии ходила она и на работу, выслушивала, осматривала, заставляла себя сосредоточиться на самочувствии и жалобах больного, собирала в кулак свою волю, чтобы понять его и помочь, и в большинстве случаев помогала; и в то же время в состоянии овладевшей ею внутренней дисгармонии нельзя было полностью надеяться восстановить в доверившемся ей человеке необходимую гармонию жизни, думала она; тот, кто не в силах справиться, установить порядок в самом себе, не имеет права пытаться это делать с другими. Она как будто носила в себе какую-то отметину; невидимая, неосязаемая граница уже отделила ее от других, даже тех, с кем она была по-настоящему дружна, кого любила и по-человечески глубоко уважала. Но поток все дальше относил ее от спасительного берега, и какие бы судорожные попытки она ни предпринимала, чтобы вернуться, ей уже ничто не могло помочь.
Да это уже перестало быть тайной двоих, и другие замечали, что Хатунцев намеренно сторонится ее, избегает встреч или проходит мимо не глядя, подчеркнуто вежливо кланяясь. Но если для других это было в крайнем случае минутным развлечением, ее это задевало, тем более что сестра, с которой Аленка обычно вела прием и которую все уважительно звали по имени-отчеству – Анной Семеновной, сорокалетняя, суховатая и всегда сдержанная женщина, не преминула сообщить ей, что доктор Хатунцев уходит из клиники. Что-то проступило в глазах Анны Семеновны и пропало, но Аленке было достаточно этого короткого осуждающего взгляда.
– Вы не знаете, почему он уходит, Анна Семеновна? – спросила Аленка, не отрываясь от истории болезни, и подумала, что женщина почти всегда может обмануть мужчину и почти никогда женщину.
– Говорят, Кузьма Петрович вызывал к себе доктора Хатунцева, и сразу после этого доктор Хатунцев подал заявление об уходе, – коротко и сдержанно поведала Анна Семеновна, стараясь ничем не подчеркивать своего к этому отношения, но Аленка не приняла предложенного Анной Семеновной тона; в ней как будто захлопнулась ставня, так одиноко и холодно стало в душе. Она не искала встречи с Хатунцевым, она почему-то была уверена, что увидит его сегодня, и, столкнувшись лицом к лицу с ним в длинном, узком коридоре первого терапевтического отделения (ее вызвали на срочную консультацию), она не удивилась. Посторонившись, Хатунцев кивнул и, опустив глаза, ждал, пока она пройдет.
Аленка остановилась внезапно, неожиданно для самой себя.
– Что же вы, Игорь Степанович, – спросила она с затаенной насмешкой, – значит, решили удариться в бегство?
– Интересно, что мне еще остается делать? – после паузы ответил он. – Вам в самый раз подсказать, может, подскажете?
Брови у него сердито сошлись на переносье, Аленка слегка откинула голову; ее тянуло к этому человеку, мучительно хотелось коснуться его обиженно дрогнувших губ.
– Может быть, стоило и подсказать, – медленно проговорила она и, спасаясь, быстро пошла прочь. В ординаторской, сняв докторскую шапочку, она бегло оглядела себя в зеркало и подумала, что неплохо было бы переколоть волосы.
В приемной главного врача секретарша вопросительно подняла голову ей навстречу.
– Кузьма Петрович у себя? – спросила Аленка и, не дожидаясь ответа, толкнула дверь. – Кузьма Петрович, разрешите?
– Да, да, голубушка, – тотчас отодвинул бумаги Кузьма Петрович и снял очки. – Садитесь, Елена Захаровна.
– Спасибо. – Аленка прошла к столу, но садиться ее стала.
– Садитесь, садитесь, – забеспокоился Кузьма Петрович, – неловко, женщина стоит, а я…
– Кузьма Петрович, сяду, подождите, вот похожу немного и сяду, – сказала Аленка. – Кузьма Петрович… я вас уважаю как человека, как своего учителя, наставника…
– Елена Захаровна, – совсем расстроился Кузьма Петрович, – может, не стоит так торжественно?
– Не буду. – Аленка села, положила руку на край стола, тут же убрала ее.
– Вам трудно, Елена Захаровна, – глаза Кузьмы Петровича, как всегда, были спокойны и доброжелательны. – Я помогу вам, вы, как мне кажется, пришли ко мне по поводу моего недавнего разговора с доктором Хатунцевым. Так ведь?
Аленка молча кивнула, ее глаза враз наполнились горячими, злыми слезами.
– Не знаю, как бы вы поступили на моем месте, Елена Захаровна. – Кузьма Петрович повернулся в кресле бочком, что-то скрипнуло. – Да, я говорил с Игорем Степановичем, И говорил совершенно откровенно… прямо, как мужчина с мужчиной. Вот вы пришли с таким сердитым лицом… вот, мол, сейчас возьму и все выскажу старому хрычу, зачем не в свое дело вмешивается.
– Кузьма Петрович!
– Погодите, голубушка моя, не спешите. – Кузьма Петрович расчистил место перед собой на столе, убрал пресс-папье. – Знаете, Елена Захаровна, есть, гм… такие вещи, думать о них все думают, а называть вслух не называют. Давайте и мы воздержимся. Это и вас, и меня оскорбить может. Я выполнил только свой долг, то, что мне надлежало выполнить, а вы поступайте как знаете, – он грустно покачал головой. – Вы знаете, Елена Захаровна, как я отношусь к вам. Вы мне разрешите задать один вопрос?
– Пожалуйста…
– Почему вы не уезжаете к мужу? – решился наконец, Кузьма Петрович; голос его был полон сочувствия и теплоты, и от этого неожиданного участия у Аленки опять закипели на глазах непрошеные слезы. – Зачем эти разговоры вокруг вас? Это так вам не идет.
– Поверьте, Кузьма Петрович, мне не просто было прийти к вам. Поверьте, мне не в чем себя упрекнуть, Кузьма Петрович. Вы можете мне верить.
Кузьма Петрович тоже встал, сейчас перед ним была не врач, не подчиненная по работе; боже ты мой, удивился Кузьма Петрович, хороша-то как, ах, черт возьми… Тут Хатунцева еще как поймешь, наповал ведь бьет, дьяволица.
– Ну, простите меня, голубушка, если что не так, – сказал он и коротко поклонился.
Аленка молча подала ему руку, вышла; она словно заглянула в глубокий колодец, заглянула слишком глубоко и сама увидела, насколько все далеко зашло; в той поспешности, с какой она бросилась к Кузьме Петровичу, таился свой обрыв.
Она стремительно шла по улице, не замечая людей, щеки ее горели, но брови были упрямо сдвинуты. Это все бабьи глупости, думала она. С чего это я взяла? Как это – взять и влюбиться? А Брюханов? А Ксеня? А она сама? Ах, какая чушь, это уже ни на что не похоже, надо же придумать такое, делать людям нечего… А Брюханов?.. А что Брюханов! Его дома никогда нет, он привык ко мне, как к своему портфелю или своему Вавилову… Ты хоть лоб разбей, а он будет все про свои поставки да про экспертов толковать… Вот теперь с Муравьевым схватился, а ты тут старься в одиночестве…
Сердитые глаза Хатунцева вспомнились ей, она опять словно заглянула в них, и на душе стало еще тревожнее.
… После разговора с Кузьмой Петровичем она не видела Хатунцева месяц, отсутствие его в клинике она переживала очень тяжело, работа была ей не в радость, но едва она услышала от той же Анны Семеновны о его болезни, как тотчас решила, что это она одна виновата во всем и что он даже может умереть. Она должна была его видеть, видеть немедленно, хотя бы затем, чтобы опровергнуть все эти шуточки насчет ее бессердечия и полной, безропотной зависимости от своего всемогущего мужа, хотя бы затем только, чтобы… Впрочем, она не будет придумывать заранее, что она ему скажет, все равно все слова из головы вылетели… Оказывается, она и адрес его помнит, и дорогу знает; не раз этой Кутузовской улицей проезжала…
Дома, едва она успела ступить за порог, на нее насела Тимофеевна с требованиями составить меню на неделю, и что она сама больше ничего выдумывать не хочет и не будет.
– Ах, делай что хочешь, Тимофеевна, – отмахнулась от нее Аленка. – Вари суп, кашу, делай вареники, что хочешь, то и делай.
Тимофеевна заворчала, но Аленка уже не слышала ее; настроение хозяйки каким-то образом передалось Тимофеевне, и она громче обычного загремела кастрюлями и сковородками, принимаясь время от времени кормить своего любимца, медлительного и важного сибирского кота Пурша, взятого в дом по ее неукоснительному настоянию.
Аленка села с дочкой на коврик, они принялись строить из кубиков замысловатый лабиринт; пришел в детскую и Пурш и, усевшись рядом, начал важно вылизывать свою пушистую шубку. У девочки с возрастом все сильнее начинала проступать в глазах брюхановская сдержанная затаенность, и сами глаза все больше темнели. Аленка разговаривала с дочерью, смеялась, но в ней по-прежнему тлел совершенно отдельный и наглухо закрытый от других жар. Разумеется, все это вздор и предрассудки, думала она. Почему женщина не может просто так, без всякой дурной мысли, навестить больного товарища по работе, коллегу? Почему это предосудительно? Тем более что она виновата перед ним. Из-за нее он ушел из привычного коллектива первоклассной, лучшей в городе клиники, забросил докторскую; пока опомнится, годы уйдут, вот и порассуждай. Она должна непременно с ним встретиться, образумить его, как-никак она у него начинала, первыми своими шагами в невропатологии она обязана ему, и это дело их двоих, никого оно не касается.
Аленка поцеловала заигравшуюся девочку, стянула потуже волосы (очень ломило виски), захватила с собой кое-какие лекарства, бросила в сумку несколько лимонов и яблок и, не сказываясь Тимофеевне, все так же намеренно увлеченно рассуждавшей с котом о превратностях жизни, о вечной занятости хозяев, которым и жить-то по-людски некогда, вышла на улицу. Она была точно в какой-то горячке, не разрешала себе даже в мыслях оглянуться назад, и только оказавшись перед нужной ей дверью с белевшим на ней номером «41», задержала дыхание, подумав, что, на ее счастье, Хатунцева, может быть, еще не окажется дома, и так же стремительно, не давая себе опомниться, нажала кнопку звонка.
Эти секунды показались ей бесконечными, и она уже хотела повернуться и убежать без оглядки, как вдруг послышались шаги и дверь распахнулась. Она увидела Хатунцева, вернее, в первую очередь она увидела его глаза, от изумления мальчишески яркие.
– Я к вам, Игорь Степанович, навестить, – сказала Аленка, чувствуя, как ее враз оставило напряжение; слова лились легко и свободно, господи, все было отлично, она видела его. – Узнала, что вы больны… Можно мне войти?
– Да, да, пожалуйста, только извините, я в таком виде, – он быстро провел рукой по пижаме. – Прошу вас сюда, в эту комнату, я сейчас оденусь… Простите.
– Зачем это? Ложитесь в постель, – приказала она. – Вы же вон как похудели… Я вам яблоки принесла и лимоны.
Она достала из сумки лимоны и три больших краснобоких яблока и положила на стол, заваленный какими-то книгами, бумагами, таблицами, она с любопытством обежала глазами вокруг, в полуоткрытую дверь другой комнаты виднелся край большого, с гнутыми ножками, дивана, над ним портрет женщины с высоко заколотыми волосами и с нежной застенчивостью в улыбке.
– Садитесь, Елена Захаровна, спасибо за яблоки, – сказал Хатунцев, почему-то очень высокий и нелепый в своей пижаме. – Сейчас чаю заварю, будем с вами чай пить. Или вы, может быть, хотите молока? У меня молоко есть.
– Не хочу, Игорь Степанович, – сказала Аленка. – Это ваша мать?
– Мама. – Хатунцев стоял, прислонившись плечом к старинному, красного дерева, платяному шкафу с давно стершимся лаком. – Это вскоре после свадьбы, почти тридцать лет назад… Зачем… зачем вы пришли? – спросил он внезапно и быстро, и лицо у него вспыхнуло, затем так же мгновенно стало бледнеть.
– Я пришла потому, что вы больны, – так же быстро ответила она, не опуская глаз. – Зачем вы послушались людей, они вас не стоят. Зачем вы ушли из клиники? Уйти должна я.
– Я вас люблю, – сказал он зло, и она вначале не поняла его слов, беспомощно метнулась взглядом по его лицу, затем в глаза ей бросилась его открытая, по-мальчишески худая, беззащитная шея; она растерянно отступила, она не знала его таким, резкость его движений была ей незнакома; сама сдержанность, респектабельность, он был сейчас не стрижен, не брит, светлая щетина покрывала его щеки и подбородок. – Я люблю вас, я не могу без вас, – повторил он упрямо. – Вы это знаете… и вы любите меня, этого нельзя скрыть… Зачем же мучить друг друга? Ну, я уеду, совсем уеду… не могу больше, я не знаю, что я сделаю… я ненавижу вас… я ничего не могу с собой сделать…
– Что вы, Игорь? – прошептала она, пытаясь остановить, оттолкнуть его, но он легко, словно что то невесомое, притянул ее к себе, и она, неотрывно, точно узнавая, глядя в лицо ему и отдаваясь во власть его рук все стремительней, все так же не слышала его слов; сильные незнакомые руки, приобретшие вдруг такую непререкаемую власть над ней, окружили ее всю, без остатка, и солнечный, зеленый мрак плеснулся в ней от взрыва бесстыдного, откровенного наслаждения. Теперь она сама тянулась к молодым, ярким губам и целовала их, и прямо перед нею сияли сумасшедшие, счастливые, незнакомые глаза.








