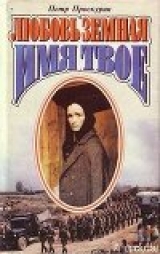
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 64 страниц)
– Ого! – Чубарев засмеялся. – После такого вступления нужно ждать доброго взрыва…
– Ничего не поделаешь, – опять повторил Шилов, часто моргая. – Не знаю, чьи тут головы полетят еще, но моя уж точно не удержится.
– Ну-ну, не томите, – потребовал Чубарев.
– «Ш–28» в серию не пойдет, Олег Максимович. Нельзя, не пойдет, к черту! У меня возникли очень существенные, понимаете, важные изменения, – добавил он твердо, видя, как начало вытягиваться лицо у Чубарева.
– Обрадовал! Вот это озарение, одним махом восьмерых побивахом! Так я и знал, что тут добром не кончится! – Чубарев ошарашенно подался назад, но тотчас закаленная в схватках воля бросила его вперед. – У меня почти полностью переналажены линии, цехи! Запуск в серию утвержден на Политбюро, мне каждый день приходится докладывать о готовности! Именно к производству «Ш–28»! И потом, отличный же двигатель! Правительственная комиссия…
– Комиссия! Комиссия! – внезапно сердито почти выкрикнул Шилов, и уши у него еще больше оттопырились и покраснели. – Для меня самая авторитетная комиссия – моя совесть конструктора! Мне кажется, что ресурс двигателя можно довести до двухсот с лишним часов…
Пока Шилов, приглушая голос, говорил, Чубарев слушал, опустив голову и ни на кого не глядя; едва заслышав о двухстах с лишним часах ресурса, он недоверчиво хмыкнул и не отрывал больше глаз от лица Шилова; Муравьев же, сдерживаясь, стараясь не сразу вмешиваться, однако, весь стал как-то суше и еще печальнее. То, о чем велась речь, пожалуй, меньше всего сейчас касалось лично его; все эти страсти относились теперь уже к прошлому его ведомству, но он был сильно задет уже тем, что новая возможная удача прет опять почему-то все тому же Чубареву и что у этого сумасшедшего Шилова, чокнутого как в работе, так и в личной жизни (кому бы еще простили недавнюю третью жену!), озарение вспыхнуло именно теперь, когда директором утвердили Чубарева. Шилова он знал не хуже Чубарева, и в его мозгу помимо воли и желания уже сами собой складывались, цепляясь друг за друга, самые различные комбинации. Мастер неожиданного маневра, рискованного, но десять раз отмеренного (без чего, впрочем, на его месте и нельзя было долго продержаться), Муравьев безошибочно понимал, что дело заваривается архикрупное, и удивлялся только тому, что этот матерый волчище Чубарев прикидывается простачком и несет бог весть какую непрофессиональную ахинею. Первые же слова Шилова, сказанные в присутствии трех человек, уже определили дальнейшее; внутренне Муравьев весь подобрался; в душе у него неистребимо жило затаенное преклонение перед безрассудно смелой, широкой, безоглядной раскованностью таланта, он и завидовал, и восхищался, и, как подобает всякому уважающему себя чиновнику, давил эту смелость и широту, загонял ее узкие рамки бюрократических стандартов, но нюх на талант у Муравьева был необычайный, а чутье его никогда еще не подводило, хотя ставки он делал иногда самые рискованные. Но и Чубарев, засекший в свою очередь «стойку», как он про себя выразился, Муравьева, уже алчно поглядывал на Шилова взглядом собственника.
– Больше двухсот часов, а? – азартно блестя глазами, подзадорил он Шилова. – Не накидываешь сгоряча, Андрей Павлович? Значит, есть за что голову на плаху? Или на мыло?
– Ну, разговор, ну, разговор! – пробормотал Шилов. – Олег Максимович, во-первых, и то, что есть, не мыло, а во-вторых, я не могу ошибаться, я тут действительно голову на плаху положу. Посмотрите, – полез он в карманы за расчетами, с досадой выхватывая и опять засовывая назад ненужное.
– Не здесь, не здесь, Андрей Павлович, подожди чуток, – остановил его Чубарев, – потолкуем тихо, не торопясь, можно за вашим любимым чайком…
– Действительно, нужна ли такая поспешность? – в свою очередь подал голос и Муравьев, уже вполне овладевший собой и теперь игравший брелоком от часов. – Может быть, не стоит рубить сплеча, стоит еще раз хорошенько проверить?
– Павел Андреевич, можно ведь говорить прямо, – тотчас принял скрытый вызов Шилов. – Я не сумасшедший, прекрасно понимаю, каша заваривается густая. Что теперь? Лучше уж сразу, убыток окажется куда меньше. Такова уж наша доля, коли нужно и свое любимое чадо не пожалеть, даже слопать при случае. Пожалеть никак нельзя, – заморгал Шилов, – вот это было бы уже преступлением.
– Что же вы предлагаете? – меняя тон, сухо спросил Муравьев.
– Я доложу где надо свои сображения. – Шилов, не ища ни у кого поддержки, говорил сдержанно, глядя прямо перед собой. – Думаю, Олег Максимович, необходимо приостановить все работы по запуску в серию «Ш–28».
– Ах, как просто все решается! Что останавливать-то, дорогой мой, когда все готово, на взводе? – Чубарев не сдерживал больше своего густого, рокочущего баса. – Нет уж, прошу к столу! Нет уж, нет, привязать себе камень на шею и бросаться с палубы я еще успею! Как старый пират, я раньше хочу рому! Прошу! Вы, Андрей Павлович, тоже! Тоже! Теперь уж не отсидитесь за самоваром. Ишь чаехлёб нашелся… Теперь уж за самовар всей правительственной комиссией усядемся. Вы свое сделали, слово, как говорится, за республикой. У нас в запасе еще минут пятнадцать найдется… Прошу всех налить!
Шилов дернул плечами, хотел что-то сказать, передумал и нехотя налил себе коньяку. Действительно, мавр сделал свое, слово теперь за дожами.
Не проронивший за все время ни единого слева, но очень внимательно за всем происходящим наблюдавший Лутаков отлично видел, что Чубарев, этот никогда не теряющийся, редко выходящий из себя человек, на этот раз выбит из колеи, и это в памяти Степана Антоновича отложилось про запас, тем более что у него имелось и свое мнение, в чем-то и не совпадающее с общепринятым; он подосадовал, что отвлекся в важный момент по пустякам, тотчас сориентировался, хотя его душевное спокойствие на этом и кончалось. Он как бы остался совершенно один; густой беспорядочный ветер выл вокруг, бушевало сбесившееся пространство, и он оказался совершенно на юру, торчал один на один с разбушевавшейся стихией, отделившей его от всех остальных. Он всегда знал, что это когда-нибудь случится, что от этих фанатиков противоядия нет.
Дружески, ровно всем улыбаясь, Лутаков тем не менее поднял свой бокал и, увидев приближавшуюся вместе с Верой Дмитриевной жену Брюханова Елену Захаровну, шагнул ей навстречу, приглашая к столу; он всегда откровенно восхищался Брюхановой.
– Что-то случилось? – сказала Вера Дмитриевна, поправляя очки, и, тревожно обежав взглядом лица, задержалась на спокойном и, как всегда, твердом лицо Лутакова.
– Ничего не случилось, Вера Дмитриевна, прошу вас, вот бокал, – сказал он, обнажая в улыбке ровные зубы. – Старые пираты делят ром. И вы, Елена Захаровна, прошу, прошу… Пираты пьют за женщин!
– Так, значит, дело дошло уже до рома? – с чуть угрожающей интонацией повернула к мужу Вера Дмитриевна смеющееся лицо.
– Да, Верушка, добрались до рома.
– А можно женщине произнести тост? – вдруг с вызовом спросила Аленка. – Знаете, сегодня мне захотелось быть заводским врачом у Чубарева. Или медсестрой в медсанчасти завода. Тогда какая-нибудь из этих труб, – она кивнула в сторону макетов, – принадлежала бы частично и мне. Наверное, каждый, кто с вами работает, Олег Максимович, чувствует то же, что я сегодня. За вас!
– Спасибо, Елена Захаровна. Что же Тихон Иванович не приехал, обещал ведь?
– Очень занят, – сказала Аленка, – принимает дела.
Чубареву принесли в это время целую пачку телеграмм, и он тут же стоя стал их просматривать. Много телеграмм было с Урала, от знакомых и даже незнакомых директоров заводов, из министерств и главков, и лицо Чубарева светлело, когда в конце телеграммы встречалось близкое, дорогое имя. Принесли телеграмму от Брюханова, от Рости Лапина; оба сетовали, что из-за стечения чрезвычайных обстоятельств не могут приехать и обнять его лично; Чубарев прочитал и недоверчиво хмыкнул, как будто можно обнять как-то иначе, подумал он, хотя эти две телеграммы были ему особенно приятны. Он сунул их в карман и оглянулся на гостей, но никто уже не нуждался в нем, все были заняты своим, все были веселы, хмельны, все о чем-то спорили, что-то разноголосо, вразнобой обсуждали. Выхватив из разноликой массы лицо Шилова, напряженно и резко размахивающего рукой перед внимательно слушающим Муравьевым, Чубарев быстро пошел к ним.
16Странный, угрюмый город с высоко уходившей в ветреное небо бесконечной ажурной стальной башней в центре, вызывавшей у людей непривычное чувство бескрылости, уже начал прорисовываться посреди безлюдного каменистого плоскогорья. Все здесь от начала и до конца строили в секрете от остального мира, строили, тщательно просматривая каждую деталь, каждый кирпич; и старый карагач, исхлестанный за долгие десятилетия стремительными частыми буранами, жадно вытягивающий цепкими корнями скудную влагу на большой глубине, и в эту весну, как обычно к теплу, покрылся мелкими неяркими цветами. Они напоминали густо пробивавшиеся сквозь золу полузатухшие угли; именно эти угасающие цветы указывали на исполинскую силу выживаемости породы. Солдаты-строители, проходившие вблизи карагача бетонированную глубокую траншею, дивились цветущему, уродливому, мощному стволу, прочно гнездившемуся посредине безрадостной, однообразной пустыни. Он был очень стар, совершенно голый, без листьев, весь оплетенный вздувшимися древесными венами, он таил в себе какой-то вызов, и солдаты, особенно молодые, откликаясь на эту тревожащую их сознание тайну, то и дело поглядывали на карагач; в их крови тоже тек смутный зов и отрицание этой мертвой пустыни. Потемневшая от обжигающего, яростного весеннего солнца их кожа молодо, влажно блестела; трогая цветы на темной, мертвой коре карагача, солдаты неуверенно переглядывались. Они чувствовали свое неразделимое единство с цветущим деревом, с этой выжженной землей, полого уходившей к бледно синеющим горизонтам, с жидким, сквозящим небом (в нем где-то очень высоко всегда чувствовался сильный ветер), с тем непонятным строительством, истинного значения которого в этой пустыне никто из них представить себе не мог, хотя, разумеется, ходили самые разные, порой нелепые в своей противоречивости слухи. Неподалеку, примерно в километре от старого карагача и засмотревшихся на него солдат, заканчивался монтаж металлической ажурной вышки; люди на ее вершине, неприметно раскачивающейся высоко над землей, ползали крошечными муравьями, горячечными точками время от времени вспыхивала сварка.
Озабоченный генерал, хозяин строящегося полигона, облетавший в этот яркий весенний день свои обширные владения на вертолете, по своей занятости, конечно, не видел и не мог видеть ни старого карагача, ни солдат возле него, на какое-то время оторвавшихся от работы, но именно он, как никто на всем обширном пространстве, видел целое и осознавал его значения и конечный смысл. Ему был подчинен этот объект, и требование абсолютной секретности еще больше усложняло его задачу, и, несмотря на умение и опыт, генерал всегда, каждую минуту своего пребывания здесь, был готов к любой неожиданности. Сейчас, сверху, он видел разворот свершавшегося, и хотя все шло строжайше по утвержденному графику, его не покидало чувство опасности, незавершенности; постоянно тревожила мысль, что к концу срока полезут обязательные просчеты и недоделки; но, с другой стороны, он по своему же опыту знал, что в таком всеобъемлющем замысле не может быть все гладко и что это понимает не только он, но понимают и наверху, это несколько успокаивало. Каким-то шестым чувством он надеялся, что к сроку все окажется в порядке, если необходимое движение будет осуществляться ежедневно и ежечасно с точностью маятника, что в комплексе все самые разнородные, намеченные к осуществлению программы будут безукоризненно пригнаны друг к другу и сольются в одно целое, что для этого работает множество людей, самых блестящих умов, что страна, в послевоенной разрухе и бедности отказываясь от самого необходимого, все-таки смогла свершить этот невероятный шаг и теперь через два-три месяца предстояло поставить логическую точку. Знал он также, что последние месяцы проскочат, как один миг, что не успеешь оглянуться – и начнут съезжаться эксперты, ученые и военные, наблюдатели и комиссии, и все это разношерстное и единое по своей сути хозяйство придется размещать и устраивать, и что…
Этих «что» было много; даже он, начальник строящегося объекта первостепенной государственной важности, к которому стекались самые дотошные сведения, вплоть до появления в запретной зоне отставшего от людей одичавшего верблюда и до ссоры двух молодых офицеров в одном из подразделений, не мог всего вспомнить и перечислить. Он верно угадал одно: время прошло мгновенно, травы побурели под безжалостным солнцем, и вот уже лето перевалило за первую половину, покатился к концу и август; на объекте стало необычайно людно и напряженно; не заставили себя ждать и всевозможные комиссии, в том числе и правительственные, с одной из них прилетел и Брюханов с группой специалистов своего главка. Съезжались ученые и военные, спешно дооборудовались наблюдательные пункты, разворачивались приготовления к различным экспериментам, все что-то просили и требовали, ни у кого не хватало ни пространства, ни отведенного по графику времени.
За несколько суток до условного часа «Ч» на объект прибыл со своими людьми и многочисленными, специально сконструированными для данного испытания приборами и Лапин Ростислав Сергеевич, спешно прервавший свой летний отдых и отменивший намечавшуюся поездку на торжество к Чубареву, о чем он и сообщил в Холмск телеграммой; Лапин появился на объекте взъерошенный, сердитый, его слишком поздно известили о предстоящем, устройства, аппаратуру для экспериментов пришлось разрабатывать буквально за считанные недели; и сам Лапин, и принимавшие участие в выполнении программы ближайшие его помощники буквально валились с ног, но все были готовы не спать еще и неделю, и месяц, и год; эксперимент предстоял уникальный, необычный и стоил того. Лапин лишь возмущался, что из-за своей спешки и сверхзасекреченности, «страусовой дипломатии», как он ее называл, наука теряла гораздо больше, чем могла бы потерять, если бы дали возможность подготовиться к экспериментам не спеша, обстоятельно и если бы ученые знали заранее, в каком конкретно направлении им нужно было работать. Вскоре, правда, все постороннее отступило, рассеялось, время понеслось вскачь. Для выполнения определенной, специальной части измерений Лапину и его коллегам отвели наблюдательный блиндаж, главная, основная часть исследований, касавшаяся непосредственно радиофизики, была столь обширна, что все оставшееся время ушло на подготовку и размещение аппаратуры. Лапин не успел даже накоротке повидаться с Брюхановым.
Когда кто-нибудь из его группы начинал особенно ворчать на тесноту и неудобства, Лапин примиряюще успокаивал:
– Ну, голубчик, зачем лишние эмоции? Вы же видите, вся наука представлена здесь, нас, жаждущих приобщиться к таинству, много, а жизненного пространства каждой отрасли отведено минимум. Надо тесниться, ничего не поделаешь…
Лапин умел работать сам, умел организовать процесс, но здесь явно не хватало ни времени, ни сил, и примерно за сутки до часа «Ч» он понял, что необходимо хотя бы недолго поспать. Предупредив на всякий случай, где его искать, он приказал всем отдыхать и вышел из блиндажа, буквально под завязку набитого множеством регистрирующих приемных устройств, и прошел под навес, к топчану за жиденькой перегородкой из авиационной фанеры. Сбросив туфли, он блаженно потянулся, не раздеваясь, лег и тотчас в узкую щель в стене (раньше он ее не замечал почему-то) увидел на ярком, синем, солнечном горизонте какой-то высокий силуэт. Присмотревшись внимательнее, он понял, что это дерево, старый карагач. Лапин сразу вспомнил, что уже несколько раз видел его издали, но не обращал внимания. Его сейчас привлекало это дерево, может быть, своим подчеркнуто резким одиночеством в солнечном утреннем небе; Лапин по еле приметному издали движению вершины понял, что дует сильный западный ветер. «Плохо, плохо, что ветер», – подумал Лапин и закрыл глаза; мелькнула мысль о доме, о дочери, и он тотчас провалился в сон, даже в этом бесконечном падении все еще продолжая убеждать себя, что ему нужно проснуться ровно через два часа. Ему показалось, что он открыл глаза, как только оборвалось это неприятное, ноющее чувство падения; сердце билось часто и неровно, и он полежал еще, не шевелясь, стараясь успокоить дыхание. В щель резко врывался сухой ветер, солнечные пятна неровно дрожали на переборке. И чей-то знакомый голос несколько раз раздраженно крикнул:
– Валька! Валька! Сабиев, черт, куда делся Валька? Не могу найти селеновых выпрямителей. Куда делся Валька, черт бы его побрал, этого невидимку!
Легко сбросив ноги с топчана, Лапин сел. Ах, да, да, вспомнил он даже с какой-то нетерпеливой радостью. Час «Ч», жизнь здесь определялась всеобъемлющим часом «Ч», этим всеми нетерпеливо ожидаемым всплеском первородных сил космоса. Удивительно это неудержимое желание человека заглянуть в самую первооснову всего сущего, вдохнуть в себя эту ярость творения, измерить ее и обосновать, заковать в формулы и с этих ступеней вновь устремиться дальше, к новым тайнам и свершениям…
Лапин Ростислав Сергеевич знал немало, немало мог, любимым его изречением были слова Менделеева о том, что наука бесконечна и что каждый день приносит в нее все новые и новые задачи, и поэтому, вероятно, он опять почувствовал сердце. Он нахмурился, натянул туфли, нахлобучил от солнца легкую, в частых дырочках шляпу. Нужно было еще раз самому выверить всю схему разработанной программы, окончательно уточнить все с другими расположенными за сотни и даже тысячи километров особыми группами наблюдения за дальними характеристиками предстоящего взрыва. Он взглянул на часы, было без пяти десять; до намеченного срока оставалось менее суток, и нужно было торопиться. Лапин налил из термоса горячего кофе с молоком, с нескрываемым наслаждением выпил редкими, небольшими глотками, уже четко определяя и разграничивая задачи для каждого из своей группы; он тотчас включился в работу, и день промелькнул мгновенно. Вечером все находящиеся на полигоне были дополнительно проинструктированы о соблюдении правил безопасности, были окончательно закреплены за каждым его место и обязанности, уточнено, выверено до последних мелочей расписание.
Весь день дул резкий, упорный северо-западный ветер, к вечеру он еще усилился, и стала копиться гроза; резко прыгали по всему видимому пространству темные шары перекати-поля. Тучи натягивало неуклонно, стали проскакивать молнии, все теснее стягиваясь, словно к центру, к тридцатиметровой стальной башне, на самом верху которой уже была установлена, подключена к линии подрыва и стала жить первая советская плутониевая бомба, и каждый, кто об этом знал, с замиранием сердца следил за пляшущими вокруг металлической вышки, слегка раскачивающейся под ударами грозы и ветра, молниями.
Лапин вышел из блиндажа, где происходила последняя настройка и наладка различных приемных устройств, уже перед самым вечером; несмотря на закрытое грозовыми тучами небо, чувствовалось, что солнце вот-вот зайдет. Темной, косматой, тревожной тенью, чуть не утопая вершиной в несущихся тучах, выгибался старый карагач. Было душно. Лапин раздвинул ворот рубашки, подставляя плотную грудь ветру, отыскал взглядом вышку, обозначенную цепочкой взбегающих в тучи редких электрических огней, обрывавшихся в темноту. Там, высоко над землей, ожидая своего мгновения, покоился непостижимый по силе концентрации первородный сгусток энергии, заключенный в хрупкую рукотворную оболочку.
Несколько секунд Лапин прислушивался к неистовству грозы и ветра, он знал, что сейчас везде на полигоне царит беспокойство, и сам невольно при каждой новой вспышке молнии в непосредственной близости с металлической башней всякий раз напрягался. Погода для предстоящего была явно неудачной, ветер нес крупный песок, сек лицо, поднятые в небо с приборами аэростаты для фиксирования характеристик взрыва начало срывать. Казалось, именно вокруг вершины башни, ставшей словно средоточием мира, толкались, клубились, вращались тучи. И постепенно какое-то особое, ни с чем ранее не сравнимое состояние тревожного и вместе с тем нетерпеливого ожидания необычного, страшного и вместе с тем праздничного таинства охватило Лапина; он стоял, не замечая ни ветра, ни грозового неба, мелькнула мысль о дочери, к которой он привязывался все больше, и исчезла. Мир еще ничего не знал, что пройдет всего лишь одна-единственная ночь, и многое изменится, произойдет необратимая перестановка самых различных сил и то, что дремало где-то в зародыше, в затаенных глубинах противоречий, выплывет на поверхность и надолго утвердится на первом плане, а то, что вчера казалось незыблемым, начнет ссыхаться и уйдет в небытие. Да, да, думал Лапин, завтра утром в мир ворвется еще одна лавина, пойдет неудержимо, стремительно разрастаться, и никто даже примерно не может рискнуть предсказать ее самые ближайшие и дальние последствия…
Ему в ноги жестко ткнулся шар перекати-поля, он живо нагнулся, хотел подхватить его и не успел; ветер мгновенно сорвал с него шляпу, и Лапин, невольно бросившись было следом за нею, махнул рукой. Пусть ее летит, подумал он, удобная была штука, бог с ней… Что это у меня мелькнуло? Так, ионосфера… Надо полагать, этот взрыв должен ее порядочно возмутить, так? Так. Поднимается просто фантастическая электромагнитная буря, могут оглохнуть радиостанции, локаторы, надо полагать, тут же ослепнут; все это крайне интересно, одной бомбой можно вызвать радиокатастрофу, уважаемые коллеги, да, да, – по привычке полемизировал со своими воображаемыми оппонентами Лапин. И что из того? В войне, на современном уровне ее ведения, это может обернуться катастрофой, поражением. Так? Так. А где выход? Только один: выйти за пределы атомного взрыва. Использовать для передач, как мост, хотя бы луну, например, да, если она в нужной стороне… а если переключить внимание на сами приемники? На очень высоких частотах, близких к частотам света? А? Ну, да ты еще, старик, оказывается, молодец, вон куда еще залетать можешь, похвалил себя Лапин, окончательно примиряясь с утратой шляпы.
В эту ночь все равно нельзя было заснуть хотя бы на несколько минут, и Лапин остался стоять под резким, устойчивым ветром, пытливо-вопрошающе вглядываясь в уже потемневшее небо, стремительно перемещавшееся куда-то в пустынное пространство юго-востока, к центру бывшей Гондваны, распавшейся затем на материки. От усталости и перенапряжения последних дней он не мог сосредоточиться на какой-то одной мысли; ему казалось, что-то важное, то, что ему необходимо знать, ускользает, и он продолжал прямо впитывать звуки и запахи, суету людей и их затаенное, терпеливое, многочасовое ожидание; ему теперь казалось, что над всем миром царит один-единственный звук, рождавшийся где-то вообще за пределами мыслимого пространства. Он поежился, засунул руки в карманы плаща, как-то нежданно-негаданно явились мысли о возрасте, заныл висок, мелькнула чья-то глумливая, дразнящая рожица, как бы предупреждавшая, что особенно разгоняться не стоит, отрезочек-то впереди остается совсем малюсенький. Опять мелькнула мысль о беспредельности и невозможности полного, всеобъемлющего знания, в этом тоже был свой смысл, своя тайна, строго охраняемая первичностью всего сущего – самой душой материи, тем ее состоянием, той зыбкой и всемогущей границей, на которой и происходит таинство рождения миров, то вечно творящее состояние безмерного космоса, для которого нет ни времени, ни пространства, а есть лишь одно постоянное и бесконечное состояние созидания, то самое состояние, прорубиться в которое все более и более настойчиво пытается слабый, как мимолетная искра, человек…
Кто-то позвал Лапина в блиндаж, и он, рассеянно откликнувшись и пообещав: «Сейчас, иду, иду», остался было стоять.
– Ростислав Сергеевич, товарищ Борода приехал! – позвал его тот же голос, и Лапин заторопился назад, к приземистым сооружениям Южного наблюдательного пункта и еще издали узнал Курчатова.
Здороваясь, они, к благоговейному удивлению молодых сотрудников из группы Лапина, расцеловались.
– Как погодка-то, Ростислав Сергеевич? Хороша? – спросил Курчатов, то и дело прихватывая сбивавшуюся в сторону от ветра свою длинную, жидкую бороду.
– Хороша-то хороша, – ответил Лапин, сразу уловив в шутливом тоне Курчатова владевшую всеми тревогу, – а что, немного переждать, Игорь Васильевич, никак не возможно?
– Рад бы в рай, да на этот раз не получается, – живо глянул из-под насупленных бровей Курчатов, упрямо и сердито, не отворачиваясь от ветра, и тут же, без паузы, продолжил прерванный появлением Лапина разговор с кем-то из военных.
Лапин, не любивший суеты и многолюдства, отступил в сторону. Он понимал, что значили для Курчатова в этот день обычная его простота и ровное спокойствие в общении с окружающими его людьми, сам он ни за что, ни за какие блага мира, не хотел бы оказаться сейчас на его месте; он никогда не поднял бы такую махину, не смог бы выдержать такого фанатичного самосожжения, почти неограниченной власти. То, что он испытывал сейчас к Курчатову, не было простым любопытством, тем более завистью; легенды, окружавшие этого человека, тоже мало интересовали Лапина. Он понимал, что для Курчатова, отсекавшего до этого часа любые сомнения, неизбежно наступит новый отсчет времени после бомбы и он, в силу исторической необходимости ставший ее автором, окажется на новом рубеже: категории надо больше не существует. О чем он думал сейчас, потомок обыкновенных русских крестьян, ученый, почти неизвестный народу и как никто другой сейчас глубоко вторгшийся в его судьбу? «Все вздор, все, очевидно, по-другому», – сказал себе Лапин и уже намеревался было подойти к Брюханову, но в это время Курчатов, собираясь уезжать, оглянулся и они встретились взглядами. Это длилось мгновение, но, как это иногда бывает между хорошо и давно знающими друг друга людьми, оба они ощутили тяжкое и радостное сцепление друг с другом, с размеренным, неостановимым ходом жизни, в общем-то и не зависящей от усилий любого отдельного человека. Затем Курчатов сразу же пошел к машинам, где его ожидала многочисленная свита. И Лапин, глядя ему в спину, разумеется, не мог знать, что эта короткая, мимолетная встреча, в которой они обменялись всего лишь несколькими незначительными, казалось бы, фразами, была для Курчатова своего рода толчком, и он уже в машине сосредоточенно хмурился, вспоминая и анализируя последний разговор со Сталиным; он словно слышал его глуховато-размеренный, спокойный голос; пожалуй, никто так хорошо и близко не знал, какую роль сыграл в тяжелейшей атомной гонке именно лично Сталин, сразу же после Потсдама понявший размер и характер задачи и безошибочно точно определивший, что в данном деле все зависит от тесного объединения науки и промышленности, от слияния их, по сути дела, в один организм, с единым мозгом и кровеносной системой…
Курчатов почему-то вспомнил, как несколько дней назад ему с начальственной самоуверенностью заявили, что бомба не взорвется, и он от удивления лишь посмотрел на говорившего, избегая останавливаться на его резком, выказывающем крайнее раздражение лице со злыми губами, и с нескрываемым вызовом бросил:
«Не беспокойтесь, она взорвется».
«Ну, товарищ Курчатов, вы как знаете, а я сегодня же вылетаю в Москву, – услышал он в ответ. – Мне докладывать надо».
«Ни один человек до завершения испытаний не покинет зону», – устало и равнодушно предупредил Курчатов.
«Что?! – неожиданно побагровел его собеседник. – Вы имеете в виду и меня?»
«Несомненно, и вас тоже, – буднично подтвердил Курчатов, хотя хорошо знал власть, характер и, главное, мелочное злопамятство этого человека и в другой момент вряд ли бы решился пойти на открытое обострение. – Раз уже мне вверены чрезвычайные полномочия, я вынужден был отдать во избежание всяких недоразумений именно такой приказ. Он касается всех без исключения, этого требуют государственные интересы».
«Да вы знаете…» – собеседник Курчатова внезапно осип, изобразил откровенное изумление, и Курчатов в ответ на его гнев равнодушно пожал плечами, попросил его успокоиться и не мешать работать; сейчас, безотрывно глядя на несущееся под колеса пространство каменистого плоскогорья, Курчатов вспомнил детски обиженные, затем гневные, бешеные глаза этого привыкшего к почти безграничной власти человека, словно у него из рук в самый неожиданный момент выхватили бесценную игрушку; это были чудные глаза, увидевшие, пожалуй, как бы крушение мира, впервые проникшие в истину, ни от кого и ни от чего не зависящую, что тоже было своеобразным для него крушением.
Усилием воли Курчатов остановил себя; сейчас, перед самым решительным моментом, нельзя было отвлекаться на пустяки; разумеется, многие, в том числе и сам Сталин, тоже как-то не могли понять до конца всего, отсюда и этот, еще один, последний разговор с ним.
«Сделайте не одну бомбу, а несколько из того же количества плутония. Пусть они будут послабее, это ничего».
«Невозможно, товарищ Сталин. Есть не подвластные человеку вещи. Критическая масса для взрыва плутония – константа постоянная, так же, как скорость света…»
«Создание критической массы зависит от условий, – возразил Сталин. – А нам как можно быстрее нужно догнать в области вооружения господина Трумэна. Без этого мы не сможем существовать как великая держава».
«Товарищ Сталин, делалось и делается все возможное. У нас все будет в достаточном количестве».
«Скорее нужно, скорее, товарищ Курчатов…»
Под колеса машины прыгали темные шары перекати-поля, явно собиравшаяся разразиться гроза отвлекла Курчатова, и он приказал ехать быстрее, все еще мысленно возражая Сталину и уж никак не предполагая, что сердитое, казалось бы мимолетное, замечание Сталина о том, что критическая масса зависит от условий, окажется пророческим и будет блестяще подтверждено уже через несколько лет. Он потом вспомнит об этом, но сейчас предстоящее полностью вытеснило все, что не относилось к самому этому первому атомному взрыву, и он еще раз поторопил шофера. Пришла ночь, в небе гремела гроза, и ночь эта должна была завершиться рукотворным атомным всплеском, смерчем, потому что он был необходим; народ отдал для этого столько, что он не мог не осуществиться, этот всплеск.








