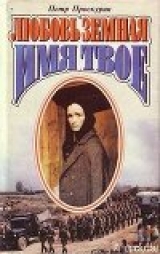
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 64 страниц)
Егор Дерюгин в этот вечер был не в духе, с самого начала забился в темный угол, подальше, и молча наблюдал за происходящим; Валька Кудрявцева наотрез отказалась прийти, хотя Егор, выбрав момент, настойчиво напоминал ей, что это в самом деле прощальная вечеринка и что все ребята будут и его, если он не придет, по известной причине поднимут потом на смех, а что старухи мелют насчет Зинки Полетаевой, так…
Валька не дала ему договорить, вспыхнув, отрезала, что ради Зинки он туда и рвется и что он весь в свою непутевую дерюгинскую породу, от яблони яблоки недалеко падают…
– Дура! – сказал он ей, густо краснея. – Я на тебе еще не женился, как хочешь, так и делай!
– А ты ко мне больше не приставай, видеть тебя не хочу! – зло крикнула она в ответ, и вот сейчас Егор, исподлобья следя за танцующими, еще раз переживал весь этот момент, тем более что товарищи, подходя покурить, нет-нет и пошучивали, задевали его какой-нибудь ловкой подковыркой. По медлительности и степенности характера он едва успевал отбиваться, но в нем где-то уже прорезался незнакомый, жестковатый огонек; обида на Вальку разгоралась. Ишь ты, думал он, еще ничего не было, а она уже командовать лезет, все уже вон замечают, зубы скалят… Вон и Петька, и Ромка… Ишь ты, уж и не пойди никуда, надо спрашиваться, как же! В самом деле, что это она возомнила? От горшка два вершка, семнадцати-то нет, а зубки уже острее бритвы отточила, чуть прикоснется, и…
Кто-то толкнул Егора, и он, скосив глаза, увидел Петьку Астахова, тот показывал ему глазами на дверь и усмехался; повернув голову, Егор увидел, вероятно, только что вошедшую Вальку с подругой; а, не выдержала, радостно метнулось что-то внутри у Егора, притопала, вот так-то вашу сестру учить! А то ишь что надумала, «не приду»! Так-то оно будет лучше!
Тотчас словно кто другой стал подталкивать Егора; с независимым лицом он выбрался из своего угла, молодецки передернул плечами, поправляя пиджак, и стал на самом виду, мимоходом ущипнув за бок какую-то приземистую толстушку-подростка, делая вид, что никакой Вальки вообще на свете нет и никогда не было. Он заметил, что Валька два или три раза бросила в его сторону быстрый взгляд, затем так же воровато глянула на него ее подружка, младшая Бобкова девка, но Егор продолжал невозмутимо курить, слушая какую-то затеянную парнями трепотню; затем, захваченный начатой самим же игрой, он почувствовал, как шум гулянки затих, отодвинулся, и увидел веселую, подзуживающую ухмылку Петьки Астахова. Словно бросаясь с обрыва в жгучую темную пучину, он круто оглянулся; у него даже вырвалось от наслаждения внутренне, про себя: «А-ах!». Перед ним, перебирая бахрому платка, стояла Зинка Полетаева, он глядел на нее, а она на него, и впервые в жизни у него как-то по-особенному приятно закружилась голова и руки онемели, хотя он ни на мгновение не забывал о Вальке Кудрявцевой, о том, что она на него сейчас смотрит и что…
– Ну, так что, свет Захарович? – спросила Зинка, играя бровями и показывая в усмешке ровные, один к одному, зубы. – Давай спляшем, а? Или ты кого тут боишься? – почти незаметно, по-кошачьи грациозно повела она головой.
Если бы не последние ее слова, он бы скорее всего усмехнулся и отказался, но теперь, когда все кругом слышали эти слова, отказаться никак было нельзя, и он, захваченный соответственной решимостью, как-то весь преобразился, как-то само собой небрежным движением руки поправил выбившийся на глаза чуб, шагнул к Зинке, оглянулся на Петьку Астахова, уловил его насмешливый и в то же время поощрительный взгляд и мягко, спокойно обхватил Зинку за талию. Сладкий дурман окончательно ударил ему в голову, и он уже ни о чем не думал, ни о чем не помнил, стремительный, жгучий вихрь подхватил его, и закружил, и понес, мелькали, словно из горячего тумана, глаза Зинки, и вся она, дразнящая и по-змеиному гибкая, нет-нет да и прикасалась к нему жаркой, податливой грудью, и оба, не говоря друг другу ни одного слова, знали, что эта вспыхнувшая между ними игра добром не окончится, и оба уже ни на что, кроме друг друга, не обращали внимания; с легкой улыбкой, слегка приоткрыв губы, Егор не отрывался от Зинкиного лица, но видел он и ее шею, и плечи, и сбегавшую между грудей смугловато-затененную ложбинку, и когда танец кончился, он долго и жадно курил в толпе ребят. Петька Астахов, протиснувшись к нему, шепнул ему в ухо с веселой ухмылкой, чтобы он теперь берегся, охомутает его окончательно Зинка; он не успел отругнуться, потому что начались разные игры, девок и парней рассадили по разным скамейкам, напротив друг друга, по очереди туго завязывали парням глаза платком, и каждый должен был вслепую выбрать себе пару, хотя именно в то время, когда очередной искатель, вытягивая вперед руки, двигался к противоположной стене в поисках удачи, девки торопливо менялись друг с другом местами, и редко кто отыскивал ту, которую хотел отыскать, и всякий раз при том слышались дружные, веселые взрывы хохота.
Пришла очередь завязывать глаза Егору. Он, к своему удивлению, с первого же раза опустил руки на неподвижные тоненькие плечи Вальки Кудрявцевой, и тотчас, еще с платком на глазах, узнал их, и уже только потом сорвал с глаз платок; Валька сидела перед ним, отводя глаза и крепко поджав губы, всем своим видом показывая, что она не только не рада, но даже удивлена, как это его к ней притянуло, и что он ей совершенно безразличен и даже противен. Но делать было нечего, и они оба вынуждены были пройти к другой лавке, как это и полагалось по правилам игры, и хоть недолго, но побыть рядом; она сидела беспомощная и сердитая, и Егора потянуло к ней совершенно иначе, чем к Зинке, как-то ближе, доверчивее и яснее, и он даже сделал неловкое движение украдкой накрыть ее руку своей, но она тут же враждебно отодвинулась.
– Не думай, – сказала она ему тихо, – я сюда вовсе не из-за тебя пришла…
– А из-за чего же?
– Захотелось, и пришла… тебя не спросила…
Он с затаенной усмешкой взглянул ей в лицо, она почувствовала, еще больше нахмурилась, тотчас быстро встала и отошла к порогу, к подруге. «Ну и ладно, – с неожиданной детской обидой подумал Егор. – Тоже мне! Только и свету, что в окошке… Еще получше найдем!» Пожалуй, это и решило все остальное. Егор вначале насупился, ушел в себя, но затем в него словно окончательно вселился какой-то бес. Он непрерывно со всеми подряд, танцевал, а за полночь, после первых петухов, когда хозяйка избы по старому обычаю появилась с большой чаркой, чтобы по собственному определению и выбору поднести ее самому приглянувшемуся и достойному гостю, и плавно, с какой-то девичьей легкостью прошла через избу, словно и не замечая притихших и следящих за нею парней и девок, остановилась перед Егором с легким поклоном, он смело и вызывающе глянул ей прямо в глаза. На резном деревянном блюде в ее руках стоял деревянный резной высокий ковш, наполненный слегка подрагивающей темной настойкой. Егор уловил незнакомый терпкий запах.
– Испробуй, – шевельнула она губами, пряча и не в силах до конца скрыть усмешку, неосознанный и невольный вызов, и он взял ковш.
– Пей, – поклонилась Зинка еще раз.
– Пей! пей! пей! – раздались нетерпеливые, подбадривающие, задорные голоса со всех сторон.
Егор тряхнул головой, слегка запрокинул ее и вылил в себя густой, ароматный напиток; Зинка, опустив глаза, ждала, и он, вспомнив, что должен поцеловать ее, тут же с необычайным приливом сил и уверенности в себе обхватил Зинку за плечи, прижал к себе и крепко поцеловал в губы. Одобрительный веселый всплеск голосов, смех лишь подстегнули его, и он, ощущая губами, руками, всем своим телом податливое и в то же время своенравное женское тело, все никак не мог оторваться от Зинки; он не видел, как, не помня себя, оттолкнув кого-то с дороги, метнулась за порог Валька Кудрявцева, за ней, негодующе сверкнув глазами в сторону Егора и Зинки, ее подружка, но теперь Егора мало что занимало. Что-то с ним случилось, что-то такое, что и неосознанно пугало, и радовало, и, самое главное, уже было не подвластно ему; что-то подхватило его и понесло, но сам он, жадный, настороженный, гибкий, все видел, все чутко замечал, не пропуская ни один голос, ни один взгляд. Он шутил и смеялся вместе со всеми, и когда наконец (уже ясно прорезывалась заря) стали расходиться, он, сделав вид, что прикуривает, оказался чуть ли не последним. В тот момент, когда ему нужно было шагнуть в дверь вслед за Петькой Астаховым, он отодвинулся к темному простенку рядом с дверью. Зинка тотчас задвинула щеколду и припала к нему; поднимаясь на цыпочки, она жадно, не сдерживаясь, стала горячо целовать его в шею, в лицо, затем, горячо и коротко дыша, шепнула:
– Иди за мной, милый… иди, Егорушка…
Она не отпустила его руку, и Егор уже не чувствовал себя отдельно от нее и не замечал ничего, кроме нее, ускользающей, дразнящей и обволакивающей; был странный, острый рассвет, от сладостно-режущего наслаждения сгорало тело; в пахнущей травами горенке с небольшим оконцем, с раскинутым на полу одеялом он помнил лишь ее ищущие губы, ставшие огромными, ненасытными глаза, смуглую жаркую грудь и свое мучительное подчас желание смять, изломать волнующееся, ускользающее, то ненавистное, то опять желанное тело Зинки; все спуталось, он не знал, что такое он, что такое она и что с ним происходит…
Он очнулся, словно после обморока; солнечное пятно ярко дрожало на бревенчатой стене, и кто-то тепло и мягко дышал ему в шею. Он скосил глаза, несколько оторопев от того бесстыдства, в котором увидел и себя и ее, постарался осторожно, незаметно надернуть на себя подвернувшуюся под руку одежду; Зинка тут же открыла глаза. Чувствуя полное освобождение и от нее самой, и от своей скованности и неловкости, он крепко, до хруста, потянулся. Она приподнялась на локоть и, осыпая всего его длинными, густыми волосами, поцеловала в губы, затем в шею; он лежал спокойно, в сознании своей силы, и лишь в ногах у него опять что-то тихо и сладко заныло.
– Знаешь, Зин, я ведь все равно женюсь на Вальке, – сказал он, сдвигая широкие темные брови.
Она засмеялась, опять как-то легко и бездумно поцеловала его и закрыла ему глаза ладонью.
– Нет, – сказала она все с тем же тихим, счастливым смехом, – теперь ты на ней не женишься…
– Почему?
– После меня не женишься… Пресная она… если уж мужик настоящего огня хлебнет, его ровно сметанкой-то досыту не накормишь… приторно… А ты уже мужик, Егорушка… ох, какой мужик! Я тебя приворотным зельем напоила. Теперь ты на всю жизнь мой…
– Врешь… молчи… молчи… я в эти басни не верю.
Она опять свесилась над ним гривой рассыпанных, пахнущих сладким дурманом волос, все ближе и ближе склоняясь к нему лицом и вздрагивающей жаркой грудью. И Егор взял ее за плечи и рванул к себе, сдерживая стон; кто-то уже давно колотил в дверь, но этот стук доходил до них размытым, неясным эхом; это было где-то в другом, не касающемся их мире.
На другой день новобранцев отправляли в город.
У сельсовета собрались почти все Густищи, было весело и празднично, играла гармошка, толпились провожающие. Егор как бы ненароком окинул взглядом собравшихся односельчан: Валька Кудрявцева не пришла, но зато чуть поодаль и позади других в низко повязанном платке, закрывающем глаза от солнца, стояла Зинка Полетаева, и Егор ясно видел, что она улыбается, но не ему и не кому-то в отдельности, а чему-то тому, чего он не мог понять. От этого он стал еще молчаливее и даже с Ефросиньей и Захаром простился как-то неловко и второпях: в нем еще жила и бурлила недавняя ночь.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1Вавилов после тяжелого ранения в сорок четвертом году в бытность свою в партизанском отряде несколько месяцев отлежал в госпитале, а вскоре после возвращения в Холмск, женившись, так и работал у Брюханова в помощниках. Он как-то легко и быстро вошел в свои новые обязанности и скоро стал для Брюханова незаменимым. По своему характеру он был уравновешен, спокоен, никогда ничего не забывал даже в мелочах, в отношении людей, почему-либо нуждавшихся в помощи Брюханова и добивавшихся у него приема, старался быть совершенно объективным. Когда Брюханова перевели в Москву, Вавилов тоже долго не раздумывал. Бывшие партизаны оставались глубокой привязанностью и даже страстью Вавилова, и здесь он, рискуя получить очередной нагоняй, оказывал содействие каждому всеми известными ему способами. Поэтому, когда в один прекрасный день раздался звонок и он, подняв трубку, узнал, что внизу, в бюро пропусков, ждет живой Митька-партизан, ныне Дмитрий Сергеевич Волков, председатель Густищинского колхоза, с твердым намерением увидеться для важного разговора с товарищем Брюхановым, Вавилов без лишних расспросов заказал ему пропуск и уже через несколько минут возбужденно и радостно тряс ему руку. Митька, еще более возмужавший за последние годы, раздавшийся в плечах, был обветрен, прокален солнцем и ветром, и у него в лице уже навсегда закрепилась какая-то распахнутость, как это бывает с людьми, привыкшими подолгу бывать среди открытых, широких полей и пространств.
– Не помнишь, наверное, меня? – сказал Вавилов, широко улыбаясь. – Я у Тихона Ивановича всю войну в связных был.
– Да нет, помню, – возразил Митька, улыбаясь. – Мы еще немецкого полковника приволокли, важная попалась птица, намучились мы с ним. А вы с Брюхановым как раз в отряде оказались, ты чуть в сторонке стоял, какой-то чемоданчик у тебя в руках был.
– Точно! – обрадовался Вавилов. – Ну и память! В чемоданчике мы магниток новой конструкции привезли. Так и назывались: неизвлекаемые магнитные мины Старинова.
– Знаю, как же, эти магнитки! – оживился Митька. – Немцы как-то обнаружили одну под мостом у Холмска, только дотронулись, так их вместе с мостом и разнесло на кусни. Эх, времечко было, все ясно, все просто, там враг, тут свои!
– А я тебя по газетам больше помню. Садись, садись, Дмитрий Сергеевич. Куришь?
– Курю, спасибо. – Митька взял из предложенного Вавиловым портсигара папиросу; Вавилов щелкнул зажигалкой, и Митька, задержавшись на ней взглядом, точно что еще вспомнив, прикурил. – Трофейная?
– Служит, да и память, знаешь, – сказал Вавилов, усаживаясь рядом с Митькой на небольшой диванчик. – Ну, как живешь-то?
– Живу, – неопределенно протянул Митька. – А ты как? Привык к Москве-то?
– А куда денешься? Работа… Жена все на родину тянет. Да и хлопцы мои оба в Холмске родились, в один день. А теперь – во-о! – он показал рукой с метр от пола. – Колька и Васька… залпом появились на свет! Моя Стешка в рев. «Да ты что, – говорю ей, – дуреха, это же сразу два мужика, мы их лет через двадцать на чистое золото обменяем, килограмм за килограмм! Война-то какая прошла…» Разулыбалась. А сейчас рада, растут, двоим веселее…
Заметив взгляд Митьки, брошенный на массивную, обитую темно-коричневой кожей дверь с табличкой «Т.И.Брюханов», Вавилов огорчился.
– К вечеру, не раньше, будет Тихон Иванович, – сказал он. – Давай так с тобой договоримся, – он бросил взгляд на часы, – иди погуляй по Москве, в кино сходи, а ровно в четыре позвони мне вот по этому телефону. – Заметно прихрамывая, он подошел к столу, записал номер и, аккуратно сложив бумажку вдвое, отдал Митьке; тот сунул ее в карман. – Ты где остановился-то?
– Пока нигде, вещи оставил на вокзале, в камере хранения.
– Ну, это мы устроим. Только не запаздывай.
– Мне обязательно нужно Тихона Ивановича, – сказал Митька с требовательной интонацией в голосе, указывающей на твердость характера и непременное решение добиться задуманного.
– Я понимаю, – улыбнулся Вавилов. – Ты его и увидишь, непременно увидишь. Пока, Дмитрий.
Но Брюханова Митька не увидел в этот день ни в четыре часа, ни позже, и Вавилову пришлось устраивать Митьку в гостиницу; только на следующее утро Дмитрий Волков вошел в кабинет Брюханова, и тот обрадованно поднялся из-за стола ему навстречу, Он усадил Митьку в кресло, угостил крепким, душистым чаем с лимоном и сухариками, но несмотря на радушный прием, было заметно, что Брюханов чем-то взвинчен, и Митька пожалел, что попал не в добрый час, однако надеяться попасть к Брюханову вторично было нечего. «Как высоко ни залети, а все что-то не ладится», – по простоте душевной подумал Митька. – Слышно, с бабой у него что-то… Молодая, уросливая, а так чего бы ему с утра такой тучей быть?»
Брюханов, словно угадывая его мысли, подошел, выдвинул соседнее кресло, сел рядом, по домашнему близко заглянул в глаза.
– Ну что, разведчик, что, Дмитрий Сергеевич, трудно, а?
Весь напрягшийся для важного разговора, Митька от этого неожиданного, откровенного вопроса ссутулился, опустил плечи,
– Я к вам, Тихон Иванович, не ради чего зря приехал, – сказал он, комкая папиросную пачку в кармане. – Неловко было беспокоить…
– Давай сразу договоримся, это оставь, Дмитрий Сергеевич. Ни к чему. На то и сижу здесь, чтобы беспокоили… Говори, что?
– Не могу больше, Тихон Иванович, – сказал Митька, глядя перед собой, мимо Брюханова. – Куда хочешь пойду, а так больше не могу. Третий год по семьдесят граммов на трудодень перепадает. Не могу в глаза людям глядеть, все норовлю вбок вильнуть. Тихон Иванович, вы не подумайте, я к вам не просто нюни распускать приехал, в войну всякое видел, ни черта, ни бога не боюсь. За этим бы не пришел, тут совсем другой табак.
– Говори, – уронил Брюханов, крепко потирая переносицу; сегодня с самого утра голову у него стянуло как обручем, и не помогли старые, проверенные средства – ни тройчатка, ни крепкий чай.
– Я к вам, Тихон Иванович, совсем особо пришел, не хочу душу брехней сквернить… Я к вам, как если бы тогда, в лесу, в сорок втором летом, когда нас, помните, со всех сторон наглухо окольцевали… Как если бы нам завтра смерть… Я в такой позиции вам поверю, знаю, правду скажете. Неужто с нашим мужиком по-другому нельзя? Можно ведь. Я знаю, у вас теперь другой коленкор, Тихон Иванович, не до наших забот… а мне больше поговорить не с кем. К вашему сменщику, товарищу Лутакову, пришел, все ему высказал, а он меня и погнал в клочья.
– Ну?
– В крик сразу ударился! – Митька заволновался, вскочил, опять сел. – Ты мне, говорит, брось очки втирать. Ты, говорит, про какой такой народ толковать вздумал? О народе думает тот, кто для этого поставлен. Он, значит, Лутаков. Да я тебе, говорит… – От волнения у Митьки сорвался голос, он глянул в широкий проем окна, махнул рукой. – А у меня сердце надвое так и рассадило… Значит, за народ я только воевать могу? Выходит, все эти бабы да мужики… для товарища Лутакова так… навоз… А как жить после этого? Можно?
Не ожидавший такого оборота разговора, сохраняя на лице все то же приветливое оживление, Брюханов ничем не выдал своего волнения; он уже не мог ответить так же прямо, как ответил бы года два назад.
Да и можно ли было ответить, есть ли у него право последней инстанции? В свое время сам он, тогда еще зеленый, необстрелянный, приходил к Константину Леонтьевичу Петрову вот за такой же откровенностью, как сейчас пришел к нему Митька-партизан. Но то был Петров, человек совершенно особенный, людей такой обнаженной правды, как Петров, он, Брюханов, больше не встречал. Но Митька-партизан пришел ведь не к Петрову, а к нему, Брюханову, оба они повенчаны слепненскими и холмскими лесами, блокадами и кровью товарищей, и от их разговора будет зависеть вся дальнейшая судьба Митьки и судьбы многих связанных с ним людей. Солгать или уйти от прямого ответа было нельзя, как нельзя было бы обмануть сына, даже если бы от этого зависела его собственная жизнь.
– Можно, Дмитрий Сергеевич, – твердо сказал Брюханов и оторвал наконец руки от колен. – И бороться, Дмитрий Сергеевич, необходимо.
– Бороться, Тихон Иванович?
– Да, бороться.
– Ну что ж, я уже говорил, нам не привыкать…
Брюханов задумался.
– Возвращайся домой, Дмитрий, я, как только буду в Холмске, обязательно к тебе загляну…
– Это было бы хорошо, Тихон Иванович, от своей земли вы, конечно, никогда не оторветесь. Пережили-то сколько…
Митька и без Брюханова знал, что была война, разорение земли, что стране многое наверстать надо и от других не отстать и что все это никак не могло дать Митьке то, ради чего он после долгих раздумий и колебаний тайком и от жены, и от районного начальства приехал в Москву.
– Тихон Иванович, ты мне скажи, что лично мне, Митьке Волкову, председателю в Густищах, что мне делать? – спросил он. – Вот он я перед тобой…
– Стоять, – резко подался к нему Брюханов. – Больше ничего… Стоять – и все… Помнишь, в Слепненские болота вас загнали, по горло в грязь, в тину, в холод… Захлебывались, в трясине тонули, дохли с голоду, помнишь, Дмитрий Сергеевич? Ни один не дрогнул, ни один… Выстояли. И сейчас нужно выстоять. Как раз такой момент, не вижу я ничего другого. А может быть, и нельзя ничего другого, так уж сложились обстоятельства. Нужно, Дмитрий Волков! Понимаешь, как это нужно?
Митька давно уже стоял выпрямившись, по-солдатски расправив плечи, и лицо его, выражавшее вначале одно лишь недоумение, делалось все строже.
– Стоять нам не привыкать, – сказал он о тихой решимостью. – Это мужик умеет… Да долго на горле да на крике не продержишься, Тихон Иванович.
– Но ты понял меня? – настойчиво повторил Брюханов. – Если уж совсем до конца идти, Дмитрий Сергеевич, то все сейчас на таких, как ты, и держится, а Лутаков или другой кто… Как бы тебе это объяснить…
– Что тут, Тихон Иванович, объяснять, вот только бы не подломиться. – Митька шумно вздохнул, не опуская глаз, и Брюханов увидел, что он действительно понял его.
– Как весна-то прошла? – спросил он, чувствуя, что его объяснение не очень-то убедило Митьку и даже втайне разочаровало его, и стараясь хоть чем-то сгладить это положение. – Отсеялись хорошо?
– Что ж, отсеялись, как могли, – сказал Митька и перевел взгляд на большой бронзовый бюст Сталина в углу кабинета. – Лесополосу начали сажать… за Соловьиным логом, в сторону степей. Нашему колхозу почти два километра определили, лесополосы-то… Я думаю, дело это стоящее, только вот пользы долго ждать… Да в конце концов я ведь тоже непривязанный…
– Знаешь что еще, Дмитрий? – Брюханов, быстро глянув на него, на мгновение задумался. – Вернешься, поговори обо всем с Захаром Дерюгиным… вот как со мной сейчас…
– Пробовал, да с ним не очень-то разговоришься…
– А ты найди пути, разговорись, – настойчиво посоветовал Брюханов и доверительно спросил: – Как он там, Захар Тарасович-то?
– Видать, привыкает, все присматривается. В первые дни вроде одичалый какой-то был, спросишь что, глянет, отвернется. Как-то лишний раз неловко и зацепить. Вы, наверно, и сами все знаете, Тихон Иванович…
– Многое знаю, конечно, – неопределенно согласился Брюханов, уходя от доверительного тона и в продолжение всего остального разговора, когда Митька советовался по ряду других вопросов, и особенно – как ему выкрутиться после того, как он недавно выступил на областном совещании и резко проехался по высокому обкомовскому начальству, редко выбирающемуся за пределы своих кабинетов, они, как по уговору, не возвращались к затронутым вначале больным вопросам и расстались дружески, чувствуя душевную близость и понимание.
Оставшись один, Брюханов неохотно вернулся к столу, с недоумением взглянул на непривычно молчавшие телефоны. «Ах, да, Вавилов», – вспомнил он и нажал кнопку.
– Ну, что у нас на сегодня, Валентин? – спросил он устало, увидев в дверях подтянутую фигуру помощника, и Вавилов быстрым, бесшумным шагом пересек кабинет и положил перед Брюхановым небольшую аккуратную папку – почту за вторую половину дня.
– Что там? – не притрагиваясь к папке, неприязненно покосился на нее Брюханов.
– В основном для ознакомления, Тихон Иванович. Еще товарищ Муравьев просил соединить, как только вы освободитесь. – Вавилов говорил все тем же ровным голосом, но Брюханов знал, что Вавилов не любит Муравьева, и хотя он, Брюханов, никогда ни одним намеком не выказал истинного отношения к своему первому заместителю, Вавилов знал, что и он, Брюханов, относится к Муравьеву с предубеждением и настороженно и что, если спросить Вавилова напрямик, он может рассказать Брюханову о Муравьеве массу любопытного, что почему-то всегда бывает хорошо известно именно среднему звену и о чем сам Брюханов даже не догадывается. Но Брюханов и на этот раз задавил мимолетное искушение, именно такой путь информации он раз и навсегда запретил для себя еще при Петрове.
– Ну как, Валентин, лыжи сыновьям купили? – поинтересовался он, испытывая необходимость отдохнуть хоть немного в ином, простом и понятном мире, не требующем предельного напряжения сил.
– Купили, – охотно откликнулся Вавилов. – Радости было… да и смеху… Гвалт несусветный подняли. Такие одинаковые, точно с конвейера, только мать их и умудряется угадывать. Если один что либо натворит, да не захочет признаться, лучше и не думай разбираться… Я как-то сразу обоих выдрал. Ну, говорю, с этой минуты, кто бы из вас ни напрокудил, ответ на двоих, так и знайте, говорю, несите, голубчики, коллективную ответственность.
– А что, Валентин, это, пожалуй, мудро, – невольно засмеялся Брюханов. – А они сами как к этому относятся?
– Что же им еще остается делать, пока поперек лавки помещаются. Терпят. Вот вторую неделю ничего не разбили, не поломали, жена удивляется, что с детьми стряслось. Беспокоится, не заболели ли… Не знаю, говорю, ты мать, тебе виднее.
– Забавно, – тихо сказал Брюханов, отпустил Вавилова и задумался. Мимолетный разговор с человеком, отлично осведомленным и о его домашних делах, лишний раз напомнил ему его неустроенное положение; на все его настойчивые требования переезжать наконец в Москву Аленка упорно твердила, что для завершения ординатуры ей необходим еще год. Брюханов понимал, что она увлечена самостоятельной работой в клинике, что она ведет больных по какой-то своей, согласованной с ее шефом схеме, что ей поручено наблюдение за действием нового препарата у больных с нарушением мозгового кровообращения, что она готовит даже свою первую самостоятельную публикацию, которая может в будущем лечь в основу диссертации, и довести эту работу до конца ей, молодому специалисту, необходимо именно там, в Холмске, где она начинала; и никакая Москва этих идеально сложившихся условий для научной и практической работы ей не заменит, что она не хочет и не может пользоваться его протекцией и положением. Брюханов отлично понимал и то, что на это нужно время и что дорвавшаяся до самостоятельной любимой работы молодая женщина должна пройти свой, отведенный ей путь. Но, пробегая короткие, несвязные письма Аленки и досадуя именно на их краткость и торопливость, он так же отлично понимал, что совершает ошибку, отпуская ее так надолго от себя и соглашаясь на это двусмысленное положение, когда молодая красивая женщина предоставлена самой себе и живет далеко от мужа; по сути дела, он каждый день, каждый час терял Аленку, оставаясь вдали от нее, от ее дел и всего того, чем была заполнена сейчас ее жизнь, он своими руками рушил то, что по кирпичику складывал годами. Между строк нет-нет да и проступали недосказанность, душевная раздерганность, так не свойственные Аленке; безошибочным затаенным чувством любящего, страдающего от неустройства их жизни человека Брюханов все яснее ощущал какую-то медленно, неотвратимо надвигающуюся беду, и все-таки что-то глубоко противное его натуре не давало ему прибегнуть к крайним мерам. При первой же возможности он срывался в Холмск на день-другой, а иногда и на несколько часов, затем на какое-то время забывался в нескончаемом сплошном потоке дел; но за последние три месяца он никак не мог выбраться в Холмск; пришлось срочно вылететь с группой экспертов в Китай, и там они задержались значительно дольше, чем предполагалось; перед самым возвращением он купил для Аленки несколько безделушек из слоновой кости, два кимоно и расписанный павлинами веер, привлекший его изяществом работы, но пересылать через других подарки не стал; почему-то ему, никогда не придававшему значения подобным вещам, хотелось отдать Аленке эти тонкие, прекрасные в своем лаконизме вещицы самому.
Ушедший в свои мысли Брюханов забыл о времени, и Вавилов по селектору с подчеркнутой бесстрастностью напомнил ему о Муравьеве.
– Хорошо, Валентин, пригласи его.
Пробежав почту, Брюханов пересел в кресло в дальнем углу; с Муравьевым у них складывались отношения очень странные, и теперь он твердо знал, что назначение Муравьева в первые заместители ему было обусловлено отнюдь не пользой дела. Почти с первых же дней их совместной работы выявилась их полная несовместимость; Муравьев был его противоположностью, антиподом, недремлющим враждебным оком, от которого не мог укрыться ни один сколько-нибудь самостоятельный и значительный шаг его, Брюханова; любой его поступок, любое решение тотчас же подвергалось холодному, беспощадному анализу, и в любой момент в мгновение ока их с Муравьевым могли поменять местами, и в этой безукоризненно отлаженной программе Брюханов ощущал себя едва ли не вспомогательным звеном. Тиски то сжимались с немедленной готовностью по малейшему движению откуда-то извне, то отпускали; после нескольких судорожных рывков в надежде освободиться Брюханов понял, что у него только один выход: примениться ко всему, что с ним произошло и происходит, и ждать. Работа сама по себе его увлекла своей новизной и сложностью, правда, он всегда испытывал неприятное чувство постоянного невидимого присутствия Муравьева рядом, даже если сам он был в дальней командировке, а Муравьев оставался в Москве. Для него исчезла даже сама возможность одиночества; он шел по улице, и ему казалось, что вслед за ним привязанно движется Муравьев, он вел коллегию и все так же ощущал на себе откуда-то сбоку взгляд Муравьева; раздеваясь ко сну и ставя на столик рядом стакан с холодным чаем или бреясь по утрам в ванной, он не мог избавиться от ощущения, что его все так же пристально и беззастенчиво, с холодной, иронической усмешкой разглядывает все тот же Муравьев.
В свою очередь, чувствовался и какой-то обратный процесс, если сам он какое-то время не видел живого Муравьева с его худощавым, удлиненным и всегда чуточку отсутствующим лицом, он начинал испытывать беспокойство; он ловил себя на желании тотчас узнать, где находится и что делает Муравьев, хотя в этот момент тот ему был совершенно не нужен, и рука сама собой тянулась к телефону или кнопке звонка. Особенно ощущал он отсутствие Муравьева в длительных поездках; тогда сами собой придумывались причины связаться с Москвой, чтобы услышать знакомый, характерный, слегка растягивающий гласные голос. В скоплениях крыш перед окном была своя, размеренная, независимая от Брюханова и его состояния жизнь; в небе носились стрижи; пора, пора, думал он, разрядить, как-то упростить создавшееся положение, так дальше нельзя работать, и начинать нужно с домашних дел…








