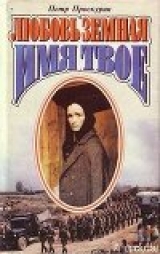
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 64 страниц)
Это было на второй год его плена у немцев, после неоднократных попыток бежать и трех самых настоящих побегов. Почему его не прикончили, трудно сказать, может, потому, что всякий раз он назывался новым именем и попадал в неразберихе войны в другие лагеря. А совсем недавно его схватили уже на территории Белоруссии, неподалеку от старой границы, и, видать, пожалели губить зря дармовую силу; кстати, несмотря на все неурядицы и передряги, с первого же взгляда было видно, что, хотя месяцы и месяцы каторги, но он еще был способен работать и приносить пользу, и его отправили в специальную команду по расчистке и восстановлению железнодорожных путей после бомбежек и особенно участившихся в зиму и лето сорок третьего года партизанских диверсий. По правде говоря, когда он понял, куда попал, он обрадовался: по его мнению, не стоило большого труда бежать в непрерывных разъездах с места на место, и с первого же раза он стал присматриваться к окружающим, – но день проходил за днем, неделя за неделей и что-то, чего он никак не мог понять, не давало ему возможности даже и подумать о побеге или хотя бы намеком поделиться этой своей мыслью с кем нибудь рядом. Первое время он растерялся: вокруг него было невидимое кольцо; он чувствовал на себе мертвые, но тем не менее цепкие, почти враждебные взгляды таких же, как он сам; они держали его сильнее конвойных; бежать было нельзя, хотя он не понимал почему. Это «нельзя» выражалось, в каком-то по-звериному сильном и ясном чувстве опасности, оно непрошено всплывало в нем, как только он начинал думать о побеге. Нужно было ждать, выяснить и понять это чувство опасности, определить, откуда оно исходит. И он дождался этого понимания, когда его привели для разговора к начальнику команды, слегка прихрамывающему от старой контузии обер-лейтенанту Генриху Штиглю;. это был мужчина чуть выше среднего роста, еще одно не состоявшееся дарование на политическом и военном поприще, по крайней мере сам он в своей талантливости был убежден безоговорочно и все время искал систему, посредством которой мог бы убедить в своей значимости других. В подчиненной ему команде из двухсот человек пленных и конвойного взвода он как раз и решил применить свой выношенный метод; благодаря долгому, почти годовому, отбору пленных для работы в команде обер-лейтенанту, обладающему, как он полагал, научной структурой мышления, удалось в большинстве своем подобрать людей, снизведенных голодом, наказаниями и постоянным, страхом смерти до уровня покорных животных. Вернее, из двухсот человек таких или примерно таких было несколько десятков, но и это обер-лейтенант Генрих Штигль, как всякий дилетант, считал выдающимся достижением и успехом; он пока ни с кем не делился своим открытием – в голове у него зрела мысль о патенте; одним словом, он был из многочисленной породы предпринимателей и чудаков, на которых война не разбираясь напялила военную форму, но характеры их и сути укротить или переменить не могла, и они потихоньку, готовясь к лучшим временам, продолжали созидать каждый свое причудливое здание. Метод обер-лейтенанта Штигля был прост: всем пленным и каждому в отдельности он втолковывал одну истину – за побег любого из команды тут же расстреливался каждый пятый в строгой геометрической, как любил почему то говорить Штигль, прогрессии. Он опутывал команду пленных паутиной коллективной ответственности, и разорвать эту паутину было труднее, чем что-либо иное материальное, вещественное, тем более что у обер-лейтенанта Штигля была какая-то звериная интуиция, он тотчас и на расстоянии чувствовал любой непорядок в своем хозяйстве и, бросая любое дело, выяснял причины, поднимая свою команду на дыбы в любой час дня и ночи, он тут же начинал все выворачивать наизнанку.
Захара он отметил сразу, как только увидел его, осматривая вновь прибывшую партию пленных: выше других почти на голову, с каменно напряженным, худым лицом, Захар стоял во второй шеренге, стараясь, чтобы приземистый, упитанный и довольный собою обер-лейтенант как-нибудь не остановил на нем своего внимания, и все-таки какая-то несломленность, таившаяся в напряжении лица, в запавших, сумрачных глазах, ни разу прямо не глянувших на обер-лейтенанта, остановила внимание Штигля, и он тотчас с некоторым даже удовольствием отметил, как бы засек Захара, его глаза и лицо, в памяти и с неделю к нему присматривался. Затем однажды вечером Захара привели к только что поужинавшему обер-лейтенанту. Уютно устроившись в кресле, Штигль с удовольствием курил, поглядывая на стоявшего у дверей Захара; он отослал солдат, но на столе под аккуратно сложенной газетой лежал браунинг; успокаивающе темнела рукоятка с насечкой. Переводчик, лысеющий студент из Кёльна, был слегка пьян, и обер-лейтенант к этому уже привык; у них в какой-то мере давно уже сложились дружеские отношения, и на это имелись свои причины, о которых ни обер-лейтенанту, ни его переводчику просто-напросто не хотелось бы рассуждать с кем бы то ни было. Переводчик со странной веселостью в лице повернулся к Захару; ему давно надоело разговаривать с этими забитыми, истощенными людьми, первое же испытание срывало с них культурный слой, и оставалась первооснова животного, желание выжить, подбирать из грязи корм, лизать руку господина с плеткой; сквозь легкие винные пары переводчику приятно грезился иной мир, иные категории, и Захар Дерюгин в прозрении ненависти понимал блаженное состояние этого от чувства собственной значимости и безопасности на данный момент пьяненького, сравнительно хорошо устроившегося жить парня; сколько он их перевидал за время плена, но все они были для него на одно лицо. Вот и сейчас ему казалось, что он уже где-то раньше видел этого переводчика и что обер-лейтенант ему уже знаком. И это чувство помогало ему, усталость после каторжного дня тоже помогала; он стоял сейчас как бы в полусне, со свинцово затекшими, словно вросшими в пол, ногами. Так было легче стоять. Какими-то неясными тенями обозначались перед ним немцы; когда переводчик, уже начиная сердиться, возвысил голос, Захар разобрал его вопрос, показавшийся ему до того пустым, ненужным, что он, если бы мог рассмеяться, сделал бы это.
– Да кто же я? – переспросил он с досадой. – Человек, вот кто.
Улыбка яснее проступила на лице переводчика, он с неприкрытой иронией взглянул на обер-лейтенанта.
– Вот вам ваша страсть коллекционировать этот вид. Скучная работа, все они считают себя тем же высшим подвидом, что и мы с вами. Но, барон, так уж устроен мир, – переводчик вливал в свою речь и толику яда, и толику меда, иногда применяя прием слегка, вроде бы невзначай, притронуться к самому уязвимому в собеседнике.
«Барон! Господин барон!» – подумал переводчик, отмечая про себя, как встрепенулся обер-лейтенант, подобно старому рысаку, почуявшему во сне призывный звук боевой трубы, хотя захиревшая баронская ветвь Штиглей давно стала фикцией – ни поместий, ни денег, одна геральдика да гербы, рычащая львиная пасть, клыки и алый бархат. Переводчик, прекрасно об этом знавший, наслаждался действием, вызванным всего одним коротеньким словом, и почти забыл о пленном, он был даже неприятно удивлен, когда обер-лейтенант напомнил ему о деле.
– Природа интересна в любом проявлении, – сказал обер-лейтенант. – Среди них встречаются подобные экземпляры, я их безошибочно чувствую. Недаром сразу приметил эту азиатскую рожу.
– Чего ты хочешь? – спросил переводчик Захара, выполняя приказ.
– Ничего… Спать хочу…
В глазах обер-лейтенанта мелькнула брезгливость, он уже словно видел заинтересовавшего его пленного мертвым, но это была такая привычная мелочь, что обер-лейтенант тут же удивился своей вспышке. Оснований выходить из себя не было; обер-лейтенант покосился на переводчика, вольготно раскинувшего в бархатном кресле тощие, длинные ноги. Вечно пьяный красавчик начинал его раздражать, и между ними случился короткий диспут на тему о том, что такое виноградная лоза и какой продукт из нее получается при соответствующей обработке, и еще о том отличии между немецким солдатом и русским, что ставят первого на недосягаемую высоту. Своевременно вспомнив о долге в пять с лишним тысяч марок, обер-лейтенант вновь сосредоточил интерес на пленном, но необходимой остринки уже не получалось, и обер-лейтенант почти в миролюбивом тоне сообщил пленному все, что будет, если он не то что попытается бежать, а даже если подумает о побеге, и отпустил его; переводчик одобрил это решение сочувственным кивком и стал удобнее устраиваться в кресле, закурил и придвинул ближе к себе пепельницу. Он не ошибся, наступало самое главное: Штигль достал из шкафчика бутылку с коньяком, две рюмки, поставил на стол бисквиты. Дело в том, что барон Генрих фон Штигль, кроме всего прочего, с детства писал стихи, самые удачные бережно переписывал в изящный блокнот, а иные отсылал под псевдонимом «Генрих Штейнлиц» в газеты и журналы; некоторые из них, о любви к фатерланду и верности фюреру, печатали.
– У мена сегодня с утра дурное настроение, – сказал Штигль, разливая коньяк в рюмки, – я сегодня написал стихи об эдельвейсах и о маленькой девочке, она потерялась в лесу и долго звала маму, но к ней вышла лесная фея. Выпьем, Эрих, за поэзию и за тех, кто ее способен чувствовать!
– С удовольствием! – подхватил переводчик и, подняв рюмку, отхлебнул, задерживая коньяк во рту и наслаждаясь его легкостью и бархатистостью, – Барон, – сказа ч он, – у вас, как всегда, прекрасный коньяк! Где вы только, черт возьми, достаете? Это удивительно, вечер, русская глушь, грязь, вши – и божественный напиток, кровь Франции! Барон, читайте вначале о девочке, эдельвейсы потом! А до этого я еще хотел бы выпить, вы не возражаете, барон?
– Пейте, – сказал Штигль. – Но вначале я буду читать об эдельвейсах, иначе до вас не дойдет смысл второго стихотворения. Дети в моем представлении всегда связаны с цветами. В них есть что-то общее от солнца и невинности.
Переводчик выпил еще коньяку, закурил, полулежа в кресле, и, согласно кивая, приготовился к долгому ночному бдению; сегодня Штигль жертвовал непочатой бутылкой прекрасного французского коньяка, верный признак того, что он считал стихи удавшимися.
Эдельвейсы, эдельвейсы.
Вы глаза вершин,
Вы зов солдатской судьбы,
Вы таинственный знак в моей душе,
С которым я появился на свет
И который несу по дорогам мира.
Если я упаду и стану землей,
Вы прорастете из меня,
Эдельвейсы…
Штигль закрыл блокнот, отхлебнул из своей рюмки.
– Черт возьми! – сказал переводчик. – Барон, за это надо выпить, это действительно красиво! Это, несомненно, ваша удача, барон! Я хочу выпить за ваш талант!
Штигль с зардевшимися щеками поднял свою рюмку и наклонил голову; такой похвалы от своего единственного слушателя, знавшего наизусть множество старых германских мифов и почти всего Грифиуса, которого считал величайшим поэтом Германии вообще, – Штигль дождался впервые.
* * *
Две недели Захар присматривался к людям и порядкам в команде, к охране, а на семнадцатый день к вечеру бежал, воспользовавшись неожиданной паникой на станции, где они перешивали колею; он успел ухватиться за борт идущей мимо платформы с каким-то наваленным на ней грузом; ему едва не выдернуло руки, но он скорее согласился бы быть разорванным пополам, чем разжать пальцы; стремительная, безжалостная сила тянула его вбок, вниз, к гудящим колесам; сейчас вся его жизнь сосредоточилась в руках, в их мертвой, чугунной хватке; Захар отвоевывал жизнь по сантиметру, по два, подтягивая тело все выше, отрывая его от тяжести движения; он забыл обо всем на свете, и, когда перевалился через борт платформы, грудь хрипло приподнималась, в глазах двоилось, троилось, белая шелестящая муть закрывала небо. Он не знал, заметил ли кто-нибудь его бегство, и то, что по нему не стреляли, несколько успокаивало. По крайней мере у него было немного времени, и он заполз между какими-то тюками, по запаху он тотчас определил, что это сырые свиные и коровьи кожи, лишь слегка очищенные и присоленные. Мясо съели, а кожи по-хозяйски заботливо отправляли домой, в рейх, у них ничего не пропадает, подумал Захар, пытаясь остановить себя и сосредоточиться на главном.
Нужно было отдохнуть немного, он бы сейчас, кажется, не смог встать, стронуться с места, даже если бы это грозило немедленной смертью. Поезд продолжал набирать скорость; день, второй можно было продержаться и без еды. Ну а там… Захар не хотел думать сейчас, заглядывать, что будет «там», он слишком устал за два года плена, но главное в нем осталось, то самое упорство, всякий раз заставляющее его бежать снова и снова. Вот и сейчас поезд мчался, и от неба отражались стоны колес, небо словно заталкивало назад в землю эти непонятные людские силы, и у Захара, незаметно для себя вздремнувшего и вновь испуганно открывшего глаза, словно что просело в душе; он еще не верил в благополучный исход, но уже опять был человеком, который мог голодать, мог погибнуть, но мог теперь и распоряжаться самим собою вплоть до смерти. Этот случай с поездом и все дальнейшее, как потом оказалось, было лишь каплей в море, потому что Захар Дерюгин до этого за все два года плена не попадал в удушающий, мертвящий режим большого немецкого концлагеря, в котором все от секунды времени до основополагающих идей подчинено непрерывному уничтожению человеческого вообще, и когда он оказался в этом непререкаемо очерченном колючей проволокой огромном правильном квадрате с идеально похожими рядами одинаковых бараков и печей крематория и когда, возвращаясь по вечерам со строительства какого-то подземного завода, он начинал думать, что вот тут-то и пришел конец, жизнь послала ему новую и совершенно нелепую неожиданность; в круговороте миллионов человеческих существований, в тяжелом сцеплении судеб и случайностей Захару привелось встретить односельчанина, да не одного, двух мужиков старшего призывного возраста, мобилизованных в армию уже в самый последний момент, перед захватом Холмской области немцами.
Уже не раз на работе, подкатывая вагонетку с породой к разгрузочной площадке, Захар замечал на себе тяжелый, лихорадочный взгляд одного из пленных, подающих породу дальше, в барабаны камнедробилок; вначале это было неясное, мимолетное чувство, но как-то, переводя опорожненную вагонетку на другой путь, Захар все же не удержался, оглянулся; пленные продолжали махать лопатами, и лишь один, неловко повернув голову, в полусогнутом положении, глядел в его сторону; большеглазое, худое лицо ничего не сказало Захару, но в течение этого дня он всякий раз, подталкивая вагонетку к разгрузочной площадке, видел это лицо, и оно уже начинало казаться ему знакомым. Ночью, засыпая, он по-прежнему старался вспомнить, но прошло три дня, а вспомнить он так и не смог, тем более что этот пленный с большеглазым щетинистым лицом несколько дней у барабанов камнедробилок не появлялся, и Захар стал о нем забывать. Лишь через неделю, едва вывалив первую вагонетку, с трудом удерживаясь на месте, Захар быстро оглянулся; охранники с прилежностью хорошо выдрессированных овчарок торчали на своих местах, и Захар только и смог приглушенно, громким шепотом спросить:
– Харитон? Антипов?
Захар видел, как Антипов слегка кивнул, и Захар тотчас стал толкать вагонетку назад; он уже чувствовал, как зреет, готовый сорваться, крик охранника, и инстинктивно попытался опередить его. Он успел, но он знал, что этот, ближайший к нему, молодой, с широкой грудью эсэсовец уже не спустит с него глаз, и весь день продолжал работать молча; если раньше один день сливался с другим, неделя как две капли была похожа на другую, то теперь появилось нечто иное; теперь он с нетерпением ждал очередного дня и выхода на работу и боялся, что с Харитоном Антиповым случится что-нибудь за ночь или по дороге на работу, и, когда Антипов появлялся перед глазами с неизменной грабаркой в руках, Захару становилось легче. Изредка им удавалось переброситься словом-другим, а как-то во время воздушной тревоги они оказались совсем рядом; небо выло, а они лежали рядом, голова к голове, и еще никогда не были так довольны. Страха или мыслей о смерти просто не было, да и смерти самой не могло быть; просто пришло хотя бы минутное освобождение от невыносимой усталости, появилась возможность что-то сделать самому, от себя, не оглядываясь на охранника.
– Харитон! Надо ж, Харитон! Ах, чертушка Харитон! – возбужденно говорил Захар. – Да ты как здесь? Давно попал?
– Захар! – Антипов в реве сирены и самолетного гула, казалось, почти беззвучно раскрывал рот, но Захар хорошо слышал его. – Вот штука, Захар! А я в двадцать четвертом блоке, северный плац, слышь? А ты давно здесь?
– Третий месяц, Харитон. – Захар от новой волны гула дернул головой, сильнее притиснул ее к земле. – Слушай, а здесь такого ничего не слышно? – спросил он, припоминая, что Харитон Антипов в свое время был румяным, стройным красавцем с гвардейскими пшеничными усами.
– Говорят, что-то такое тут есть, есть, – сказал Аптипов. – Я сам ничего не знаю, а мужики шепчутся, вроде комитет какой-то тайный есть. Двух большевиков каких-то гестапы, говорят, вот уже третий месяц найти не могут, из этого вроде комитета, вот и говорят… есть что-то, есть…
Захар каким-то внутренним чутьем ловил, что небо стихает, успокаивается, и в то же время грохнуло несколько тяжелых взрывов подряд; Захар быстро приподнял голову, огляделся, кое-где мелькали бегущие фигуры, падали, вскакивали, опять бежали куда-то, неподалеку с бешеной дрожью крутилось колесо на опрокинувшейся вагонетке, и в рваных тучах ярко сияли голубые куски неба. Захар знал, что убежать со стройки невозможно, в сердце что-то взметнулось, загорячело и тут же затихло.
– Ты слышь, нам надо как-нибудь вместе сойтись, Харитон, – подтянувшись ближе к Антипову, зашептал ему прямо в лицо Захар. – Как бы это устроить?
– Не знаю как, хоть увиделись, и то ладно… Сейчас эти гады загавкают, вот уже стихло.
Захар покосился на свою тачку; его взгляд остановился на вынырнувшем откуда-то охраннике, который, то и дело отряхиваясь, оглядывался и кому-то что-то кричал. Захар стал потихоньку отползать от земляка; что-то обрывалось, что-то только что приобретенное дорогое уходило.
– Захар! Захар! – услышал он торопливый шепот Антипова. – Слышь, я не один, тут из села со иной в одном блоке Аким Поливанов… Надо ж, то-то глаза выкатит, как скажу… Вместе попали, он только в другой команде, в мусорщиках числится, по лагерю прибирают да мертвых отволакивают. Говорят, что и больных иных, бывает, заставляют прихватывать на носилки – и в яму, а то и к печам…
Захар, вначале не придавший почти никакого значения словам Харитона об Акиме Поливанове, почти пропустивший их мимо, стал думать о них, когда налет прекратился, тревога улеглась и работа опять возобновилась: смысл произошедшего обернулся какой-то другой своей стороной, Захар грустно посмеялся в душе такому горькому повороту; где только не были раскиданы войной густищинцы – и убитые, и еще живые, и вот где-то у самого края Германии война столкнула троих односельчан, но столкнула так, что рядом не сядешь, не поговоришь, подброшена отравленная приманка, и больше ничего. Жрать хочется, а не схватишь, только в животе голодные судороги; Захару до белой тоски хотелось увидеть Акима Поливанова, спокойно с пим потолковать; каким-то полузабытым теплом потянуло из прошлого.
Ночью в блоке неподалеку на нарах кто-то умирал; это случилось не в первый раз, но сегодня Захар от этого никак не мог заснуть; наглотавшись за день каменной пыли, он мучился кашлем и удушьем, оно словно разнимало его на части, давило; сцепившись в сплошную цепь кошмаров, ночь с ее бредовыми всхлипами, с ее скрежетом неслась через него; случаи, случаи, один другого тяжелее, один другого резче, невероятнее, мелькали в оцепеневшем мозгу. Что была его жизнь? Зачем была она? Вся она как стремительный след с отвесной почти горы куда-то вниз, куда-то во тьму, где уже ничего нет – ни родных, ни близких, и тьма эта наползала свинцовыми волнами, чередуясь с гнетущими провалами в сознании. И эти провалы все время были в одном ощущении, отвесный обрыв, из-под которого жутковато тянуло тлением, холодом, так, что постанывало во вспотевших лопатках, длинный ряд эсэсовцев с автоматами, затем жгучий удар в грудь и чувство падения туда, в тлен и холод. Как только дремота стягивала глаза, тотчас появлялось это ощущение, и Захар приподнимал голову. Спавшие рядом не давали повернуться и лечь удобнее, и когда наконец затих неровный хрип умирающего, Захар повернулся на бок и закрыл глаза. Ему с самого начала было безразлично, кто умер и как, но сразу наступило облегчение; он слышал, как в полутьме зашевелились, покойника стащили с пар и положили возле двери в кучу, где уже было несколько трупов; значит, не он один не спал, мертвые почему-то сразу начинали мешать, и от них старались хоть чем-нибудь отделиться.
– А я лежу, прислушиваюсь – вроде веточка сухая хрустнула… отлетела душенька человечья, – неожиданно ясно произнес сосед Захара, высокий, как жердь, рязанец Петр Асташков. – А как-то там встретят? Коли бы стаканчиком водки да кусочком горячего пирога… с начинкой бы, зайчатинкой… с луком…
Тотчас кругом зло зашикали и зашумели, а белорусский поляк Швидковский, сосед Захара по нарам с другой стороны, всхлипнул, попытался повернуться на бок, и Захар почувствовал его острые, бессильные колени. У изголовья Швидковского послышалось слабое царапанье; это забеспокоилась мышь, поляк держал ее в банке из-под консервов и тщательно скрывал от всех; он приносил ей какие-то крошки, травинки, обрывки бумаги, и мышь жила, очевидно, и человеку помогала жить; по ночам, когда в узкие ряды зарешеченных окон проникал свет луны, Захар видел, как поляк доставал свою жестянку, отгибал слегка крышку и небольшая, юркая мышь выскальзывала из своей темницы, бегала у него по рукам, по груди и, самое главное, никуда не девалась. Иногда на неподвижном лице поляка Захар замечал слабую, стертую улыбку, и тогда ему становилось тягостно; он делал попытку отодвинуться. Рядом с ним определенно был спятивший от невзгод человек, в своей скудной похлебке он вылавливал для мыши полугнилые кусочки брюквы, отламывал корочки от пайка хлеба с опилками, воровато оглядываясь, совал их куда-то в одежду, за пазуху. Захар видел, что поляк непрестанно боится за свою мышь и думает о ней; Захар уже заметил, что, когда поляк начинал возиться со своей мышью, это тотчас и его самого успокаивало, появлялся интерес; как-то на него даже пахнуло зноем, запахом вымолоченной соломы, зерном. Но однажды, когда поляк был на работе, кто-то съел мышь, и осталась лишь пустая банка со следами помета, и Захар почувствовал, что из его жизни исчезло нечто необходимое; он ловил себя на том, что время от времени начинает ждать, не послышится ли живого царапанья рядом. Поляк пролежал всю ночь неподвижно, с открытыми глазами, а наутро, перед подъемом, удавился, ловко прикрепив какой-то обрывок к верхнему ряду пар над собой. В его теле оставалось так мало силы, что он даже никого рядом не разбудил, обвис в петле, заломив голову вбок, и только ноги были неловко подвернуты да в правой руке судорожно зажата какая-то ветошка. Увидев прямые, без мускулов, неловко подломленные ноги поляка, Захар хотел встать, чтобы помочь соседям освободить его из петли и отнести, как это и было положено, к двери блока. Он с усилием приподнялся на локтях, не удержался и тут же откинулся назад; что-то случилось с ним, что-то непоправимое; он это сразу почувствовал, и изнутри все захолодело на мгновение; пришла и в один момент завладела всем в его теле болезнь, таившаяся до этого времени где-то без всяких признаков. Захар понял, что не сможет больше встать и уже никогда не встанет, и на какое-то время оцепенел от этой мысли. Попытавшись шевельнуть ногами, он почувствовал острую боль во всем теле, в груди сдавило, и голову уже нельзя было приподнять; после очередной безуспешной попытки встать сердце еще раз зашлось. Ну вот, пришла безразличная мысль, день-другой он еще пролежит на нарах, а там – очередной обход так называемой санитарной группы; раз упал, все кончено. А то еще и живого отволокут в штабель, вот все и заканчивается. И его старый, затянувшийся спор оборвется; ничему и никому в жизни он так ничего и не доказал; а ведь она у него была, его правота, и перед Анисимовым, и даже перед тем же Брюхановым. И перед Ефросиньей была, и перед детьми. И вот все оборвется, что-то недозволенное останется в жизни, недосказанное, а так ведь нельзя, это против всех правил. Жизнь не может, не должна так бесследно иссякать, ушла в песок, потянуло сушняком, и все бесследно заровнялось. Песок и песок, ни травинки, ни ручейка. Бесплодный, горький на зубах песок. Это несколько возмутило его, но преодолеть слабость он уже не смог, она заливала, как та же песчаная сыпучая лавина, вот уже и ног не выдернешь, а там и прихваченными руками не шевельнешь.
Услышав сигнал, Захар не смог встать; тявкающий рев лагерной сирены прошел через него, и он, почти не осознавая этого, рванулся и тут же свалился назад; он повел глазами и увидел, что он не один в таком положении, и это еще больше успокоило. Все завершалось.
Вдоль пар прошел капо, привычно переписывая номера обессилевших; на проверке он отчитается за них, а через два-три дня напрочь вычеркнет из своих списков; прибудут новые, займут опустевшие места на нарах, у тачек и кувалд, в каменоломнях, у различных машин и станков. Мысли у Захара текли медленно и сонно; и это состояние замедленности в себе и вокруг нравилось ему, как бы закрывало от него все, что должно было произойти. И вместе с тем он чутко и безошибочно определял все происходящее кругом, команды капо и охранников, неумолимо потекший распорядок концлагеря, который ничто, кроме смерти, остановить не могло. И это неумолимое течение раз и навсегда установленного порядка уже властно подчиняло себе и оставшуюся часть его, Захара Дерюгина, жизни, и хотя он еще пытался сопротивляться, приближалось наступление конца; Захар слегка вздохнул, сразу чувствуя боль во всей груди. Вечером кто-нибудь принесет ему, если капо разрешит, миску похлебки, в обед же больным есть не полагалось; а затем, если он не найдет в себе силы встать и на второй день, явятся с носилками из похоронной команды мусорщики, как их все называют, правда, перед этим по блокам должны пройти врачи. Отволокут или в карантинный блок, или сразу туда, в штабеля. А ведь где-то есть Густищи, поля, простор, дети… Неужто все это сгинуло? Не может такого быть, тесен мир с нар концлагеря, но он-то какой-никакой, а есть и всегда будет.
Захар вспомнил, что здесь, в концлагере, и земляки есть, Аким Поливанов да Харитон Антипов, и если бы им сообщить как-нибудь, встретиться бы… Что-то с ним опасное… всего три месяца в этом концлагере – и готов. Сгорел. А из-за чего сгорел-то? – мучил себя Захар. Из-за какой-то дурацкой мыши, это же курам на смех, мышь пропала, и он свалился, и сам знает, что теперь уже не встать.
Захар лежал, как и положено, головой к проходу; в блоке, кроме десятка-другого обессилевших и больных, никого не было, но Захар все время слышал и чувствовал не только жизнь этих больных, но словно бы и отдельную от всего жизнь самого блока; он покосился в одну, другую сторону прохода, опять закрыл глаза. Есть уже не хотелось, пить тоже; какой-то полусон-полубред навалился на него, и он весь день прометался на нарах и очнулся лишь вечером, когда его сосед Петр Асташков принялся тормошить его; Захар выпил жестянку бурды и опять впал в оцепенелое полузабытье. На другой день он все-таки почувствовал, когда возле него остановился лагерный врач, приподнял голову, забормотал что то. Врач брезгливо бросил несколько слов стоявшему рядом с ним санитару, тот записал номер, и участь Захара Дерюгина была решена; ближе к вечеру пришли из похоронной команды мусорщики, или, как их еще называли, «дворовые вороны», с носилками, сволокли его с нар, но этого он уже не чувствовал, теперь он был все время без памяти.








