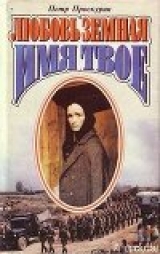
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 64 страниц)
Через несколько дней, сделав все необходимое в Москве, в ЦК, в соответствующих министерствах и ведомствах, Чубарев уже был в Холмске и, торопясь поскорее попасть в Зежск, на место, все-таки вынужден был еще день-другой задержаться: нужно было попутно утрясти кое-какие организационные вопросы и больше к ним не возвращаться. Но, как видно, вести летели впереди него, и по тому, как он был принят и как с ним разговаривали в обкоме, он понял, что и здесь каким-то образом стало известно об отношении Сталина к нему. Впрочем, приглядевшись, он решительно отмел эту мысль; просто здесь помнили его по прежней работе на моторном и теперь радовались встрече с ним искренне. Просто он оставил по себе хорошую память, и сам он помнил здесь многое; удивительно, не раз покачивал он головой, как цепко хранились в душе, казалось бы, совершенно незначительные подробности прожитых в этих местах лет. И Брюханова, в первый же день пригласившего его домой, Чубарев помнил отлично и поехал с радостью; ему приятно было снова видеть Брюханова, разговаривать с ним в домашней обстановке, среди спокойных, удобных вещей, в просторном доме; едва поздоровавшись, Чубарев ощутил с ним совершенно особую связь, не подвластную времени, а когда Брюханов коротко и как-то намеренно жестко сообщил, что ему самому вот этими руками (он слегка приподнял ладони) пришлось взрывать моторный, у Чубарева защемило сердце.
– Ах, разбойник! Как же мы после этого глядеть друг на друга будем, за одним столом сидеть?
– Зачем же так определенно, Олег Максимович? – Брюханов, худой, как и раньше, подтянутый, с резко проступившими обветренными скулами, выглядел удивительно молодо.
– Давненько мы с вами срабатываемся, – задумчиво глядя на густую проседь в сильных по прежнему волосах Брюханова, сказал Чубарев.
Собираясь к Брюханову, он раздумывал: идти ли ему просто так или прихватить что-нибудь в подарок? Он даже заглянул в магазин напротив гостиницы, но там сосредоточивалась такая послевоенная бедность, пустые в общем-то полки, тщательно застланные какой-то узорчатой бумагой, скорее всего старыми обоями, что Чубарев лишь вздохнул и отправился без всего, хотя и жалел, что вынужден был прийти впервые в дом с пустыми руками. Он сразу почувствовал себя хорошо в дружной и, кажется, счастливой семье Брюханова; вслед за Брюхановым навстречу ему вышла дородная, со здоровым, чистым румянцем и яркими, очевидно, в молодости глазами женщина лет пятидесяти с небольшим; она приняла у Чубарева пальто, как бы между прочим оглядела его с ног до головы, словно сравнивая со стоящим рядом Брюхановым. Тимофеевна (так звали женщину) без околичностей повела Чубарева мыть руки, подала полотенце, подчеркнув, что оно стираное, пригласила садиться за стол.
– Благодарю, благодарю, – громко пробасил Чубарев. – За стол так за стол, дорогая моя Тимофеевна. У, да тут у вас борщом пахнет! Да еще кулебяка! У-у, какой аромат! Пропал я, братцы, окончательно!
Хлопоча у стола, колыхаясь своим большим, дородным телом, Тимофеевна еще больше потеплела, сразу принимая гостя как своего, а Чубарев быстро обежал глазами, уже просматривая корешки книг на стеллаже, отмечая, что издания все больше старинные, в тяжелых переплетах; вдруг у Чубарева дрогнули и поползли вверх брови: в дверях стояла молодая женщина с каким-то почти сияющим лицом, впечатление шло от широко распахнутых, озаренных внутренним светом глаз; в них сейчас были и смущение, и усмешка.
– Моя жена, – сказал, входя в столовую, Брюханов. – Знакомьтесь, Олег Максимович, Аленка. На четвертом курсе мединститута, думает стать невропатологом.
– Аленка? – удивленно переспросил Чубарев, с легким усилием наклоняя крупную гривастую голову; он взял руку Аленки и, едва прикоснувшись к ней губами, слегка отступил.
– Елена Захаровна. – Аленка мягко отняла руку все с тем же ровным сиянием в лице, хотя Чубарев видел, что она несколько смущена и недовольна его восхищением. – Садитесь, прошу вас, за стол, – пригласила она и, повернувшись к открытой двери, позвала: – Коля, иди, пожалуйста, потом закончишь… А это мой брат Коля, – тотчас опять повернулась она к Чубареву, с гордостью обнимая за плечи юношу лет шестнадцати-семнадцати, большеглазого, как она сама, в котором угадывалась такая же напряженная внутренняя жизнь.
Чубарев крепко пожал руку Николая, радуясь тому, что видит перед собой этих красивых, рослых и каких-то чистых изнутри людей.
– Превосходно, превосходно, – шумно выдохнул он воздух, – какие, оказывается, есть еще среди нас молодые люди…
И это у него прозвучало так заразительно-искренне, от души, что все рассмеялись, и только Николай продолжал смотреть на него испытующе, без тени улыбки, и Чубарев чувствовал себя как-то неуютно под этим требовательным молодым взглядом и несколько раз в продолжение вечера, за разговором, ощущая на себе этот неспокойный взгляд, сбивался с мысли и начинал заново. «Вот чертенок, какая сила», – восхищался Чубарев своим вынужденным единоборством с этим еще неоперившимся мальцом; Тимофеевна тоже почувствовала напряжение между ними и тотчас по-своему вступилась за питомца.
– Ты что, Коля? – спросила она. – Борщ, что ли, нехорош?
– Хорош, хорош, – ломающимся баском отозвался Николай и уже больше не отрывал глаз от тарелки; но у Чубарева где-то в глубине души осталась неосознанная тревога от этого мальчишки, он почему-то подумал что его жизнь будет самым тесным образом переплетена с этой только-только начинающейся, широко распахнутой молодой жизнью, и сразу же обругал себя за сентиментальность. Ишь чего захотел, старый бродяга, очень ты ему нужен, вот будешь встречаться с Брюхановым – и достаточно, и все связи, долго ли тебе еще осталось топать? Ты бы еще в планерный кружок записался; дудки, старина, как ни прыгай, а мотор когда-нибудь остановится, берег – вот он, уже виден…
В угоду Тимофеевне, чутко ловившей малейшую смену настроения за столом, Чубарев попросил добавить борща.
– Черпачок один, – предупредил он Тимофеевну, но та, словно не расслышав, с готовностью и гордостью опять налила ему до краев душистого, дымящегося борща, укоризненно глядя на Николая, что-то неохотно вылавливающего ложкой в своей тарелке.
– Сразу видно настоящего-то едока, – заметила она вроде бы мимоходом. – На такого и полюбоваться не грех, а то ведь откуда силы будут?
– Тимофеевна, – остановила Аленка, взглянув на сведенные брови брата.
– Пусть ее, Аленка, – сказал Николай с неожиданно доброй, совсем детской улыбкой, и Чубарев подумал, что он еще совсем мальчик. – Это Тимофеевна про меня, все ей кажется, что я от книжек чахотку схвачу…
– Уж схватишь, схватишь! – не осталась в долгу Тимофеевна, и Чубарев понял, что в семье это наболевшая тема. – А чего ж? Человек не ест, не спит, день и ночь огонь-то жжет, жжет, все с книжкой, все с книжкой! Ты зайди к нему утром – он, батюшка мой, зеленью пошел, мертвяк и мертвяк. Господи помилуй, кто ж так-то учится? Вот до чего городская жизнь доводит: малый день и ночь читает, другая за полночь да с утра пораньше в читалку бежит, мало ей своих книжек, вона их, не счесть, пылятся по полкам, только работы добавляют. Для чего ж их накупают? Куда, чужих рук не жалко! – Аленка в ответ, смеясь глазами, только сокрушенно вздохнула. – Так оно и идет все кувырком, вместо того чтобы дитё родить да за мужиками приглядеть, все книжки, все книжки… да еще говорят, покойников в подвале на куски полосуют… Греха не боятся… Господи, прости… Я уж как выберу часок, так и в церкву, свечку за них поставлю, помолюсь божьей матери. Прости их, говорю, непутевых, по молодости грешат!
Брюханов, до этого все больше молчавший, на этот раз поднял на Тимофеевну построжавшие глаза, и та, собирая тарелки, обиженно поджала губы.
– С хорошим человеком только и поговорить, – все-таки не удержалась она. – Вы же с книжками по углам уткнетесь, не с кем слово сказать.
– Ты, Тимофеевна, уж молчала бы. Сама даже блины с книжкой печешь.
– Глаз у тебя, Тихон Иванович, известно, начальственный, – не раздумывая долго, привычно огрызнулась Тимофеевна. – Позавидовал, надо ж… Полторы буковки за день и разберу, а ему и бублик с тележное колесо привидится…
За столом снова дружно засмеялись. Тимофеевна принялась раскладывать второе, норовя, несмотря на протесты Николая, положить ему в тарелку вдвое против остальных; Чубарева разморило от выпитой водки, особенно от воркотни этой простодушной румяной женщины, жившей своими законами и представлениями и вносившей в общее течение напряженной, нелегкой, видимо, жизни свою немаловажную часть. Чубарев почувствовал себя привычно и раскованно в этом совершенно новом для него доме, расхаживая по натертым полам, листая книги, рассматривая гравюры, шутил, рассказывал московские новости, от него исходила какая-то большая, уверенная, добрая сила. Аленка, подняв на него глаза, сказала:
– Вы нашей Тимофеевне понравились с первого взгляда… Удивительно… Лучшую рекомендацию получить невозможно, ей-богу, Олег Максимович.
– Польщен, польщен, – церемонно поклонился Чубарев, наблюдая за Николаем, давно уже сидевшим за столом только из приличия и от неудобства при госте встать и уйти, когда другие еще сидят.
– Иди, Коля, – с улыбкой кивнула Аленка. – Иди, нечего тебе томиться…
– Спасибо. – Николай встал и, смущаясь своего высокого роста, ни на кого не глядя, быстро вышел, снова тепло и по-мальчишески ярко улыбнувшись всем на пороге.
– Возраст дает себя знать, – сказал Брюханов задумчиво. – Мне сейчас кажется, что я таким молодым никогда и не был.
Чубарев ничего не ответил, стал закуривать, и некоторое время они молчали; опять зазвонил телефон.
До этого Тимофеевна или отвечала что-то сама, или подзывала Николая с Аленкой, на этот раз категорически потребовали Брюханова, и когда он вышел, Тимофеевна, убирая со стола, стала в сердцах громко стучать посудой.
– Вот уж окаянный чалдон, ни днем, ни ночью тебе покоя, – негромко ругалась она. – А вы проходите вон в кабинет, покурите там, – предложила она, и Чубарев, поблагодарив, грузно шагнул в соседнюю комнату, разглядывая заставленные книгами шкафы, с наслаждением опустился в просторное кожаное кресло; он сейчас думал о жене Брюханова, беспокойная и яркая красота ее наполнила душу какой-то светлой, забытой грустью.
Вернулся Брюханов, извинился, и они заговорили о делах, о ближайших нуждах предполагавшейся реконструкции завода, и Чубарев отметил, что Брюханов не утратил прежнего умения слушать собеседника внимательно, не перебивая; Чубарев спросил о Муравьеве, и Брюханов, медля, притушил в глазах мелькнувшие было веселые искры.
– Я его знаю вот уже три года, с момента, как восстанавливать завод начали. Еще пленные немцы работали. Но ей-ей – глухая стена, черный ящик. По-моему, кое-что я понял, по натуре своей человек этот сугубо плотоядный, но обстоятельства не позволяют… Ему все время приходится прикидываться вегетарианцем.
– Гм, – сказал Чубарев, высоко поднимая брови, но в это время на столе опять зазвонил телефон, и Брюханов от неожиданности как-то сразу сорвал трубку, и едва стал слушать, лицо его переменилось, отвердело. Разговор продолжался несколько минут, и была еще какая-то хорошо ощутимая Чубаревым тяжелая пауза, во время которой он, не упуская из вида лица Брюханова, почувствовал, как через него безудержно, неостановимо проносится время; он сейчас через Брюханова нес его тяжесть.
– Сделаем все возможное. – Брюханов положил трубку, кивнул Чубареву – «простите» – и стал звонить, теперь уже сам, и это продолжалось еще минут двадцать. Чубарев уже представлял, что случилось, из отрывистых приказаний Брюханова срочно собрать группу врачей и немедленно перебросить ее в дальний Покровский район, где на пропущенном минном поле подорвались одновременно более двадцати подростков; Брюханов приказал тотчас, как только меры будут приняты, сообщить ему и устало сгорбился.
– Вот так… почти каждый день, каждую ночь… Да, о чем это мы говорили, Олег Максимович… кажется, о Муравьеве.
– О нем! Но бог с ним, я хотел другое сказать. Знаете, – продолжил свою мысль Чубарев, – удивителен именно не результат, удивительно открывать заново, казалось бы, давно знакомых людей, сам этот процесс – Чубарев помолчал, вспоминая недавнюю встречу с Ростовцевым и свое самое подлинное замешательство от узнавания своего бывшего однокашника. – Я рад за вас, Тихон Иванович, – намеренно меняя разговор, добавил он мягче. – Рад видеть вас таким, пожалуй, вы ничего не растеряли за эти годы. Но главное в другом. Что-то новое, очень важное появилось в вас… Что-то вы приобрели, а что – не пойму. Хоть убей, не пойму. Разные превращения случаются с людьми… Молчите, я знаю, что говорю, у вас прекрасный дом, я рад. Я вам позавидовал, батенька мой, старик, а позавидовал! – После наступившей паузы он зорко глянул на хозяина. – Красота – вот вечная загадка! Жена ваша не просто красивая женщина… в ней есть тайна… И юноша очень любопытный… Черт возьми, какая у них, Дерюгиных, порода яркая…
– Коля с нами уже давно, я привязался к нему, – сказал Брюханов с какой-то вежливой, вынужденной улыбкой. – Характер, я вам скажу… Способности поразительные, заканчивает десятилетку экстерном и уже институтскую программу по физике и высшей математике за два года прошел. Не знаем, что с ним дальше делать… Недавно был в Москве, на всесоюзной математической олимпиаде, ему специальное приглашение прислали. Мне порой с ним не по себе: кажется, он все понимает, но как-то глубже, по-своему.
Брюханов, поглядывая на телефон, чего-то недоговаривал, и Чубареву не хотелось ему мешать, именно минутной безудержной откровенности люди стыдятся и от этого не только не делаются ближе, а, наоборот, больше потом замыкаются в себе. И Чубарев не торопил, не задавал вопросов, им, несмотря на тяжелый телефонный звонок, было хорошо, покойно вдвоем в этой большой сумеречной комнате, куда совсем не доходили посторонние уличные шумы.
– Вы говорите – порода, Олег Максимович. – Брюханов раздвинул тяжелые шторы, слегка приоткрыл окно; потек слабый ветер, и границы кабинета гоже раздвинулись. – Я вот иначе думаю… Несмотря на породу, ум, Николаю трудно придется в жизни. Сейчас он попал в оранжерейную, искусственную среду. А дерюгинской породе нужна борьба, преодоление.
– Что вы, что вы, он еще мальчик, сон души.
– Не скажите, Олег Максимович, есть характеры, которые выявляются только на изломе. Ум – это ведь не только ум, это еще и равноценная среда, способная воспринять этот ум… Коля торчит здесь, как одинокий пень, он этого еще не понимает…
– Ну, так давайте его в Москву, батенька мой, я поворошу в своем старом хламе, найдется там парочка академиков… Оснастим парня! – Чубарев, поспешно встав навстречу вошедшей Аленке, бережно взял из рук у нее дымящийся кофейник, поставил его на столик. – Как пахнет, как пахнет! Кофе, братцы мои, – мой вечный пережиток, еще из того, помните, Елена Захаровна, проклятого прошлого…
– Не помню, – рассмеялась Аленка, осторожно разливая кофе по чашкам.
– Вот те и на! А я думал, это все должны помнить, – удивился Чубарев до того искренне, что Брюханов в который раз залюбовался этим жизнерадостным, естественным в любом своем проявлении человеком. – Понимаете, Елена Захаровна, я ведь со своей Верой Дмитриевной в церкви венчался, так давно это было, кажется, ни в какой прибор цейсовский не разглядишь. А закроешь глаза, протяни руки – и коснешься, вот оно, рядом… Молодость рядом, последний порог рядом…
Аленка внимательно и быстро взглянула на него.
– В природе такого понятия, Олег Максимович, как смерть, не существует. Это уже человек придумал.
– Постойте, постойте! – Чубарев решительно отставил чашку с дымящимся кофе. – Пока я еще не настолько стар, чтобы забыть, что человек – часть природы. Но, Елена Захаровна, дорогая, все же увольте! Не хочу быть на одинаковых правах с инфузорией или дождевым червем… Знаете ли, обидно мне, я протестую! Вот я сейчас в Москве встретился с двумя своими однокашниками по гимназии, один ученый, академик, другой художник… видите, как вызвездило! Удивительное, скажу я вам, состояние: словно и не было жизни, а что она действительно прошла, я по-настоящему почувствовал только по этой встрече. И знаете, как это было грустно, трудно… и какие мысли были! И это, я уверен, у всех троих, потому что расстались мы молодыми, а встретились стариками. И у Лапина, и у Ростовцева, и у меня… Такого ведь состояния не может быть больше ни у одного живого существа на земле, Елена Захаровна.
– Все это так, но ничего переменить нельзя, так уж получилось, – мягко сказала Аленка. – Если позволите, я пойду, – сказала она после неловкой паузы. – Тихон, позови меня, если я буду нужна.
Чубарев легко для своих лет, стремительно встал, поцеловал ей руку; подумал, что бывают мгновения, когда особенно остро чувствуется возраст, что не просто с ней, вот с такой женщиной, Брюханову, нет, не просто. И от этих своих мыслей Чубареву трудно сейчас было взглянуть в сторону молчаливо сидящего в глубоком кресле Брюханова, но тот сам нарушил молчание.
– Ростовцев, Ростовцев… Простите, Олег Максимович, это художник? – спросил он.
– Да, вы знаете?. – живо отозвался Чубарев.
– Нет, но я слышал о нем, – сказал Брюханов и в ответ на нетерпеливый взгляд Чубарева добавил: – Был у нас в Холмске один чудак, директор картинной галереи… умер в прошлом году. Лет пятнадцать добивался купить какой-то портрет у московского художника Ростовцева… Чрезвычайно высоко о нем отзывался. Что-то у них не сладилось… То ли в цене не сошлись, то ли тот не захотел расстаться именно с этим портретом.
– Вот как, – слушая, Чубарев слегка наклонил голову. – А знаете, Тихон Иванович, все может быть… Я ничему не удивлюсь, самому невероятному. Я, разумеется, дилетант в вопросах искусства, но что-то меня так зацепило в его картинах, душа заныла, заворочалась. Так захотелось из своей старой шкуры выскочить, я себе и представить подобного состояния не мог… Что-то все-таки в жизни есть, недаром же так к небу потянуло – хоть становись на четвереньки и вой! До того хорошо стало, а ведь прожженный прагматик; и чувствовать вроде уже нечем…
5В эту ночь Николай долго не мог заснуть; обрывки каких-то полузабытых разговоров, бессвязных мыслей мелькали перед ним; последние месяцы его не оставляло предчувствие близких перемен; ему все казалось, что вот сейчас, сию минуту, перед ним откроется нечто такое, отчего вся его жизнь переменится и сам он переменится; он не мог знать, что это его тревожное и счастливое предчувствие перемен уже и есть сами перемены, и все ждал, ждал, замирая, прислушиваясь к каждому шороху ночи, улавливая горячо раскрытыми глазами малейшее колебание теней. Ночь, стершая законы и привычки дня, была лунная, желто-томительная, густые, тусклые блики все гуще заполняли комнату. Чувствуя свое напрягшееся тело, Николай легко вскочил, прошлепал к окну и отдернул штору; стройный, фантастический мир возник перед ним: над спящим городом, над старыми деревьями, трепетно и податливо менявшими свою форму, струилось медленное, томительное свечение. Словно изнутри светились сами дома, улицы, старые тополя, струилось, казалось, само небо, и Николай с дрожью в сердце подумал, что все это существует и будет существовать без него. Как это – без него? – сразу же с безотчетным протестом всего своего молодого существа не согласился он, и руки его еще сильнее сжали край подоконника. Как же все это может быть без него? Чепуха! Нет, это невозможно, с этим нельзя примириться.
Николай не помнил, сколько прошло времени, ноги на холодном полу заледенели, но он этого не замечал, какая-то тревога росла в нем; резко, не думая о том, что может кого-то разбудить в доме, он распахнул окно, и тотчас в комнату ворвался осенний ветер и с ним тысячи загадочных, неразрешимых вопросов; как сухие осенние листья в порыве вихря, они, казалось, метались вокруг него, и ему хотелось закричать от счастья и ужаса; все это предназначалось ему и принадлежало ему – и поражение, и победы, и борьба, и бессилие, и так до самого последнего мгновения, когда исчезнет этот густой лунный свет, исчезнет потому, что исчезнет он сам. И, как однажды в детстве, когда умерла бабушка Авдотья (он хорошо помнил беспросветное чувство тоски и страха, охватившее его тогда), к нему сейчас снова пришло мучительное, почти сладостное чувство исчезновения; оно, это чувство, было теперь иным, чем тогда, да, впрочем, он лишь на мгновение и вспомнил, и сравнил эти два момента, прежний и нынешний. Теперь это был не просто страх исчезнуть, теперь это была какая-то мучительно-трепетная, почти чувственная дрожь всего тела, пронизанного протестом и неверием. «Нет, нет, нет, – говорил он себе, – этого не может быть, чтобы я тоже исчез, как исчезает все, этого просто не может быть, потому что я есть и мне хорошо быть, хочется быть! Нельзя взять и исчезнуть, так ведь не бывает, чтобы все это – и луна, и дома, и небо – осталось, а ты вот возьмешь и исчезнешь. Так не бывает, не должно быть, нельзя этому быть…»
Николай не замечал порывов резкого ночного ветра, его все больше обтекала подвижная, нескончаемая лунная стихия, бесплотный светящийся поток словно вымывал из него все материальные основы, его земную тяжесть, и это было настолько реальное чувство, что от него словно больше ничего не осталось, он плыл, невесомый, в голубой холодной пустоте, поднимаясь все выше и выше, растворяясь в лунном сиянии, и только оставалось еще мерцающей точкой в громадном пространстве его отчаянно трепещущее сердце. И теперь уже не боль, не мучительно-радостное страдание от собственной невесомости и высоты пронизывали его; он бы мог уничтожить и сотворить вновь весь этот звездный мир вокруг, всю эту беспредельность, но что-то словно парализовало его волю, и ему все сильнее хотелось вырваться из этой скованности, из этой зависимости…
Он очнулся, с трудом понимая, где он и что с ним, и только в ослабевшем теле еще ныло чувство полета, загадочной высоты и пронзительности и слегка звенело и кружилось в голове. И тут появилось что-то постороннее, ненужное, он растерянно вздрогнул и увидел маячившую в дверях Тимофеевну.
– Что вам, что? – спросил он злым, грубым шепотом, но Тимофеевна, в теплом халате, в туго повязанном платке, не обращая внимания, ахая, подошла, торопливо закрыла окно, плотно задернула шторы, и от нее пахнуло теплым, домашним, ласковым, и у Николая на глазах, сколько он ни удерживался, выступили слезы.
– Господи, что же это на мою голову? – вполголоса сердито приговаривала Тимофеевна, крепко обнимая Николая, который весь мелко и непрерывно дрожал, за плечи и насильно подводя его к кровати. – Да ты же простыл, горе мое… Лежи, лежи! – приказала она строго, укутывая его одеялом до самого подбородка. – Сейчас пойду молока согрею, навязались на мою голову!
Николаю были дороги ее заботы, но он сейчас, если бы и хотел, не смог бы разжать губ; он лежал в какой-то испарине, в душевном облегчении оттого, что в его безжалостном лунном колдовстве появился понятный, теплый человек и что это, пожалуй, было важнее всего остального. Ему мучительно захотелось что-то сделать, может быть, просто пожаловаться, но даже на это не было сил.
Тимофеевна вернулась с молоком, на цыпочках, думая, что он уснул, и навстречу ей блеснули лихорадочные, возбужденные глаза.
– Знаешь, Тимофеевна, мне чего-то не по себе, страшно как-то, – признался он, и она неловко перекрестилась.
– Да чего тебе страшно-то, чего страшно, господи? – спросила она. – На-ка, молочка выпей…
– Не надо, спасибо…
– Выпей, выпей горяченького, сейчас тебе все нутро прогреет, – настаивала Тимофеевна, и Николай взял кружку, приподнялся на локте, сделал несколько глотков; в это время скрипнула дверь и в одной длинной сорочке, с накинутой поверх легкой шалью появилась Аленка.
– Что такое, Тимофеевна? Что опять случилось? – спросила она тревожно.
– Господи, ничего, ничего! – отозвалась Тимофеевна. – Иди ложись, вот неугомонные… да у вас хоть ночь-то когда бывает?
Аленка нагнулась к Николаю, пощупала ему прохладный и сухой лоб, ласково пригладила волосы.
– Спокойной ночи, Аленка…
– Спи, Коля, спокойной ночи… Переутомление, не ходи завтра на занятия, пройдет…
– Все от книжек, – волновалась между тем Тимофеевна, взбивая подушку и заботливо подтыкая со всех сторон одеяло. – Все от них, проклятых. Где это видано – с утра до ночи все книжки да книжки, будь и в дюжину голов, свихнешься. Говорила я Тихону и тебе говорила, – в сердцах оглянулась она на Аленку, – так где там! Разве послушают, вот тебе поморок и находит. Парню-то шестнадцать всего, я об эту пору замужем была, а то где ж оно видано – одни книжки! Кто хочешь с тоски свихнется!
Тимофеевна взяла у Николая из рук книжку, и он сразу почувствовал, что у него слипаются глаза; он уже не слышал, что еще говорила Тимофеевна, лишь неясно и туманно мелькнуло перед ним широкое лицо Чубарева; беспокойно разметавшись, он в следующий момент уже спал, а Тимофеевна, выпроводив Аленку и трижды перекрестив его, тихонько вышла, полная смутных предположений и страхов.
В это время, отодвинув тяжелую руку Брюханова и присев на кровать, Аленка заплетала потуже распустившийся узел волос.
– Удивительный человек этот Олег Максимович, – вспомнила она. – Теплый, заразительный… Сразу все по-другому светится… Коля тоже никак заснуть не может. А то вокруг тебя одни надутые гусаки… Как они мне надоели, если бы кто знал…
– Так уж все подряд и гусаки? – заворочался Брюханов.
– Все! Все! – с легкой насмешкой заверила Аленка. – Помнишь, на майском вечере… меня никто так и не решился пригласить танцевать… Там двое приезжих было, корреспонденты… Один темный, высокий, помнишь? Чувствую, глядит, чуть скошу глаз – так у него из-под ресниц и брызжет… Танцевать же пригласить не осмелился. Ты ведь рядом стоишь! Ну разве это мужчина? Брюханов, не хочу быть начальством! танцевать хочу!
– Танцуй себе на здоровье на институтских вечерах, кто тебе запрещает?
– Чего ты прикидываешься, Тихон? Разве дело в запрещении или танцах? Совсем не в них дело. Отгорожены мы от людей. Я понимаю, живешь ты ради людей, ночей не спишь, с телефонами воюешь, но люди этого не знают, не чувствуют, для них ты – кресло, начальство.
– Мы-то с тобой знаем, в чем суть, главное…
– Все главное, Тихон.
– Не кажется ли тебе, Аленка, что ты сладкого переела?
– Вот уже и попреки пошли, – задумчиво отозвалась Аленка, вздыхая и опуская голову на подушку, – Нет, не кажется, не переела… Потом – у каждого свои сладости… Ведь что интересно: каждый из вас сам по себе живой человек, а вместе – сплошной вицмундир, все пуговицы застегнуты, на одной щелочки, никто заглянуть не моги и не смей! Смешно, право…
Она нашла большую волосатую руку Брюханова и погладила ее; ей захотелось рассказать ему о росе, о том, что она видела под водой в маленькой лесной речушке, о том, как хорошо иногда быть совершенно одной… хотела – и не могла заставить себя. Быстро приподнявшись на локоть, она наклонилась к лицу мужа.
– Тихон, слушай, а ты хотел бы узнать все-все, что у меня на душе, до самого донышка? А? Что же ты молчишь?
– Что ты вдруг? – с некоторым усилием отозвался он. – Сама не понимаешь, что говоришь… Да и зачем?
– Ты прав, – тотчас согласилась она и, подумав немного, добавила: – Все-таки умница ты, с тобой всегда интересно…
– Ну, ради бога, – засмеялся он, – давай спать, Аленка, что ты меня сегодня донимаешь?
– Не буду больше… спать, спать, – сказала она. – Глаза слипаются. – Она поцеловала его, тепло задышала, заворочалась, устраиваясь удобнее. – Что у нас за квартира! – уже совсем сонным голосом пробормотала она. – Сколько лет разбираю твои бумаги – каждый раз на сюрприз натыкаюсь… Вчера старый вещмешок в кладовке попался, наверное, твой. А там связка каких-то тетрадок, блокнотов…
– Тетрадок? – переспросил Брюханов, продолжая думать совершенно о другом. – Каких тетрадок?
– Сверху все скипелось, ничего не разберешь… Кажется, какие-то партизанские записи, я в нижний ящик стола положила.
– Хорошо, завтра разберемся, – отозвался Брюханов.
Вздохнув, Аленка затихла, а Брюханов, выжидая и стараясь не шевелиться, долго лежал с открытыми глазами, снова и снова перебирая в памяти неожиданный разговор. Он был рад такой откровенности, он не ожидал, но в то же время его встревожило душевное состояние жены; но и это сегодня не являлось главным. Что-то происходило в нем самом; он не знал, не помнил момента, когда именно в нем что-то сместилось, но то, что изменилось что-то основное, он знал по какому-то своему новому отношению к людям, к самому себе, к тому, как все труднее становилось принимать решения. Поставленный в силу определенных условий в жесткие рамки, он в такие моменты, стараясь остаться в привычных берегах, весь внутренне застывал, хотя все равно не мог избавиться от мысли, что придет время и его на всем ходу рванет куда-то в сторону; подчас в нем даже начинало звучать ощущение такого рывка.
Заворочавшись во сне, Аленка тепло придвинулась к нему, и у Брюханова защемило сердце. Было счастьем, что она рядом с ним, привязана к нему, это так, но она даже отдаленно не может себе представить, насколько эта привязанность меньше его любви, ведь все эти годы освещены ею, хотя он старался всегда быть ровным, не показывал всей силы затаенного чувства. Он внешне внимателен, нежен, всегда чуточку насмешлив, и эта узда, он знает, держит ее. Незаметно, исподволь, но твердо он старается руководить ее жизнью, в свое время хорошо сделал, настояв, чтобы она окончила десятилетку и поступила в институт, чтобы у них жил и учился один из ее братьев, он всегда следит, чтобы она как нибудь не оказалась в пустоте, тем более что его работа действительно отнимает все время и силы. И все-таки чего-то недостает в их отношениях, что-то начинает не срабатывать, иначе как объяснить недавний разговор? – подумал он, вспоминая непривычно новые, насмешливые нотки в голосе жены и запоздало обижаясь. Вполне вероятно, что развоевалась сегодня Аленка просто по молодости, по дерзости, мятущаяся ее натура не терпит обыденности, это понятно, а вот что он сам не нашелся с ответом по-настоящему, уже хуже…
Иногда, когда сон не шел, как, например, сегодня ночью, он принимал ледяной душ и уходил работать в кабинет; очевидно, сегодня был именно такой случай. Осторожно выбравшись из кровати, он подошел к окну и, вглядываясь в сонную пустынную улицу, поежился – холодно и неприютно было в мире.








