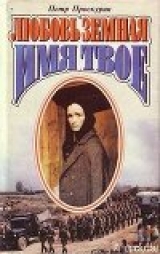
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 64 страниц)
Потапенко сразу и сильно побледнел; он порывался сказать что-то еще, но Брюханов уже отошел к Анисимову, с какой-то даже излишней доверительностью взял того за локоть и повел к тротуару, пролегавшему вдоль самого берега реки.
– Слышал о тебе много хорошего, Родион. – Брюханов все еще хмурился, думая о разговоре с Потапенко. – Рассказывай, как живешь…
– Жаловаться не приходится, Тихон Иванович. Живу нормально, хорошо живу, работой доволен. Правда, бумаги лишней приходится горы изводить, – заставил себя пошутить Анисимов, – но к чему в конце концов не привыкнешь? Вот видите, весь я перед вами. Все случается, иной раз такая обыденщина засосет, хоть вой, хочется обзора большего, куда-то на высоту подняться, горного воздуха хватить… Потом ничего, проходит. А вы хорошо выглядите, Тихон Иванович, годы вас щадят.
– Как жена? – спросил Брюханов, вспоминая. – Учительствует по-прежнему? Елизавета Андреевна, кажется?
– Вашей памяти, Тихон Иванович, позавидуешь. Да, Елизавета Андреевна. Весной сорок третьего пришлось мне уходить… Спешно. Ее я не успел переправить, а когда вернулся с нашими, как в воду канула моя Елизавета Андреевна, ни единого следа. И, представляете, объявилась. Представляете себе откуда? Ни мало ни много – из Инсбрука, из Австрии, вот куда зашвырнуло. Боже мой, какие годы, трагедии на каждом шагу, поразительно что мы все уцелели, остались живы, – поправился Анисимов. – А ей пришлось полной чашей испить, Елизавете Андреевне… В конце оккупации Макашин… помните Макашина-то, ну, начальника зежской уездной полиции при немцах? Что-то он почуял тогда… Сразу же наутро после моего ухода явился с немцами, все вверх дном переворотили, все добивались, куда я мог скрыться. Боже мой, как она переживала, когда вам пришлось у нас в тайнике отсиживаться…
– А знаешь, Родион, – оживился Брюханов, – по нашим сведениям, Макашин-то в живых остался. Если за границу не ускользнул, найдем все равно, таких много уже повытряхнули из щелей.
– Нечисть нечистью и останется. Один способ – каленым железом выжигать, – жестко сказал Анисимов, суживая глаза, весь сейчас внутренне напрягшийся. – Сколько крови, горя сколько от них… Как он, подлец, радовался, что старший сын Захара Дерюгина тогда ему в лапы попался… Зверь… Ефросинья ко мне прибегала… Такого только могила успокоит.
– Не надо, Родион. – Брюханов понимающе тронул его за плечо. – Вообще война есть война, а уж эта выдалась… Забыть мы ничего не забудем, пусть никто не надеется.
– Лиза узнает о нашей встрече, очень обрадуется, Тихон Иванович, – подсознательно стараясь переменить тему опустошавшего его разговора, Анисимов слегка задумался. – Раньше была очень эмоциональна, война несколько подсушила…
– Кланяйся ей от меня, – сказал Брюханов. – Главное мы осилили, все остальное нарастет…
– Да, да, обязательно, – тотчас отозвался Анисимов. – Вы представляете, Тихон Иванович, она с девочкой вернулась, подобрала в концлагере, когда их американцы освободили. Семи лет, Шурой звать, совсем плоха была, прямо с того света девочку вырвала. От этого, говорит, сама выжила…
Неожиданно, сильно прижимая ладонью правый бок, Анисимов задохнулся; на лбу у него выступила испарина; поддерживая его, Брюханов оглянулся, отыскивая шофера, но Анисимов отрицательно покачал головой, через силу успокаивающе кивнул.
– Не надо, не надо, что вы… Это со мной теперь бывает, – сказал он, нервными, быстрыми движениями длинных пальцев потирая виски; на какой-то миг Брюханову что-то смутно припомнилось, но времени сосредоточиться не было.
– Слушай, Родион, дело делом, а время на ремонт выкраивать необходимо. Что ты шалишь… Как можно? Обидно, понимаешь, на полпути свалиться, не дошагать. – Брюханов все так же тепло и ободряюще улыбнулся. – Так что дурака не валяй, в первый же просвет – к врачу на обследование. Не вздумай хитрить, поймаю.
Анисимов с благодарностью за неожиданную теплоту кивнул, да и боль понемногу отпускала. Вот и вошел он в мир Брюханова, прикоснулся к нему открыто и безбоязненно, а странная, иссушающая душу жажда лишь усилилась. Он ведь даже надеяться не мог на такой интерес к своей скромной особе. Хотя почему же? Брюханов ведь тоже человек, несмотря на множество ждущих дел, стоит с ним, вспоминает прошлое, тратит время. Все-таки недаром его тянет к Брюханову, что-то здесь есть. Пусть с математической ясностью не определишь, почему это происходит, но одно он точно знает: от непосредственного соприкосновения с жизнью Брюханова последуют какие-то перемены для него самого, Анисимова, и перемены к лучшему.
– Жизнь все-таки хорошая штука, Родион, нет-нет да и что-нибудь подбросит, – лицо Брюханова еще больше смягчилось. – Я ведь женат… Захара Дерюгина ты помнишь… Ну, так вот, на его дочери женат. Война нас свела, девочка у нас родилась, Ксеня. Жена сейчас в ординатуре в областной больнице. Невропатолог.
– Рад за вас, Тихон Иванович, я слышал, – кивнул Анисимов с каким-то тихим внутренним удовлетворением от того, что сам Брюханов ему исповедовался (ну, разумеется, разумеется, тотчас ожил в нем и другой, ехидный, безжалостный голос, это ведь тоже что-нибудь да значило). – Вы своей супруге кланяйтесь, едва ли, конечно, она помнит. Мол, поклон от Анисимова, душевно рад… Знаете, одиноко как-то, годы многих разметали, возраст дает себя знать, вот вас увидел… точно в молодость свою заглянул. – Анисимов, пряча глаза, откашлялся. – Гм… черт его знает что, – оборвал он себя, – старческая слезливость какая-то временами нападает.
– Тебе опять плохо, Родион? – встревоженно подвинулся к нему Брюханов.
– Нет, нет, не беспокойтесь, Тихон Иванович, все прошло, – сказал Анисимов, стараясь твердо выговаривать слова. – Честное слово, я и без того столько времени у вас отнял. Ей-богу, не важно все это, – выдержал он пытливый взгляд Брюханова с легкой улыбкой. – Вот встретились мы, для меня это важно, чувствую, закисать иногда начинаю. Простите, Тихон Иванович, последнее: о самом Захаре Дерюгине что-нибудь известно?
– Разумеется, – отозвался Брюханов даже несколько более поспешно, как показалось Анисимову, чем это было нужно.
– Вы же понимаете, – помог ему Анисимов, не желая рисковать сейчас даже в самом малом, – я не просто из-за праздного любопытства… Дело у нас одно, если по-большому брать, и судьба одна…
– Вообще-то у Захара сложилось неважно, – тотчас ответил Брюханов. – Был в плену, бежал из концлагеря, воевал в партизанах в Словакии, и вот ведь – опять раненый угодил в плен. Правда, с ним почти сразу же разобрались, мог вернуться в Густищи, не захотел, остался работать в леспромхозе, где то на верхней Каме. Ты же знаешь его характер… Написал я ему раз, другой, – молчит, ну что ж…
– Да, уж характер, – развел руками Анисимов и притронулся к фуражке, больше задерживать Брюханова он не имел права, и тот, прощаясь, еще раз напомнил об отдыхе и путевке куда-нибудь на хороший курорт; Анисимов в ответ лишь мечтательно присвистнул.
– Гагры, Мацеста, – прищурился он, представляя себе густой морской ветер, тугой солнечный блеск от моря как нечто уже совсем нереальное. – Пальмы, теплое море, ах, черт возьми… хорошо. Как-то очень уж красиво и далеко. Я завтра, Тихон Иванович, опять в командировку в Москву, в министерство, – сказал он весело. – Макаронной и кондитерской фабрикам оборудование поеду выколачивать. Что мы, хуже других?..
Расстались они почти сердечно, и Анисимов едва верил своей удаче. Пыль еще клубилась вслед за уехавшей машиной Брюханова; солнце снова пекло нещадно, все оставалось на прежних местах, как и полчаса тому назад, но Анисимов смотрел на окружающее уже другими глазами. На месте недавних бесформенных груд, навалов камня, кирпича, цемента, погнутых ржавых балок, вопреки войне, вставала еще одна новая улица нового Холмска, тянулись к небу высокие дома. Нет, жизнь не кончена, он еще поборется с ней, с жизнью, померится силами, рано еще списывать себя в обоз. И домой он вернулся с тем же ощущением необходимых и важных перемен, и с женой разговаривал с тем же чувством, но когда на другой день на вокзале поезд тронулся и лица Елизаветы Андреевны и Шурочки вначале медленно, а потом все быстрее поплыли назад, и он, и Елизавета Андреевна почувствовали облегчение. И ему, и ей нужно было побыть в одиночестве, отдохнуть друг от друга, от постоянного напряжения я прислушивания друг к другу; оба они это знали.
10В командировке Анисимов пробыл недолго. Он привез Шурочке из столицы красивую куклу с закрывающимися глазами, жене – дорогие духи «Красная Москва» и две пары тонких шелковых чулок. Приехал он рано, в шесть утра, но Елизавета Андреевна уже встала, готовила завтрак, проверяла тетради.
– Здравствуй, Родион, – вышла она ему навстречу, услышав легкий шум в коридоре, спокойно задержала на нем взгляд. – Тише, пожалуйста, Шурочка еще может часок поспать.
– Это тебе, Лизонька. – Анисимов, выкладывая перед ней свертки на маленький столик, слегка коснулся губами ее волос. – Это вот Шурочке… кукла.
– Сам и отдай. – Елизавета Андреевна тихо, заученно улыбнулась, и ему была неприятна такая улыбка. – Надо же когда-нибудь перешагивать этот порог, Родион…
– Да, надо, – признался Анисимов просто.
– Ты здоров?
– Так, ерунда, – сказал он, сразу смягчаясь от ее внимания. – Позапрошлой ночью в гостинице нехорошо стало, сердце прихватило… «Неотложку» вызывали, пришлось укол сделать… обошлось…
– Ты дурно выглядишь, надо бы врачу показаться. – Елизавета Андреевна, казалось, раз и навсегда усвоила себе в общении с ним ровный, без всяких эмоций, тон. – Иди умойся, я сейчас свежий чай заварю. Шурочка встанет – будем завтракать.
– Спасибо, я лучше лягу, часика два посплю. Потом с отчетом идти…
Он ушел в ванную и долго фыркал и плескался под душем; что же, что ж, подумал он, если ничего другого придумать нельзя, то именно такая форма отношений, пожалуй, вполне устраивает и его, и ее; надо на этом пока и остановиться. Как-никак прогресс, о враче вспомнила. Это уже хорошо. Ей не надо знать, что его недавняя встреча с Брюхановым была лучше любого курорта, он после этого в какой-то молодой ритм вошел, ничего, ничего, придет время, все окончательно наладится.
На следующий день, запустив на работе подведомственный ему механизм, Анисимов все же условился о встрече с врачом, жившим по соседству с ним, в одном доме, на одной лестничной площадке; он давно уже приучил себя все делать основательно, и если забарахлило сердце, проконсультироваться необходимо было у лучших специалистов, а Хатунцев-младший работал в ведущей клинике города. Вот уже второй год они жили рядом, дверь в дверь, иногда по нескольку раз в день захаживали друг к другу по всякой надобности, и хотя сам Анисимов недолюбливал старика Хатунцева, полковника в отставке, как в поступках, так и в мыслях слишком прямолинейного, сын его Игорь Анисимову нравился; к тому же специалист-невропатолог всегда мог пригодиться.
Выслушав жалобы Анисимова, осмотрев и простукав его, Хатунцев-младший направил его к другим, таким же молодым, энергичным коллегам, не терпящим малейшего промедления и проволочек; и Анисимов, как-то невольно вовлекаясь в непривычный для себя круговорот, подсмеиваясь над собой, собрал необходимые анализы и через три дня опять появился в кабинете Хатунцева. На этот раз тот был не один; еще с порога в глаза Анисимову бросилось среди ординаторов лицо молодой женщины со светло-прозрачными глазами и совершенно прямой линией бровей, и он тотчас узнал жену Брюханова, потому что с момента переезда в Холмск и до встречи с Брюхановым все о ней давно уже знал. Сейчас именно ее глаза, вернее, что-то неуловимо дерюгинское в их выражении, на секунду задержали его в дверях.
– Проходите, проходите, Родион Густавович, – тотчас пригласил его Хатунцев. – Итак, на этот раз все обошлось, – весело сказал он Анисимову, что-то быстро записывая в карточке. – Видимо, был небольшой криз, отсюда и боли. Не переутомляйтесь, гуляйте, следите за сном. И главное – к нам не попадайте.
Вокруг засмеялись; Анисимов тоже вежливо улыбнулся.
– Спасибо, доктор, – поблагодарил он, сам для себя неожиданно опять глядя на Аленку, недовольно сдвинувшую в ответ брови.
– Вы, наверно, не узнали меня, Елена Захаровна, – поспешил объяснить прежде всего для Аленки свое внимание Анисимов. – А вот я вас узнал, хотя видел в последний раз еще до войны. Я – Анисимов, Родион Густавович Анисимов.
Аленка где-то слышала эту фамилию, но вспомнить не могла; краснея, она оглянулась на Хатунцева.
– С вашим отцом, Елена Захаровна, вместе колхоз сколачивали. Годы, годы… – вздохнул беспокойно Анисимов, намеренно не замечая, что Хатунцев, откинувшись на спинку стула, внимательно и несколько изумленно за ним наблюдает. – Видите, как довелось свидеться, если бы Захар Тарасович здесь был, вот порадовался бы.
Он говорил что-то еще, больше обычного жестикулируя руками, и Аленка, оправившись от смущения, заставила себя взглянуть на Анисимова с профессиональной точки зрения; вдруг она поймала себя на том, что с самого начала слушает его и наблюдает за ним с определенным интересом, и прежде всего за его манерой говорить, тот как бы все время прислушивался к самому себе; безусловно, почему-то решила она, перед ней человек с какой-то трещиной, надломом, что-то странно-болезненное проскальзывало в его сбивчивом рассказе, и она не могла понять, что именно, и оттого еще больше настораживалась, состояние же Анисимова было непонятным и для него самого; какие-то яркие пятна воспоминаний проносились в мозгу; вот она, жизнь, думал он, Макашин хотел до нее добраться, не смог, а теперь она жена Брюханова, отсидевшегося во время облавы у меня в подполье… Удивительно, удивительно, как все складывается… А что, если бы эта сероглазая женщина знала, что это я стрелял в ее отца, что именно я, я перечеркнул его жизнь? Правда, убил я другого, но я ведь именно в Захара стрелял… Ну и что, чего добился? Вот сидит пред тобой его дочь в докторской шапочке с немыслимыми глазами. Она – жена Брюханова и лечит людей, и каждый день ее осмыслен и освящен добром. А ты как был, так и есть отработанный материал, шлак… пока больше ничего. Вздор! Что за ерничество! – тут же возмутился он. Ничего не было, никогда я ни в кого не стрелял, ничего не было… Вот и доктор говорит: ничего страшного, не нужно переутомляться, нужно следить за сном…
Анисимову пришлось сделать над собой определенное усилие, чтобы остановить ненужный, разъедающий поток прошлого; и хотя он не упустил ни слова из того, что говорилось до этого другими, Хатунцевым и Аленкой, это его неприятно озадачило.
– Что вы, Родион Густавович, все о моих родных говорите, – сказала в это время Аленка с вынужденной улыбкой. – Неловко как-то…
– Что же здесь неловкого? Я ведь вас совсем маленькой девочкой знал, Елена Захаровна, – поспешил он ей на помощь. – К Елизавете Андреевне часто забегали… А Игорь Степанович простит, мы с ним соседи. Чего не бывает в жизни.
Вокруг Аленки опять засмеялись, а Хатунцев, опуская глаза, кивнул.
– Сейчас я вас действительно вспомнила, ведь Елизавета Андреевна ваша жена? – оживилась Аленка, начиная чувствовать себя свободнее и необычайно ясно представляя, как она с холщовой сумкой в руке бежала в школу через поле, босоногая, по свежей, невысохшей росе.
– Точно так, – сказал Анисимов быстро. – Ей тоже в войну досталось… Простите… не смею долее задерживать…
– До свидания, привет Елизавете Андреевне, – кивнула ему вслед Аленка, и день потек своим чередом, потому что, по сути дела, ничего особенного в этой встрече не было. Однако у Аленки осталось какое-то непривычное ощущение, точно она против своей воли вступила в какой-то странный, длинный коридор и там что-то темное, не поддающееся анализу и логике, пронеслось мимо, обдав ее холодом, утомительным, тоскливым безлюдьем…
За целый день Хатунцев не обратился к Аленке ни разу, ни с одним вопросом, но в конце дня неожиданно задержал ее в коридоре.
– Елена Захаровна, одну минуту, – сказал он как бы между прочим. – Открытые эмоции, как у вас сегодня с больным Чиквидзе, невропатологу ни к чему. Они мешают. Раз и навсегда откажитесь от них, должна быть только обратная связь. От вас – к больному. Иначе невропатолога из вас не получится. До свидания, Елена Захаровна, я вас больше не задерживаю.
11В этот день у Анисимовых было необычайно оживленно и весело. Шурочка за обедом то и дело откладывала ложку и принималась неудержимо смеяться, вновь и вновь начиная рассказывать, как мальчик Боря с третьей парты скатился задом во время большой перемены по перилам лестницы со второго этажа прямо в руки завучу Степану Аркадьевичу и тот на руках унес его в учительскую. У Шурочки забавно морщился носик и прыгала от смеха косичка, она заметно окрепла за последние месяцы и совсем перестала дичиться.
После обеда Анисимов прилег на диван в столовой, закурил; удивительная все-таки женщина Лиза – из обычного обеда умеет сделать праздник, скромный букет, обязательно однотонный, в старинном высоком бокале, красивая посуда, обязательно парадная, Елизавета Андреевна не признавала деления посуды на праздничную и каждодневную; красота необходима человеку так же, как пища, каждый день, утверждала она и неуклонно придерживалась своей теории. Все было у них с Елизаветой Андреевной – взлеты и падения, радости и потери, все, кроме скуки. И пусть не все у них гладко сейчас, не все ладится, главное им удалось сохранить – общую крышу над головой. И в этом отношении он богаче Захара Дерюгина, тот по своей безалаберности не сохранил ни кола, ни двора, по-прежнему мыкается по белу свету, теперь его на Урал занесло, а здесь вон как стараниями Лизы тепло, уютно, пианино для Шурочки в прошлом месяце купили, осенью в музыкальную школу пойдет, с Клавдией Георгиевной Пекаревой, заведующей, он уже договорился, ну и хорошо, побоку все великие замыслы и свершения. То, что его сегодня при встрече с женой Брюханова едва прежний поток не захлестнул, надо учесть, беда невелика. Молодой сосед, правда, иронически поглядывал, но это его дело, ему тоже дать кое-что понять будет не лишне. Про себя засмеявшись, Анисимов сбросил ноги с дивана; черт возьми, ну что ж, потер он руки, получается ведь совсем неплохо.
Заглянув в соседнюю комнату, Анисимов увидел, что Шурочка в углу шепчется со своей новой куклой Леной, расчесывая ей гребешком только что помытые и сильно спутавшиеся шелковистые волосы; школьные новости кукла выслушивала со своей застывшей, безмятежной улыбкой. «Хорошо, все хорошо», – опять успокоил себя Анисимов.
Часы пробили шесть; он тщательно побрился, надел новую рубашку в мелкую полоску, купленную в Москве, сказал Елизавете Андреевне, что навестит соседа, и все в том же благодушном настроении позвонил у дверей напротив. Ему открыл Хатунцев-старший.
– Проходи, Родион Густавович, проходи, – радушно пригласил он, распрямляя и без того прямые плечи. – Вот уж вторую партию в шахматы проигрываю. Громит, стервец, родителя и ухом не ведет.
Хатунцев-младший сочувственно развел руками и подмигнул Анисимову; тот, понимающе улыбнувшись, выложив на буфет привезенный из Москвы набор чая в красивой глянцевитой коробке и поставив в дополнение бутылку армянского коньяка, удобно устроился в кресле и стал с интересом наблюдать за игрой, исподволь любуясь чистотой молодости, мужской резкостью больших, правильных губ и подбородка, сильной шеей и спокойными, уверенными руками Хатунцева-младшего; он нравился Анисимову, напоминая чем-то его самого в молодости, поручик Бурганов в свое время был неотразим; вот только непонятно, была ли когда-нибудь молодость и все остальное, с нею связанное? Как-то все слишком далеко и бесплотно, если вспомнить, скользнут в душе тихие, не вызывающие ни радости, ни огорчения тени, и ничего больше.
Хатунцевы, отец с сыном, жили вдвоем; сами убирали квартиру, сами готовили, и только раз в неделю к ним приходила пожилая женщина забрать сорочки и прочее белье в стирку и принести чистое. Атмосфера квартиры была специфически мужской: неистребимо пахло табаком, и в дорогие тюлевые занавески на окнах намертво въелась ядовитая табачная желтизна; здесь нельзя было увидеть флакончика духов, небрежно брошенного красивого гребня или пудреницы. На вешалке у двери одиноко висела старая шинель без погон, перед единственным в квартире женским портретом на этажерке в углу пылилась высохшая гирлянда гортензий; это был портрет погибшей в войну жены Хатунцева, матери Игоря. Судя по отрывочным фразам, у полковника была потом какая-то неблагополучная, мучительная связь с женщиной много моложе его, но года три тому назад он все порвал и с тех пор целиком посвятил себя сыну.
Анисимова чем-то тревожил портрет умершей жены полковника; она была хороша собой, мягкая женственность освещала ее лицо, но всякий раз при взгляде на этот портрет Анисимова охватывало чувство беспокойства, словно сырой, мглистый ветер начинал насмешливо посвистывать в душе и кто то с дьявольской вкрадчивостью нашептывал на ухо: конец, конец, конец; так было в первый раз, когда Анисимов познакомился с соседями и был приглашен к ним домой, так повторялось и в следующие посещения, и Анисимов, сколько ни пытался, разгадать загадки притягательной власти портрета не мог и поэтому всякий раз старался пристроиться на диване Хатунцевых так, чтобы не видеть портрета.
Сегодня он изменил своему обычаю, нелепый поединок кончен, и он это понял, едва взглянув на засохшие цветы. Культ несуществующей женщины с мягким взглядом исподлобья будет неминуемо взорван с приходом в дом будущей жены Хатунцева-младшего; и полковник, Анисимов знал это, уже заранее ревновал сына к снохе, которая перевернет здесь все вверх дном и первым делом, конечно, выбросит засохший букет; сейчас, наблюдая перипетии шахматной баталии и машинально отмечая ошибки и с той, и с другой стороны, Анисимов улыбнулся своим мыслям. Игра затянулась; в конце концов полковник сердито положил своего короля и поднялся, расправляя затекшие плечи.
– Ну-с, что ты на это скажешь, Родион Густавович? Ай-яй, давно ли на горшок этого молодого человека сажал. Никакого уважения к авторитету родителя! Ну-с, попробуем московской заварочки, уважил, уважил, Густавович, пойду-ка я чай налажу.
Хатунцев-младший аккуратно собрал и уложил шахматы, все с той же спокойной приветливостью попросил Анисимова пересесть и, придвинувшись к приемнику, включил его и стал настраивать.
– Порадовал ты меня, Игорь, у меня, значит, все в порядке? – как бы между прочим еще раз подвел итог Анисимов своему утреннему походу к Хатунцеву-младшему.
– Полностью, Родион Густавович, – кивнул Игорь, приглушая звук. – Я еще анализы ваши просмотрел, полная норма.
– Да я и сам чувствую себя лучше. А посидел у вас в кабинете, совсем выздоровел. Можно ли, скажите, рядом с такой женщиной говорить о болезнях?
– Это вы о ком? – переспросил Хатунцев-младший,
– Как о ком? О Дерюгиной…
– А-а, – неопределенно протянул Хатунцев-младший. – О Елене Захаровне…
– Эх, где мои двадцать восемь! Да я бы такую красоту из-под самой невозможной стражи умчал…
– Эту, Родион Густавович, не умчишь.
– Почему? – всем телом подался к Хатунцеву-младшему Анисимов, и выжидательная, мягкая улыбка как бы опустилась откуда-то и застыла на его лице.
– Что мы ей – серая кость… И потом – она вся в науке, – поправился Хатунцев, чувствуя, что сказал лишнее. – Хороший диагност, и руки отличные.
– Ну, разумеется, – Анисимов пожал плечами, – как же может быть иначе, у первого секретаря обкома жена может быть только талантливая и только с большим будущим, это ведь непременная норма.
– Нет, в самом деле, толковая баба, – стоял на своем Хатунцев-младший, слегка краснея. – Работоспособность грандиозная. И никакой заносчивости при ее-то положении… По-моему, она собирается всю невропатологию перевернуть… Разумеется, это у нее от неопытности, все мы через это прошли…
– Я тебе верю, верю, – остановил его Анисимов. – Но посуди, что за скука, Игорь, никакого полета, ни шага в сторону! Красивая женщина, ну, скажи, при чем здесь, чья она жена? Нет, не понимаю я вас, молодежь, не понимаю. Вы даже на мечту себе не оставляете права. А в любви все одинаковы, в любви у всех одни права – в этом государстве, по-моему, нет ни границ, ни царей, ни даже секретарей обкомов. Все подданные, все равны!
– Да вы поэт, Родион Густавович, вот не ожидал!
В иронической интонации Хатунцева-младшего Анисимов уловил для себя предупреждение и замолчал; Хатунцев-младший снова принялся за приемник, а Анисимов разлил принесенный коньяк в рюмки. На столе все уже было готово к нехитрому холостяцкому ужину, полковник поколдовал еще над заварным чайником, затем позвал сына к столу; Хатунцев-младший, вообще охотно предоставлявший другим заботиться о себе, не испытывая при этом ни малейшего неудобства или смущения, прихлебывал янтарный чай, еще и еще раз проанализировал свои разлохмаченные от недавнего разговора мысли; да полно, что я придумываю, решил он, ничего не было. Обычная вещь: при снижении потенции мужчины в годах всегда много и охотно говорят о женщинах – тот же инстинкт продолжения, инстинкт пола, желание отодвинуть старость. Родион Густавович, видимо, вступает в этот возраст, что тут копаться…
– А мы тут, Степан Владимирович, с Игорем говорили, – подал в это время голос Анисимов, любивший пить чай неторопливо, вприкуску, хрустя сухарем. – Игривых тем невзначай коснулись…
– И я говорю, – подхватил полковник с досадой. – Жениться ему надо, тридцать оболтусу… куда дальше?
– Опять ты, отец, за свое…
– Да, за свое! – отозвался полковник быстро и четко. – Женщина в доме нужна, живем антисоциально, как-то одной половиной… Заявляю тебе, ученый сын мой, вполне решительно, не женишься – женюсь сам, на страх тебе, найду даму посолиднее и приведу, вот тогда и почешешься. Почему ты ничего не ешь?
Хатунцев-младший лениво придвинул к себе масло, хлеб, тонко, артистически нарезанный сыр, взглянул на отца и засмеялся.
– Может, еще партию в шахматы, сосед? – предложил не ожидавший такого оборота Анисимов, стараясь разрядить атмосферу, но полковник отказался.
– Что ты все молчишь, Игорь? – внезапно рассердился он. – Что, я спрашиваю, ты все молчишь? Ты себя хорошо чувствуешь?
– Думаю, отец, – спокойно поднял смеющиеся глаза Хатунцев-младший. – Родион Густавович тут мне обвинение одно бросил, в нынешнее время герои, мол, перевелись… А я просто не разделяю ваших восторгов, Родион Густавович, все равно что стричь кошку – шерсти мало, а шуму много. Риску много, а удовольствие сомнительно.
– О чем вы, наконец? – заволновался полковник. – Что-то говорите, говорите, ничего не пойму!
– Да подожди, отец! Нельзя, что ли, взрослым мужчинам поговорить откровенно?
– Спасибо, уважил! Я, что ли, по-твоему, не мужчина?
– Полно, Степан Владимирович, мы тут до вашего прихода толковали о запретном плоде. Допустим, такой случай, женщина нравится, но замужем…
– О чем тут толковать, – нахмурился полковник, – тут все ясно. Раз замужем – точка.
– Вот-вот, у отца, как на блицпараде, во всем полная ясность. По треугольнику: присяга – приказ – исполнение.
– А ты что, шалопай эдакий, проповедуешь? Разврат?
– Подождите, подождите, а если ожог, солнечный удар, любовь? – Говоря, Анисимов краем глаза опять уловил на себе внимательный, изучающий взгляд Хатунцева-младшего. – Если красота немыслимая? Нет, ты, Игорь, скажи нам, старикам…
– Не надо, Родион Густавович, не преувеличивайте. Обыкновенная женщина, ну, эффектная… Не будь она женой Брюханова, вы бы на нее не посмотрели. Есть ведь лучше…
– Подождите, подождите, Степан Владимирович, – остановил Анисимов полковника, который, услышав фамилию Брюханова, хотел было решительно вмешаться в разговор. – Простите, Степан Владимирович, вы сейчас все поймете…
– Любопытно, любопытно, что же?
– Говоришь, обычная? В том-то и дело, что не обычная, Игорь. – Глаза Анисимова остро и напряженно блеснули. – Ты знаешь, что она в войну партизанила? Зеленой девчонкой… Но не в этом дело. Одного парня она любила, разведчика… Фантастической смелости был человек. Так любила, что сама и застрелила его…
– Простите, то есть как это застрелила? – от неожиданности сухо и официально осведомился полковник.
– Из пистолета. Выполнял этот товарищ какое-то задание, сильно его покалечило… Жить ему оставалось недолго, час, два, три… может быть, сутки… а мучился он ужасно… нечеловечески, вот она и принесла пистолет. – Анисимов хотел добавить «подложила», но оборвал себя, махнув рукой. – Вот это, скажу я вам, чувство, вот это любовь! Не то что ваш хваленый гуманизм! Ну, что ты теперь скажешь?
– Ничего, Родион Густавович, что же мне сказать? – Хатунцев-младший встал из-за стола. – Не в моих правилах делать выводы из того, что мне, да и вряд ли кому другому, достаточно известно.
– То-то! – бросил ему Анисимов вслед, несколько раздосадованный вполне определенным обидным намеком. – А я, кстати, и не пытался учить, тем более тебя, я просто хотел сказать, что в жизни всякое встречается. И чудеса случаются, и такое, что объяснить нельзя.
Хатунцев-младший вежливо выслушал, но отвечать не захотел, и разговор за столом сам собою перешел на другие предметы; полковник попросил рассказать, что нового в Москве, вспомнил Красную площадь в День Победы; вскоре Анисимов откланялся, и полковник, проводив его до двери, щелкнул замком. Ушел к себе, пожелав отцу спокойной ночи, и Хатунцев-младший, ловко увильнув от намерений отца кое-что прояснить в их жизни, что грозило бы затянуться за полночь; для этого ему стоило лишь упомянуть о завтрашнем дежурстве и зевнуть, и полковник тотчас сдался.
Пришла теплая летняя ночь; очередной день, как и все предыдущие, прозвучал и канул незаметной каплей в неясных шорохах; над Холмском появилась луна, никого и ничего не выделяя, тотчас проникла, как это было всегда, во все доступные места, высветлила улицы, дворы, поля, душную темноту оврагов, хлынула в окна, все связывая и все разделяя. Полковник по своей военной привычке заснул сразу же; Хатунцев-младший, услышав его редкий храп из-за двери, встал и притворил ее плотнее, почему-то раньше это ему не мешало. Он уже совсем было засыпал, но теперь разгулялся. В густом лунном пятне на полу шевелилась какая-то неясная тень.
«Зря пропал вечер, – неожиданно с обидой подумал он. – Какой-то совершенно глупый и пустой разговор, надо что-то придумать, поменьше бывать по вечерам дома. Для стариков это естественно – ворошить останки, мне-то с какой стати тратить время на ненужную благотворительность. Досадно… А лучше всего прямо сказать старику, что меня приглашают в хорошую клинику в Ленинград, все равно ведь сказать придется… и разъехаться придется. Ничего в этом трагического нет, не упускать же из-за пустых сантиментов удачу. Большой город, наука… явится в конце концов и квартира, и отец, если захочет, сможет приехать. Не до седой же бороды откладывать, без того сколько времени упущено!»








