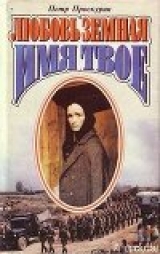
Текст книги "Имя твое"
Автор книги: Пётр Проскурин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 64 страниц)
Время шло быстро, не успела Тимофеевна поахать и навосторгаться крепкой, горластой девочкой (вначале Аленка ревниво не подпускала Тимофеевну к дочери, не давая баловать, справедливо считая, что ребенок должен прежде всего узнать руки матери), промелькнуло несколько месяцев. Ребенок рос здоровым; Ксеня хорошо набирала в весе, ела и гуляла по часам, в остальное время спала или рассматривала свои кулачки с видом величайшей сосредоточенности и серьезности; и Тимофеевна наконец смирилась со своей второстепенной ролью при ребенке, сохранив за собой всю полноту власти в доме.
Не успел и сам Брюханов привыкнуть к своему разросшемуся семейству с центром, сосредоточенным в маленьком требовательном существе, которому не было никакого дела до забот и суеты взрослых, как это самое крошечное существо с мрачноватыми отцовскими глазами потихоньку стало сидеть, обложенное подушками; затем как-то, схватившись за спинку кроватки, Ксеня встала, вызвав всеобщее изумление и восторг, и все покатилось дальше привычным порядком.
В год Ксеня уже шлепала по квартире, у нее появилась любовь к темным углам, и Тимофеевна с ворчанием извлекала ее то из-под стола в комнате у Николая, то из кладовой, где хранилось всяческое старье, прочно оседавшее там неизвестно по каким законам. А как-то Тимофеевна и вовсе перепугалась, шаг за шагом обыскав всю квартиру из шести комнат с большим коридором, кабинет самого Брюханова, где на столе торчали телефоны (кстати, их Тимофеевна не любила почему-то больше всего, никогда к ним не подходила и звала их «татарчуками», а когда они начинали трезвонить, она непримиримо отворачивалась и спешила куда-нибудь в противоположную сторону: «Ишь, ишь, родимец вас разбирает, – мстительно говорила она при этом. – Ништо, не напасешься на вас времени, потерпите!»), но так и не натолкнувшись нигде на Ксеню, Тимофеевна от неожиданности даже прикусила палец. Это было невероятно, девка исчезла, как и не было ее; отдышавшись и сама себя подбадривая, Тимофеевна осмотрела все окна, наружные двери, они, как и положено, были закрыты. Вот тогда Тимофеевна и вспомнила о телефонах; уходя на работу, Аленка всякий раз наказывала ей звонить, если что случится, и оставляла крупно написанный на листе помер телефона, куда нужно было звонить. Охая, хватаясь за сердце, Тимофеевна трижды перекрестилась сама, обмахнула на всякий случай крестом и телефоны, окончательно сделав обреченное лицо, она сняла трубку, выпростав ухо из-под платка и осторожно послушала. «Господи помилуй, – сказала она потерянно, не решаясь на большее и роняя трубку на место, – как же так?»
Она опять пошла из комнаты в комнату с тщательным обыском, не пропуская ни одной щели, и через полчаса обессиленно опустилась на кухне на табурет, посидела несколько минут, тяжело поднялась и, шлепнувшись на колени, заглянула под посудный шкаф, почему-то привлекший в последнюю минуту ее внимание, хотя в щели под ним в ладонь величиной не могла бы поместиться и кошка. Девка исчезла, как и не бывало ее вовсе. «Ну вот, – подумала Тимофеевна теперь уже без всякого внутреннего протеста, как о деле само собой разумеющемся. – Вот на старости лет и заработала себе тюрьму. Кто же поверит? Сквозь земь, что ли, она провалилась… Надо хуть узелок какой собрать, как заарестуют да поведут, сухариков каких, исподнего смену взять…»
С трудом поднявшись, она зашлепала в кабинет, где уже несколько минут надрывался один из телефонов. «Ништо тебе, татарчук окаянный, потерпишь, не до тебя», – думала она, бессмысленно блуждая глазами по углам. Большой кожаный мягкий чемодан в углу, не убранный на антресоли после недавней поездки Брюханова в Москву, в это время на виду шевельнулся, приподнял угол и по-живому резко выгнулся. Тимофеевна открыла рот, попятилась, но тут же с криком ринулась к нему, откинула крышку и потрясенно опустилась на колени. Перед ней, спокойно подвернув ножонки, спала Ксеня, каким-то образом оказавшаяся в чемодане, и Тимофеевне только и оставалась, что расплакаться. Ксеня по-прежнему безмятежно спала; Тимофеевна бережно и ловко взяла ребенка на руки, перенесла в кроватку; телефоны продолжали названивать, и Тимофеевна, не скрывая злорадства, вооружилась сухой тряпкой и принялась тщательно вытирать повсюду невидимую пыль, не пропуская ни одной безделушки и лишь не прикасаясь к телефонам.
Вечером собрались за большим обеденным столом, а Тимофеевна, раскладывая жаркое, рассказала о Ксене; подхватив смеющуюся девочку на руки, Аленка тормошила ее и целовала; она почти не видела дочь, сдавала государственные экзамены и сутками пропадала то в клинике, то в институтской библиотеке. Брюханов, любуясь брыкавшейся на руках у Аленки дочерью, тоже смеялся, а когда Тимофеевна в лицах представила, как она собирала узелок в тюрьму и как нашла спящую девочку в чемодане, Николай, бывший к этому времени уже студентом второго курса радиофизического института и вечно спешивший к своим формулам и схемам, бросил вилку и, вскочив на ноги, закричал:
– Нашел! Нашел! Нашел! Именно там, там, внутри магнитного поля! – Он вскочил из-за стола, закружился, высоко подпрыгивая по комнате, и бросился вон.
Аленка с Брюхановым переглянулись, а Тимофеевна, обмахиваясь платком, откинулась на спинку стула.
– Ох, уморил, когда-нибудь родимчик с вами хватишь. Намается с ним какая-нибудь, ох, намается, сердешная! Не-ет, – протянула Тимофеевна с решимостью в широком, крупном лице. – Уйду я от вас, нету у меня никаких сил больше. Прямо ненормальные кругом… Да с вами свихнешься на старости лет, и пензия не поможет…
– Ба! – позвала Ксеня Тимофеевну, протягивая к ней руку с большой ложкой.
– Ну-ну, чего тебе, Ксеня? – спросила Тимофеевна, сразу размякая перед этой детской, ясной улыбкой. – Иди ко мне, детка, иди, милая…
Ксеня было потянулась к ней, но Аленка засмеялась, перехватила дочь, снова затормошила и уже только потом отдала Тимофеевне, и та увела ее укладывать спать; Аленка, задумавшись, сидела молча, сцепив пальцы и положив руки на край стола; она не почувствовала, что Брюханов уже давно глядит на нее, и, услышав его голос, вздрогнула.
Она вся внутренне подобралась под его внимательным, испытующим взглядом, но это была уже не та Аленка, что два-три года назад или даже месяц, внешне она ничем не выдала внутреннего напряжения.
– Что у меня особого может быть? Зубрим до изнеможения. Институт, дом, клиника, – сказала она. – Устала смертельно. У тебя как?
– Обычно, Аленка, ничего нового. – Брюханов, принимая ее тон, закурил, опять скользнул по ее лицу глазами; если ей хочется считать, что все нормально в их отношениях, пусть будет так, подумал он, хотя надо быть слепым, чтобы не видеть ее состояния, последнее время ее все почему-то раздражает, она подолгу смотрит на него, точно изучает заново и пытается понять что-то необходимое для себя. Конечно, это у нее от усталости, от недосыпания, еще Ксеня плохо спит по ночам.
– Ничего, Брюханов, – сказала она, словно подслушав его мысли, – вытяну, у нас порода такая…
– Какая же? – поинтересовался он, не скрывая того, что откровенно поддразнивает ее.
– Да ведь дерюгинская, Тихон Иванович. К земле поближе, оно покрепче.
– Ну, это когда было! – насмешливо присвистнул он, и Аленка, не отвечая, со свойственной ей порывистостью принялась убирать посуду со стола, но у обоих осталось ощущение какой-то недоговоренности.
Вырвавшаяся у Тимофеевны и пришлепавшая к отцу босиком, в одной ночной рубашке, Ксеня залопотала, затопала ножонками, оторвала Брюханова от мыслей, за ней тотчас и Тимофеевна выросла в дверях, и Ксеня, увидев ее, с визгом вскарабкалась отцу на колени и пресерьезно спряталась у него на груди; Брюханов, смеясь, прикрыл ее руками.
– Разбалуете мне девку, сладу с ней не будет, – пожаловалась Тимофеевна сердито, но глаза у нее тоже блестели от удовольствия.
9Проработав в Зежском райпотребсоюзе несколько лет после освобождения области от немцев, Анисимов стал подумывать о переезде в Холмск; слишком многое на старом, обжитом месте напоминало о прошлом, в его же расчеты не входило хоть чем-то омрачать отношения с женой, отыскавшейся на второй год после окончания войны; она по-прежнему была и оставалась ему, несмотря ни на что, единственно родным и близким человеком. Он не мог забыть той минуты, когда ему сообщили, что Елизавета Андреевна отыскалась; он как раз был на работе и почувствовал по-живому вздрогнувшую в его руках трубку телефона.
– Это правда, вы не шутите? – спросил он пропадающим шепотом и, тотчас сообразив, что его не услышали на другом конце провода, не могли услышать, торопливо крикнул: – Алло! Алло!! Где она? Где, ради бога?
Он не мог передать, что с ним сделалось при первом взгляде на худое, как-то истончившееся и в то же время показавшееся ему прекрасным лицо жены. Сердце куда-то все падало, проваливалось; только теперь в полную меру он почувствовал, как она необходима ему и как невыносимо было бы потерять ее совсем, тем более что он знал, что если бы она погибла, то в этом был бы виноват только он один. На какой-то миг ему показалось, что это мираж; что все уже – в который раз! – ему снится и она сейчас тихо и прощающе улыбнется, как умеет улыбаться только она, и исчезнет, растворится навсегда. Но она не исчезла, испытующе, с тревожным ожиданием глядела на него, и он понял, что происходящее, и радость посторонних людей, и она сама – все это самая настоящая реальность. Да, он молил, и случилось чудо, и только тут он заметил рядом с нею худенькую девочку лет семи и очень удивился.
– Это Шура, – сказала Елизавета Андреевна, ласковым, осторожным движением прижимая голову девочки к себе, – Шурочка… Мы теперь с ней вместе…
Анисимов поспешно кивнул; он сейчас на все был согласен и всему был рад, лишь бы Елизавета Андреевна, действительно дорогой ценой заплатившая за его предательство и вынужденное бегство, прошедшая через тюрьмы и концлагеря и к концу войны оказавшаяся в Австрии, где ее и освободили союзники в числе других заключенных, снова не исчезла, хотя первые дни и часы после возвращения были самыми тяжелыми. Анисимов старался никогда не вспоминать о них; в ответ на все его оправдания и покаянные речи о том, что ему нельзя было не уйти в ту мартовскую ночь сорок третьего, Елизавета Андреевна коротко и односложно кивала «Да, да…», а сама неотступно думала о чем-то своем, она по-прежнему не верила и не прощала, какая-то тихая решимость появилась в ней, но чувство радости с его стороны было искренним и глубоким и перекрывало все остальное.
– О чем ты все время думаешь? – спросил он однажды, измученный ее неверием и своими бесполезными попытками доказать ей, что не имел тогда никакого другого выбора.
– Мне так хотелось назад, домой, увидеть свое небо, свои русские лица… услышать русскую речь… Как меня уговаривал Анри… боже мой… И потом Шурочка… собственно, ради нее все… Сама я хотела только умереть. Но я не могла, не имела права лишать ее родины. Я бы не простила себе…
– Какой еще Анри? – уже совсем потерянно спросил Анисимов.
– Мосье Анри Брусак, – так же нехотя и безразлично отозвалась она и замолчала, всем своим видом показывая, что больше говорить не хочет и не будет.
Он дипломатично уклонился тогда от дальнейших расспросов; не сразу и не вдруг, но между ними установились какие-то более или менее ровные отношения, их нельзя было назвать близкими, тем более что Анисимов все время ощущал непроницаемую стену между собой и Елизаветой Андреевной, и этой стеной, несомненно, был тот загадочный Анри Брусак, о котором она не хотела говорить. Анисимов решил насильственно не сокращать неблизкий путь их друг к другу, а предоставил времени сглаживать острые углы, и действительно, насущные заботы, необходимость устраиваться на новом месте, обживать квартиру (время было трудным для всех) отодвинули эту тревогу, а затем и вовсе заслонили.
С ясностью недюжинного стратега в первые же часы освобождения Холмска от немцев Анисимов определил главное; ему необходимо было вернуться в Зежск, и он не ошибся в этом; в ближайших его планах ему могли помешать только два человека – жена и Федор Макашин, – но у Макашина не было ни одного малейшего сколько-нибудь убедительного доказательства, и потом, в страхе собственного немедленного разоблачения он никогда бы не посмел ничего враждебного в отношении его, Анисимова, предпринять, а в жену Анисимов верил, надеялся на ее привязанность и врожденную порядочность… и потом, на самый крайний случай были другие меры – кардинальные и беспомощные. Во время проверки ему удалось доказать свою причастность к подпольной борьбе против немцев, сам Брюханов подтвердил это; решительное возвращение в Зежск закрепило окончательный успех. Если кто и пошептался по углам, то это уже ничего не значило; Вальцев, тоже вернувшийся к своему делу, знал, что Анисимов спас Брюханова (в чем теперь и Елизавета Андреевна не сомневалась) от верной гибели в критический момент, так что для Анисимова наступило относительно спокойное и даже доброе время. Но в самом Анисимове по-прежнему, то затухая, то разгораясь, как непогасший уголь под слоем пепла, жило смутное недовольство своим положением, никчемностью выполняемой работы, ему приходилось все время поддерживать видимость непрерывного, вдохновенного горения по поводу нескольких сотен метров сатина или ситца, двух-трех бочек керосина для какого-нибудь дальнего, заплеванного поселка в десять – пятнадцать дворов, где, однако, как и во всей стране, деятельно и с энергией продолжала строиться новая жизнь. Анисимов знал, что дело не в ситце и не в керосине и теперь даже не в Советской власти, а в тех катастрофических смещениях, случившихся в нем самом; все старые устои в нем окончательно рухнули, а новых не было, новым после глобальной катастрофы просто и неоткуда было появиться. Он втайне гордился, что не поддался первому желудочному позыву и не кинулся, как некоторые другие, очертя голову в зовущие объятия немцев, а раскусил вовремя их концепцию. Все их лозунги о свободной России были низкопробной демагогией для дураков, припорошенной сладкой пудрой, и Анисимов сейчас даже с каким-то нездоровым удовольствием почитывал в газетах о судебных процессах, о всяких там изменниках и предателях народа, с видимым интересом смакуя подробности и сообщая их Елизавете Андреевне. И все-таки его угнетала заполнявшая душу пустота, уж лучше бы тюрьма, каторжные работы, все, что угодно, только не эта угнетающая, бездеятельная пустота, оторванность от главных, стремительных водоворотов жизни, ежедневно сотрясавших все кругом, от новых займов, коммунистических субботников, движений многостаночников, как бы фантастически нелепы они ни были; и в этом мире при уме и ловкости можно занять достойное положение, в конце концов в жизни важны власть и хлеб. Это главное.
После возвращения Елизаветы Андреевны Анисимов и в самом деле в чем-то главном переменился, как-то внутренне поздоровел, словно у него появилось второе дыхание. И работать стало легче и веселей; и в райисполкоме, в райкоме его стали все чаще похваливать, и это не было ему неприятно, особенно дорожил он молчаливым одобрением Елизаветы Андреевны. Даже лук и картошка, разные там соленые грибы или огурцы, которыми он снабжал районные и заводские столовые (ему не раз и не два приходилось выручать Зежский моторный, хотя всякий раз он тянул, дожидаясь непременного звонка от Чубарева или от секретаря райкома Вальцева), сделались ему не так ненавистны. Как-то само собой получилось, что к нему чаще стали обращаться с просьбами, вроде бы совсем до него не касающимися, и если была к тому малейшая законная возможность, он никому не отказывал. И теперь уже редко какой из председателей колхозов и директоров МТС не побывал у него по части гвоздей или кирпича, досок, запчастей к автомашинам, и как-то тоже само собой получилось, что по решению Холмского облисполкома именно его отправили в Молотовскую область, снабжавшую Холмщину, еще наполовину пребывающую в землянках и подвалах, строевым лесом; необходимо было хотя бы немного ускорить его поставки. И Анисимов, пробыв в командировке почти полгода, даже в этом, казалось бы, обреченном на неудачу деле, зависящем не столько от леспромхозов, сколько от железнодорожников, сумел показать себя с самой выгодной стороны. Неделями, не зная отдыха, он мотался из конца в конец по железнодорожным станциям, в Москву и обратно, из Москвы, в железнодорожные тупики на севере области, где грузили лес. Он доказывал, убеждал, просил, уговаривал, давал какие-то обещания и за это время знакомился с самым невероятным количеством людей – от начальников станций, железнодорожных диспетчеров до составителей поездов, от директоров леспромхозов до бригадиров грузчиков. Ему нужно было выиграть эту битву, и он ее выиграл – весь положенный для Холмской области лес, до последнего бревна, был им выколочен и отправлен; когда мимо него стремительно пролетали платформы с пахучими красноватыми стволами сосны или кедра, казалось, каждый кругляш был ему знаком и дорог. Он даже стал напевать про себя сочиненное им на мотив залихватской песенки нелепое двустишие, самому ему оно, однако, очень нравилось:
Признай же, юноша надменный,
Что дуб я важный и почтенный!
Правда, иногда непрошеная мысль о Захаре Дерюгине, работавшем где-то здесь неподалеку в леспромхозе и, следовательно, имевшем к платформам с лесом самое прямое отношение, заставляла его неприятно морщиться; иногда щекотало и бесовское желание наведаться в этот леспромхоз, увидеть Дерюгина, но он тут же безжалостно давил его.
Нельзя было рисковать благоприятным ветерком, час от часу усиливающимся. Он приятно щекотал тонкие, породистые ноздри, хотя и не сулил теперь широких политических перспектив. Анисимов лишь усмехался, он теперь знал, вернее, был уверен, что знает подлинную цену жизни и в чем она для него заключается. Ради этого летели на запад день и ночь тяжеловесные составы с уральским ядреным лесом, разрезая пространства и снежные заносы. Анисимов любил и еще хотел жить.
После успешной командировки в Молотовскую область переезд в Холмск был для него, как он и надеялся, уже делом решенным. Заполнив соответствующие анкеты, он оказался в роли заместителя заведующего управления торговли Холмского облисполкома, притом с ясной и четкой перспективой продвижения дальше. Освоиться с кругом обязанностей и несколько осмотреться с его опытом усилий почти не потребовало; уже через неделю он знал, кто из подчиненных останется с ним работать, кого он со временем передвинет на необходимые места, а с кем и совсем расстанется; постепенно приучая к себе новое окружение, он стал разворачивать деятельность, и она принимала иногда самые неожиданные формы, вызывая даже недоумение и толки. В конечном же счете все предполагаемое и задуманное Анисимовым оказывалось необходимым и как бы само собой разумеющимся. Последней такой неожиданностью было приобретение буровых установок для артезианских скважин, дело в то время совершенно новое, но сразу плодотворно о себе заявившее и получившее, особенно в южных районах области, широкую популярность. Анисимова поздравляли и сослуживцы, и начальство, правда, с известной долей сдержанности. Анисимов понимающе усмехался про себя, он уже вошел во вкус, предусмотрительно до поры до времени оставаясь в тени; что вы, что вы, говорил он, ну, простите, при чем здесь я? Дело, ясно, хорошее, но поддается лишь коллективному усилию, а я всего лишь винтик, ну, в Свердловск, на завод съездил, проторчал там пару недель, так это моя прямая обязанность, за это зарплату получаю.
Пожалуй, никто не удивлялся бурной деятельности Анисимова, кроме Елизаветы Андреевны, да и она, кстати, открыла его дарования только в последние месяцы после переезда в Холмск; Анисимову пришлось затратить немало нервов и терпения, чтобы уговорить ее решиться на это. Но и в Холмске они не сблизились, хотя что-то в их отношениях незаметно, исподволь назревало, менялось, и только одно пугало Анисимова: слепая, почти неистовая привязанность жены к чужому ребенку, к Шурочке. В своих отношениях с женой он еще видел какой-то смысл и движение, а вот перед девочкой становился в тупик, хотя давно уже приучил себя быть с нею веселым, сдержанным, интересным. Опыт или скорее инстинкт подсказывал ему, что и здесь в свой срок должны начаться перемены, и он продолжал осаду планомерно и непрерывно. «Точь-в-точь второй фронт», – шутил он про себя, вполне осознавая, что для завоевания жены этот так называемый второй фронт, может быть, более важен, чем первый. И, однако, несмотря на эти видимые и невидимые успехи, полной гармонии и даже относительной ясности не наступало, и чем больше о нем говорили, тем сильнее разрасталось в его душе внутреннее ожесточение, безразличие ко всему на свете, он становился противен сам себе, – так было и после успеха с артезианскими буровыми установками, – и тем упорнее старался он нащупать причину непонятного своего состояния, и вот однажды, настойчиво разматывая все с начала и до конца, стоически возвращаясь в особо запутанных местах к одному и тому же снова и снова, Анисимов недоуменно прищурился. На чистом, совершенно пустом секундой раньше подоконнике лежал ярко-зеленый разлапистый кленовый лист. Анисимов быстро подошел к окну, взял его и понюхал, выглянул на улицу. Все было совершенно так же, как и вчера, и день назад и неделю, те же бесконечные, безликие пешеходы на тротуарах, тот же стандартный, в шинели и фуражке, Сталин на высоком постаменте на площади; из окна кабинета Анисимова он был виден в профиль. «Гм, – сказал себе Анисимов, отвлекаясь от монумента Сталина и внимательно рассматривая кленовый лист. – Любопытно…»
Что он имел в виду, мысленно произнося это значительное «любопытно», он и сам не знал, но все его плохое настроение, тяготившее его в последнюю неделю, вдруг как рукой сняло; он протянул руку, разжал пальцы, и кленовый лист наискось полетел с четвертого этажа к центру площади. Анисимов проследил за ним, вернулся к столу и стал быстро просматривать последние отчеты и сводки.
День выдался жаркий, в кабинет время от времени врывался сухой ветер; Анисимов, прихватывая бумаги рукой, косился на окно, но закрывать его не хотел. «Сейчас бы плюнуть на все, махнуть куда-нибудь подальше от города, в лесок, искупаться, – подумал он, отталкивая от себя пухлую кипу бумаг. – Что за система… Продали пару штанов – недельная сводка, изгрызли мыши ящик макарон – целое досье… боже ты мой, как обставлено… Все эти горы исписанных бумаг – манна небесная для жуликов самых разных мастей, любой въедливый ревизор не прожует».
Внезапная мысль заставила его рассмеяться: разумеется, так и есть, бумаги бумагами, а двадцати лет как не было, status quo, по-прежнему приходится работать на того же Брюханова, хотя после войны так ни разу и не пришлось с ним увидеться. И штаны, и селедка, и буровые установки, и составы с лесом – все это, разумеется, хорошо и нужно, но это всего лишь поверхностная сторона жизни, опротивевшая, пресная, неинтересная, и он по-прежнему ищет приложения главенствующей своей, подспудной идее. Ищет и не находит. Вот что, решил он, нужно встретиться с Брюхановым. Основное приложение его силам всегда, как ни странно, определялось именно в соприкосновении с Брюхановым; быть может, и сейчас достаточно мелькнуть рядом, и родится живительная искра, без которой жизнь холодна, пуста и бесцельна. Хватит, хватит, пора отвлечься, осточертело возиться с опостылевшими сводками, ведь он и раньше с омерзением выводил цифры, означающие новые центнеры хамсы или количество пар штанов и ватных телогреек; ведь не однажды он ловил себя на желании опрокинуть собственный стол, выскочить в приемную, откуда все время слышались приглушенные голоса, разогнать посетителей, наброситься на тихую, безответную, всегда отвратительно мелко, по-овечьи завитую секретаршу. Он стиснул виски: «Пятьсот пар мужских кальсон», – выхватил его взгляд из какой-то пространной списочной бумаги; он сам видел на складах эти мужичьи кальсоны из хлопкобумажного грубого материала, именуемого в просторечье бязью.
Анисимов долго пил теплую воду прямо из захватанного графина, затем, укрепившись в своем решении, потянул к себе толстый, пухлый от старости телефонный справочник, взял трубку телефона и тут же опустил ее обратно.
Спустя полчаса он все-таки позвонил и, услышав в трубке тихий, медлительный голос, сказал:
– Анисимов говорит, из облисполкома… Да, да, Анисимов Родион Густавович. Мне нужен Тихон Иванович… Да, вот как… да, да, значит, уехал на строительные объекты? На набережную Оры? Это там, где новый драмтеатр заложили? Ну, простите за беспокойство, всего доброго, значит, я к вечеру и позвоню.
Положив трубку, он обнаружил, что вроде бы без всякой на то причины начинает покалывать в висках; он тут же встал, прошел в угол, к столику с графином, снова выпил теплой воды. Голова по прежнему болела, и тогда он, заперев сейф и сказав секретарше, что наведается в поликлинику, торопливо сбежал по лестнице. На улице горячий ветер жарко ударил ему в лицо, мимо неслись обрывки театральных афиш, сорванные с круглых тумб, и прочий мусор, его при сильном ветре почему то всегда много появлялось на улицах любого города. Анисимов плотнее надвинул белую полотняную фуражку, ускорил шаг; собиралась гроза, он услышал легкое погромыхивание, старые, редко уцелевшие от войны деревья вдоль тротуаров гудели, грачи тревожно кричали, густо и беспорядочно мельтешили над своими гнездами, частой россыпью темневшими в зеленой листве. После долгих лет жизни в глухом российском захолустье Анисимов всякий раз остро чувствовал тугой ритм большого города, он его бодрил. Встретилась шумная стайка девушек, быстроглазых, коротко остриженных. Анисимов приветливо улыбнулся им. Прополз навстречу латаный-перелатаный трамвайчик; провожая его взглядом, Анисимов добродушно сморщился от его жалобного дребезжания и подумал, что по-хорошему все эти вагоны надо бы давно списать и заменить новыми, хотя, впрочем, не его это была забота, пусть у председателя горисполкома Сидоренко голова по этому поводу болит – трамвайный парк в городе давно износился; правда, взять неоткуда, повсеместно в стране такая картина, сколько раз ставили транспортный вопрос на исполкоме. Дворник, широко размахивая метлой, подбирался уже к самым его ногам, и Анисимов, сердито покосившись, отряхнул свои белые парусиновые полуботинки и энергично зашагал дальше. Щедро, до краев залитая солнцем улица помрачнела; лохматый, клубящийся край лиловой тучи стремительно наползал на солнце. Анисимов едва успел заскочить под какой-то навес, и тотчас под глухое ворчание грома безудержно хлынул дружный, светлый летний дождь, несколько прохладных капель попало на лицо Анисимова; он с наслаждением вдыхал всей грудью свежий ветер; дождь прошел только краем, и туча уже откатывалась в сторону, все шире очищая синеву за собой. Солнце с новой щедростью обрушилось на омытый, встряхнувшийся город, влажные зеленые листья блестели; Анисимов, освеженный грозой, зашагал дальше и скоро вышел на широкую, заваленную лесом, грудами кирпича, кучами песка и щебенки набережную Оры. Она вся была как одна огромная строительная площадка, у берегов теснилось десятка полтора плоскодонных барж, с них сгружали кирпич и доски, и одинокий, видавший виды кран устало помахивал слабосильной стрелою, стаскивал на берег какие-то громоздкие ящики. По обе стороны от Анисимова тянулись котлованы, строительные леса, некоторые уже доходили до четвертого этажа; везде были люди, и Анисимов, цепко оглядывая стройку квадрат за квадратом, еще издали увидел окруженное со всех сторон строительными лесами, внушительно распластавшееся в глубине от набережной здание драмтеатра. Легонько кольнуло в груди, вот он – простор, свобода, размашисто перечеркнутое стрелами двух кранов небо. В лужах, беспорядочно оставленных грозой, весело дробилось солнце, из кабины пятившегося грузовика выглядывал шофер в заношенной гимнастерке и, делая вид, что намерен наехать на двух махавших на него лопатами женщин, весело скалился. Где-то среди всего этого великолепия был Брюханов, сосредоточивающий в себе загадочное нечто, совершенно необходимое для всей дальнейшей жизни; последние сомнения отпали. И все же, увидев наконец Брюханова, с недовольным лицом слушавшего высокого и плотного седого человека, начальника строительных работ на этом объекте – Потапенко, он замедлил шаг, а затем и совсем остановился. Брюханов заметил его сразу, искоса глянул и, не скрывая недовольства, спросил:
– Вы ко мне? Постой… постой… Никак ты, Родион Густавович, – быстро шагнул он к улыбающемуся Анисимову. – Вот неожиданная встреча… Рад видеть… Здравствуй, здравствуй.
– Здравствуйте, Тихон Иванович. Простите, шел мимо, не смог удержаться, захотелось просто пожать руку, – все так же мягко улыбался Анисимов.
– А зачем же удерживаться? – Брюханов оглянулся на терпеливо ожидающих людей. – Погоди немного, Родион, сейчас освобожусь, минут пять-десять…
– Разумеется, разумеется… я подожду. – Анисимов отошел на почтительное расстояние, достал папиросы и закурил, искоса наблюдая за происходящим издали; а Брюханов, сразу же забыв о нем, опять подступил к Потапенко, все порывавшемуся что-то сказать в свое оправдание.
– Перестаньте, перестаньте втирать мне очки, – непривычно резко остановил его Брюханов. – Мне ведь ничего не стоит проверить… Вы опытный строитель, для вас это не могло быть простой случайностью. Невооруженным глазом сразу видно!
– Тихон Иванович…
– Ну а если бы главный архитектор еще полгода отсутствовал, что бы вы тут наворотили?
– Да, Тихон Иванович, ну, поверьте, ну, не так страшно, как вам представляется. Ведь несколько метров всего… Это же чистый разор – отодвигать на проектную линию… С меня четырежды шкуру сдерут!
– Совершенно правильно сдерут, – одобрил Брюханов. – Удивляюсь я вам, Потапенко. Есть утвержденный генеральный план застройки, и никто не позволит уродовать город из-за собственного нашего головотяпства. Мы в ответе за город перед следующими поколениями.
– Прошу вас, выслушайте меня, Тихон Иванович…
– Обязательно. Но не здесь. И не сейчас. Будьте добры завтра к двенадцати ко мне со всеми выкладками и аргументами. – Брюханов повысил голос, тем самым показывая, что вопрос больше никакому обсуждению не подлежит. – Советую не ждать, пока дело обретет официальный оборот. Приступайте к необходимым исправлениям незамедлительно.








