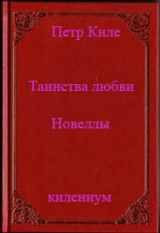
Текст книги "Таинства любви (новеллы и беседы о любви)"
Автор книги: Петр Киле
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
Он вроде ничего не видел, ни на что не обращал внимания, но уносил с собой образ девушки, движение ее рук, потаенную живость ее светло-карих глаз, зеркальные окна, лепные узоры на потолке, мрамор камина, атлас или шелк дивана, гравюру на стене с изображением старинного дома с четырьмя пилястрами... И открывались перед его взором, затуманенным мечтой и грезой, целые миры, во что он вглядывался с таким самозабвением, что на лекциях уже ничего не слышал, все пропускал мимо ушей.
Влюбился ли он в Веронику? Нет. Она держалась с ним отчужденно, свысока, как и он, между прочим. И это в их положении было лучше всего. Сугубо деловое сотрудничество, и ничего больше.
Но было что-то бесконечно привлекательное в мире, в котором жила Вероника. Мир, которого он был лишен из-за войны и смерти родителей? Или это житейски не существующий, но исторически реальный мир культуры, наивысшим воплощением которого выступал сам город? Этот мир привлекал Владимира и звал повсюду, где бы он ни соприкасался с ним, – в Русском музее, у решетки Летнего сада, на Мойке у дома, в котором жил Пушкин, – и душа его отзывалась с трепетом, словно этот прекрасный, старинный, вечный мир обещал ему высшую жизнь, счастье и совершенство.
Впрочем, все это он осознал лишь впоследствии, а тогда все же именно Вероника мерещилась ему всюду, как в освещенном окне напротив. В те дни примерно то же случилось с ним и на катке. Он любпл с детства кататься на коньках. В ЦПКиО простора деревенского, конечно, уже не было, но деревья в инее, снег, островок природы на окраине города, и яркие огни фонарей. и музыка, и множество молодого, юного люда! Каток его манил, как совершенно особый праздник, даже холод горячил кровь и воображение обещанием любви и счастья. Он несся по кругу, ловко обходя фигурки девчонок и мальчишек, в стареньком лыжном костюме, впрочем, не выделяясь из толпы, ибо в те времена все одевались в неброские вещи, и звучала песня: «Догони! Догони! Только ветер...» И тут пронеслась сквозь толпу, сквозь всеобщее кружение девушка в брюках (вообще тогда еще новость!), в короткой меховой шубке и меховой шапочке с длинными ушами...
«Вероника!» – закричал про себя Мостепанов и устремился за нею. Девушка оглянулась и умчалась вперед. Он усомнился: она или не она? Если даже это и Вероника, он не станет гоняться за нею. Еще чего!
Наконец он решил, что надо что-то делать, он уже нигде не находил себе места. В один из светлых морозных дней он отправился на Садовую, туда, где – и откуда он знал? – собирались те, кто сдавал и снимал угол, комнату. Никого не было, толкучки он не нашел – пришел рано или холод всех разогнал. Он потоптался на месте, оглядываясь вокруг, и уже направился к трамвайной остановке, как вдруг увидел сошедшую с трамвая женщину.
– Молодой человек! – обратилась она к нему. – Не намерены ли вы снять комнату?
– Да.
– Предлагаю угол. То есть платить будете, как за угол, но у вас будет как бы отдельная комната. Согласны?
– А нельзя посмотреть?
– Конечно, конечно. Тут недалеко.
Проехав на трамвае до Невского, дальше пошли пешком. Женщина была худа и по фигурке, и на лицо, одета в поношенное демисезонное пальто, как-то неприметно чем-то принижена, может быть, своим одиночеством, ибо то, что она одинока, бросалось в глаза. Вместе с тем по всем жестам, по голосу, по интонации было ясно, что она человек воспитанный, понимающий многое с первого взгляда, добрый и отзывчивый. Она, например, не спросила, кто он. А когда он сказал о себе, лишь улыбнулась:
– Так я и предполагала.
У стенда с афишей о концерте в Большом зале филармонии она остановилась и проговорила как бы про себя: «Надо будет сходить».
– Как ни странно, – продолжала она, – мне кажется, я вас уже видела где-то...
В этот момент они свернули на Рубинштейна... Мостепанов оживился: забавно! Подошли к дому со старинной гравюры... Владимир и вовсе рассмеялся. Очевидно, эта женщина видела его здесь, у своего дома. Но остановились они на площадке третьего этажа и именно у 37-й квартиры.
– Вы живете здесь?..
– Да.
Никуда не годится. Точно во сне. Владимир Мостепанов, не говоря ни слова, перепрыгивая несколько ступенек, побежал вниз. И вдруг раздался звонкий, задорный смех. Да, у этой женщины и голос звучал молодо, смех – такой молодой, веселый, что он невольно вернулся на среднюю площадку, чтобы взглянуть на нее. Как должен выглядеть человек, который так хорошо смеется?
В самом деле, уже ничего от пришибленной горем или одиночеством вдовушки! Стояла на верхней площадке молодая розовощекая женщина, полная жизни.
– Простите! – смеялась она. – Ей-богу, не нарочно. Я только сию минуту узнала вас. Значит, Вероника, моя племянница, успела вас допечь, что вы готовы удрать без оглядки.
Владимир не знал, как быть.
– Держитесь монахиней, – проговорил он, – а смеетесь, как...
– Хорошо, хорошо, – поспешила сказать Ольга Михайловна, так звали тетю Вероники. – Если вам почему-то нельзя поселиться у нас, никто не станет настаивать. Идемте. Вы продрогли. Согреетесь и уйдете. – Между тем она открыла дверь. – Не бойтесь Вероники. В конце концов, она тут не живет.
– Как – не живет?!
– Живет у себя, у родителей, по улице Фурманова. Нас навещает по детской привычке. Мама будет рада вас видеть.
Лидия Владимировна, кутаясь в белую шаль, выглянула на лестницу со словами: «Да с кем ты там говоришь?»
Владимир поднялся и вошел в квартиру, где на этот раз ему предлагали поселиться. А что? Почему бы и нет? А Вероника пусть думает себе как хочет, даже не знается с ним. Эта большая петербургская квартира, где неслышно, неприметно живут несколько семей, привлекала его до странности, как иных горожан – память о деревне, о больших патриархальных семьях.
– Квартиранта веду. – Ольга Михайловна снова расхохоталась с милым торжеством, рассказывая матери, как нашла репетитора Вероники.
Лидия Владимировна привечала Владимира, как всегда. Сели пить чай – с маслом и дешевой ливерной колбасой. Всего понемножку, зато каждый бутерброд – как праздничное угощение и особое внимание к гостю. В магазинах все было по сравнению с первыми послевоенными годами, но излишеств в еде не допускали – как принято издавна у интеллигентов. Не тем люди жили.
– Владимир, – распорядилась Лидия Владимировна, – коли все так случилось – значит, судьба. Вам нужно уединение, тишина для занятий, – это понятно. Вы даже можете у нас столоваться. Это не будет нам в тягость, а для вас – здорово.
– Спасибо! Получается, будто берете меня в свою семью, – заволновался он.
– Почему бы и нет? Вы для нас уже не первый встречный.
Пахнуло давним, точно из детства, лаской и добротой человеческих отношений. Бывало, окликнет его какая-нибудь тетя и спросит, как мать, а то вспомнит про отца, каким он был молодцом, – и хорошо так вдруг станет, точно весною повеяло, точно тебе сказали слова любви и признания. И тетя, сама тоже растроганная, даст конфету из кулька, припасенного для ее детишек. Было холодно и голодно, были и обиды, детские, безысходные, злые, но рос он именно в той постоянной атмосфере добра и ласки, и это сливалось с тем, чем веяло от города с его красотой, от любимых книг, вообще от представления о Родине, о России...
Выйдя на Невский в тот вечер, Владимир Мостепанов прежде всего нашел театральную кассу и приобрел два билета в филармонию на концерт, куда собиралась пойти Ольга Михайловна. На следующий день после занятий он собрал чемодан, рюкзак и маленький чемоданчик, с которым ходил на лекции, в спортзал или баню, по моде тех лет. Товарищи не удивились его решению, так как успели привыкнуть к тому, что Мостепанов не умеет жить, как все студенты, все что-то выдумывает... Спонтанно самостоятельный, казалось, он жил какой-то особенной жизнью, как взрослый среди подростков, или, наоборот, как подросток среди взрослых... Теперь они просто подумали, что он не комнату снимает (зачем?), а временно переезжает к любовнице!
В те годы расстояния в городе казались куда более протяженными, чем сегодня, и люди ездили в троллейбусе, на трамвае терпеливо, как в начале века на конке. И выехать с 5-й линии Васильевского острова, где общежитие, или со Среднего проспекта, где химфак, на Невский для Владимира Мостепанова всегда было событием, равным по нынешним временам чуть ли не короткой поездке в Москву.
Мороз спал, повеяло теплыми ветрами весны... На Невском не было того многолюдья и обилия машин, как сегодня, но фонари горели, казалось, ярче, и улица, просторная, тихая, далеко освещенная, с празднично настроенными прохожими, подбегающими к зданиям театров, напоминала что-то вековечное, пушкинское, гоголевское, лучась живой жизнью.
На Рубинштейна его уже поджидали с ужином, вернее с поздним обедом. Ольга Михайловна только что пришла с работы. Владимир показал ей билеты, она рассмеялась и ничего не сказала. За обедом Лидия Владимировна расспрашивала его о родителях, о планах на будущее... Затем он сел за небольшой столик Ольги Михайловны во внутренней комнатке, разложил книги и открыл тетрадь по органической химии... Тихо было во всем доме, во всем городе... Он вздохнул, почти счастливый, но не занималось...
Вскоре его позвали принять ванну. В доме было печное отопление, в ванной топилась колонка. Когда он, помывшись, пришел к себе, кровать его была разобрана. Стало неловко: зачем это? Он сам. И все же разлегся на приготовленной для него постели с тихим, по-детски трепетным чувством благодарности...
За шкафом и занавеской он слышал голос Ольги Михайловны, тоже принявшей ванну, – застенчивый, томный... Фантазия его разыгралась, он вообразил себя женатым на ней... Почему бы и нет? А Вероника? Владимир предчувствовал, что они не поладят...
Это подтвердилось быстрее, чем он ожидал.
Вероника лишь пожала плечами, узнав от бабушки, что Ольга сдала свою комнату ее репетитору. В первую минуту ей показалось, что для нее это не важно, а для бабушки с Ольгой – лишние деньги. Но в день занятий она уже не приехала заранее, как прежде, о переодеваниях не могло быть и речи, то есть неудобства оказались очевидными. Прибежала она в последнюю минуту, замерзшая и сердитая бог знает на кого. Дверь ей открыл Мостепанов. Это тоже ей не понравилось.
Владимир улыбнулся по-домашнему, как хозяин гостье, заждавшись и невольно обрадовавшись. Он помог ей снять шубку, уже знакомую, и увидел Веронику в юбке и свитере, облегающих плотно ее стройное, молодое тело.
– Значит, это все-таки вас я видел на катке в ЦПКиО, – сказал он, вешая шубку и слегка приглаживая мех.
– Так это были вы? – проговорила Вероника с удивлением. – Зачем же вы позвали меня, и таким тоном, как будто я назначила вам свидание?
– Неужели? Помнится, я прокричал ваше имя про себя. – Владимир был в этом абсолютно уверен.
– Как же я услышала? Почему же все на меня оглянулись? Я, конечно, не испугалась, но все вышло так неожиданно. К тому же я была не одна. – Тут Вероника вдруг покраснела и приняла серьезный вид. – Приступим.
Пока они занимались – уже без прежнего старания, – пришла с прогулки Лидия Владимировна и захлопотала с чаем.
– Послушайте, – сказала вдруг Вероника, – ведь вам физика не интересна; ах да, вы химик. – И добавила: – Ну да все равно.
Владимир понял, что в его услугах не нуждаются. Вероника положила на стол деньги. Он машинально взял их и пошел к себе.
– Вероника! – с упреком проговорила Лидия Владимировна.
– Сударь! – девушка чуть ли не вбежала к нему, откидывая край занавеса. – Вы меня не поняли. Я не отказываюсь брать у вас уроки. Ученице привередничать во всех случаях неприлично. Простите!
– Репетитору привередничать – тем более, – отвечал Мостепанов. – Только нужны ли вам эти уроки?
– Как! – Вероника, против обыкновения, улыбалась или даже, скорее, смеялась. – Зато вам нужны!
Это Лидия Владимировна надоумила ее. Добрая душа! А Вероника все стояла перед ним и смотрела с любопытством.
– Не беспокойтесь за меня, – отвечал он скорее Лидии Владимировне, чем Веронике. – Я всегда найду способ заработать деньги. У меня есть еще два урока. А за вашими занятиями я готов последить, если вы не возражаете. По всем предметам. Согласны?
– Не представляю, каким образом...
Смутное чувство беспокойства и разлада охватило его. В те дни, можно сказать, в те годы на него постоянно накатывало это острое чувство неудовлетворенности, недовольства собой, ходом своей жизни. Он лег спать с сожалением, что ничего не успел сделать за день и вообще за свои двадцать один год, когда жизнь казалась уже на исходе (ведь старость не в счет), да и умереть, думалось, лучше молодым, не лучше, а необходимо, потому что великие люди, как правило, умирали рано.
Обычная ошибка молодости! В нетерпении своем она вернее всего теряет себя и с тем свою будущность.
«Тоска, тоска. Ах, какая тоска!» – твердил он, собираясь на занятия. Никуда не хотелось идти. Не влюбился же он в Веронику? Было в ней нечто такое – сила красоты без задушевности и такта, что ли?
У Ольги Михайловны тоже были свои недостатки, но здесь понятно: человек одинок, работает бухгалтером, любит до самозабвения музыку. Тут не роза с шипами, а кактус, который редко, но может вдруг выпустить диковинный, чудный цветок, столь дивный, какой даже и не приснится.
Обычно вся в хлопотах, нервная, изредка разговаривая с ним, она улыбалась так тепло и нежно – всегда на миг, – что он, ложась спать, говорил про себя: «Ага! Ольга Михайловна, я что-то про вас знаю. Я знаю вашу тайну. Вам только кажется, что вы стары, некрасивы и слишком несмелы, чтобы любить и быть счастливой. Вы убедили себя, что лишения и голод ленинградской блокады навсегда истощили вас. Вам надо только полюбить без оглядки и жить с той самоотверженностью, какая вам свойственна. И вы будете счастливы! А с вами и я, может быть. Я хочу вашей любви, я хочу любить вас!»
Так он, как мальчишка, грезил, засыпая. А наутро или днем, встречая Ольгу Михайловну, всегда чем-то взволнованную, но к нему неизменно ровную и доброжелательную, Владимир начисто забывал о своих ночных грезах, то есть держался с нею не очень внимательно, что, впрочем, вполне соответствовало их отношениям – взрослой женщины и взрослого мальчика.
Утром он отправился в университет, а там – на урок, откуда поспешил на площадь Искусств. Время еще было, и он подошел к памятнику Пушкину... Повеяло чем-то родным... В эту пору зимой уже ярко горят фонари. Публика растекалась по площади, где, кроме Русского музея, расположены четыре театра. На Невском, в «Гостином дворе» и «Пассаже», все еще шла бойкая торговля, а здесь, вокруг сквера с большими деревьями и памятником Пушкину, царило тихое, праздничное оживление, словно взрослые люди, обремененные заботами, научными идеями, проблемами, снова сделались наивными детьми, взволнованными предвкушением феерии театра, будь то драма или музыкальная комедия, опера или балет, или – музыка, чистое царство звуков и грез...
У главного входа в Большой зал Владимир немного потоптался, не сразу узнав Ольгу Михайловну в ее легком демисезонном пальтишке, закутанную в светло-серую шаль, в которой она выглядела нарядной. Тонкая, выше среднего роста, в ботиках с матерчатым верхом – «прощай, молодость», она с кем-то раскланивалась.
– Ах, вы здесь! – подошел он к ней.
– Добрый вечер! – сказала она со спокойной улыбкой, довольно для нее необычной, но которая ей шла. И все вокруг невольно оглянулись на них.
Ольга Михайловна чуть смутилась и повела его в сторону – куда же? – от главного подъезда к боковому входу. Скинув шаль, пальто и ботики, она оказалась в мягком, очень нарядном платье темно-коричневого цвета, на руках золотые браслеты, на пальцах кольца с рубином и сердоликом, в ушах старинные серьги из серебра, маленькая кожаная сумочка, откуда она потом достала бинокль, тоже старинный, перламутровый, с позолотой...
Владимир не обратил особого внимания на ее украшения, так как, во-первых, Ольга Михайловна держалась просто, как всегда, и вместе с тем празднично, во-вторых, он и ожидал увидеть на ней платье старинного покроя, как на Веронике. В семье, где хранят подобные вещи, есть и фамильные драгоценности. Но Ольга Михайловна все-таки удивила его, когда, взяв под руку, входила в зал, поглядывая перед собой с тем свободным и вместе с тем интимным вниманием, что свойственно не просто молодым, а по-настоящему красивым женщинам. Красота и молодость – это всегда и невольное торжество.
– Спасибо! Спасибо! – говорила она, посматривая вокруг и время от времени раскланиваясь, очевидно, с такими же меломанами, как и она. – Вообще-то вам следовало взять билеты и Веронике, и маме... Но я рада, даже если вы пригласили меня в пику моей племяннице.
– При чем тут Вероника? Мне хотелось отблагодарить вас за ваше доброе участие, – отвечал Владимир Мостепанов, с легкой самоуверенной улыбкой поглядывая вокруг.
– Я еще ничего для вас не сделала, – возразила Ольга Михайловна. – Я не тотчас узнала вас там, на Садовой, эта ошибка мне может дорого стоить. Мне и так нелегко с Вероникой, ведь с бабушкой она делает все, что захочет, а родителям не до нее. Теперь я вовсе, она считает, встряла не в свое дело.
– Откуда у нее эта вызывающая самонадеянность? – воскликнул Мостепанов.
– Это молодость, – сказала Ольга Михайловна с грустью, слегка наклоняя голову.
– Молоды и мы! – заявил Владимир и невольно рассмеялся. Улыбка у него была хорошая, ободряющая, словно он говорил даже не о себе, а именно о ней.
– Увы! – Ольга Михайловна только вздохнула.
Большой белоколонный зал сиял громадными и, видно, очень тяжелыми люстрами, которые, чего доброго, могут упасть при мощных звуках оркестра или громе рукоплесканий. К счастью, они не падали, словно их поддерживали на весу волны музыки. Все здесь было пронизано музыкой – и колонны, и кресла, и публика, какая-то особенная, под стать Ольге Михайловне, с ее платьем и украшениями.
Места их оказались на хорах, чему Ольга Михайловна обрадовалась – и дешево, и вообще она привыкла слушать музыку сверху.
Потом Владимир никак не мог вспомнить, кто выступал и что исполнялось на этом все-таки памятном для него концерте. Кажется, Шопен. Владимир загорелся его свободой, его тонкой и изящной гениальностью, это был идеал человеческого совершенства, как Пушкин, идеал, который зовет нас к чему-то высокому. И чья душа в молодые годы не отзывалась на этот вечный призыв!
Как Ольга Михайловна ни любила музыку, она была удивлена мучительной и вдохновенной восприимчивостью своего спутника, теми душевными бурями и порывами, какие молодость вкладывает в свое восприятие искусства. Порывы благотворные, но поскольку они личного свойства, то часто обманчивые, забываемые в суете дней, в погоне за сиюминутными наслаждениями.
Они вышли на пустынный, ярко освещенный Невский. В домах гасли и зажигались окна, точно по уговору, – тут гасли, там загорались, а над городом сияла луна.
Ольга Михайловна все благодарила Володю, а он – так Шопен на него подействовал, – как никогда прежде, осознал необходимость сделать что-то совершенное, высокое, не терять больше времени, с головой уйти в науку и т.д. Он сумел какими-то словами выразить свои надежды, еще совершенно смутные и которые, как правило, остаются втуне.
– Ах, Володя! – Ольга Михайловна изо всех сил принялась трясти его руку. – Как это хорошо! Большому кораблю – большое плаванье. Мне же, увы, даже мечтать уже не приходится.
Странное дело, Ольга Михайловна, несмотря на свойственный ей скептицизм, не усомнилась ни на минуту, что Владимир Мостепанов может свершить в жизни нечто замечательное. О, это объяснялось просто! Она еще не знала, что увлечена им. Она видела и чувствовала Мостепанова совсем иначе, чем других мужчин. Во всяком случае, пока. Любой его порыв она бы поддержала. А мысль, что он может стать великим ученым, ее обрадовала не совсем бескорыстно. Вдумчивая, она живо интересовалась всем, много читала; уже в силу своего одиночества она искала какого-то выхода, прорыва в большой мир... Самая ее потребность, природная, женская, иметь мужа, ребенка, помноженная на ее восприимчивость к музыке, приобрела уже давно какой-то несбыточный характер, слишком возвышенный, можно сказать, нелепый. И вот случай сводит ее с человеком, который точно воплощает в себе образ, столь желанный ей, образ мужчины и ребенка, иными словами, образ великого мужа... Конечно, она видела, что Володя еще невежда, но задатки для высокого развития у него несомненно есть: при первом соприкосновении он безошибочно чувствует все подлинное, высокое в литературе и музыке.
Жизнь Ольги Михайловны приобрела совершенно особый для нее смысл. Приходя под вечер домой, Владимир заставал ее теперь в веселом возбуждении – в настроении праздника и вместе с тем как бы розыгрыша. Она пекла пирог или обсуждала с матерью новости с важностью и со значением. Для них было большим событием, если по радио звучала любимая ими симфония Чайковского или Шостаковича в исполнении прославленного оркестра.
– Шостаковича трудно слушать, – говорила Ольга Михайловна. – Но не слушать нельзя, как невозможно не помнить о пережитом. Мне кажется, почти вся его музыка – о войне... Сначала как предчувствие, затем – явь, страшная явь, потом – память...
– Чайковский...
Как музыку, так и литературу, в ее высших образцах, Владимир откроет для себя позже. Он слушал двух одиноких женщин с некоторым недоверием и состраданием и невольно просиживал с ними все вечера. И именно эти вечера, как свет под желтым матерчатым абажуром, освещающий круглый стол и диван карельской березы, навсегда остались в его памяти.
– Нынче будем читка, – говорила иной раз Лидия Владимировна, заранее усаживаясь в кресле с вязаньем.
Ольга Михайловна, стоя у бюро в характерной для нее позе тонкой, угловатой женщины с порывистыми движениями, принималась читать Бунина или Зощенко, Гоголя или Чехова.
Прошли три-четыре недели, а Владимиру уже казалось, что дом со старинной гравюры и его обитателей он знает целую жизнь. Лишь Вероника, нет-нет забегая к бабушке, смущала его. Сдержанная с ним, бабушку она заговаривала всевозможными пустяками, а с Ольгой Михайловной препиралась запальчиво и вызывающе. Предметом раздора был, кажется, друг Вероники, некий Мельс, вполне определенное представление о котором Владимир получил позже. Вероника переодевалась в старинные вещи отчасти ради него. Она любила часы, проведенные в гостиной у бабушки, в сказочно нарядном платье еще потому, что под вечер заходил за нею Миша. Она выбегала открывать ему дверь, и Миша весь вспыхивал от ее вида, сраженный, убитый и воскрешенный для любви и счастья.
Розовый от мороза, он уже горячо дышал, его бросало в жар, и мягкие кисти его рук, податливые, точно неживые, оказывались влажными, что вообще-то неприятно, но сам Миша был широк в плечах, крупноголов, бородат и казался очень сильным мужчиной.
Историк по образованию, он много ездил по северным деревням, при случае скупал за бесценок иконы и старопечатные книги... Собирал, в общем, для себя, ну и перепродавал... Деньги у него водились, он любил жить широко, с оглядкой на Запад.
Вероника знала его с детства. Он дружил с нею – по инерции или с умыслом – вполне целомудренно. Иной раз, правда, Вероника пугала его – держалась с ним слишком уж смело и послушно. Он не верил себе, то есть ему казалось, что Вероника с ним лишь играет до поры до времени, может быть, завороженная его опытностью, которой он не таил от нее. Характер их отношений Ольга Михайловна прекрасно понимала, потому что Миша был с нею даже более откровенен, чем с Вероникой. Разговорить его Ольге Михайловне не стоило ничего. Впрочем, она относилась к нему хорошо, гораздо лучше Вероники. Она боялась лишь одного: что Вероника любопытства ради сойдется с Мельсом, а замуж (что и рано ей) не захочет, и получится ерунда. Вот Володя Мостепанов – иное дело! Но тут Ольга Михайловна сама себе говорила: «Стой! Стой!! Она уже стирала и гладила его вещи и на его удивление и смущение отвечала, смеясь: «А что? Это входит в мои обязанности хозяйки!» Заботы о нем доставляли радость, удивительную радость нового ее бытия, как бывало, кажется, только в детстве...
На лето Ольга Михайловна снимала дачу для матери. Владимир решил лето провести в городе, но неожиданно все переменилось.
Как-то под вечер, когда он сидел у себя, откуда-то пришли вместе Ольга Михайловна и Вероника. Они о чем-то живо переговаривались, и вдруг Вероника сказала:
– Ну ясно, ясно, ведь ты влюблена в него!
– Что? В кого? – переспросила Ольга Михайловна, снижая голос.
– Отлично знаешь, о ком идет речь! – бросила с вызовом Вероника.
– Ты хочешь сказать – в Володю?
– Да, да! Ты, Ольга, влюблена в Мостепанова по уши!
Ольга Михайловна не отвечала. Владимир не выдержал и вышел в гостиную. Вероника смутилась, Ольга Михайловна в недоумении произнесла:
– Так вот... Впрочем, я не отрицаю... Но... – И тут она заметалась, не находя себе места.
– Пройдите к себе, – сказал ей Владимир, указывая на занимаемую им комнатку. – А вы, Вероника, уходите. Не надо думать и говорить за других, тем более когда вас об этом не просят.
Вероника задержала на нем испуганный взгляд и, опуская голову, без единого слова вышла. Бабушка, слышно было, проводила ее до дверей; в гостиной Лидия Владимировна появилась с грустным, озабоченным видом.
– Я пойду пройдусь, – сказал Мостепанов.
Может быть, ему следовало не уходить, а как-то успокоить женщин. Оставшись одни, они решили, как им ни жаль, предложить ему съехать...
– Как это грустно! – говорила Лидия Владимировна. – Я так привыкла к вам, Володя. Но что поделаешь!
Ольга Михайловна, прощаясь, держалась с легким смущением, чуть виновато, а в глазах ее светилась откровенная ласка и нежность.
Все лето и сентябрь он провел на целине, в Казахстане, со студенческим отрядом. Степь, зной, ветры, дожди... Работа от зари до зари, а потом и по ночам при свете прожекторов... Товарищество, братство юношей и девушек... Во всем этом есть что-то изнуряющее до крайности и вместе с тем благодатное... Он помнил и думал об Ольге Михайловне, чувствуя себя влюбленным в нее, и в этом он ощущал даже некое превосходство над сокурсницами, словно был значительно старше их.
По возвращении в Ленинград он нашел среди писем к нему записку от Ольги Михайловны. Она писала о болезни матери и о том, что мама хотела его видеть. Владимир поспешил привести себя в порядок и под вечер поехал на улицу Рубинштейна. Знакомый город, знакомая улица, а все внове, как будто он жил здесь в детстве...
Дверь ему открыли соседи, какие-то молчаливые. Ольгу Михайловну он застал одну. Она сидела за круглым столом и курила, хотя уже бросала курить по настоянию врачей.
– Садись, – сказала она. – Мама скончалась вчера. Она отмучилась и успокоилась наконец. И я, как ни странно, не убиваюсь, не плачу, а будто отдыхаю, точно боль отпустила на время... И тут ты! Похоже на сон. Иначе не скажешь. Здравствуй, дорогой...
– Меня не было в городе. Приехал только сегодня. – Он тоже сел за стол, собираясь закурить.
– Да, я знаю, – отвечала Ольга Михайловна, вздохнув. – Если уж начистоту, я искала тебя... Ты, наверное, голоден? А у меня нет ничего.
Владимир вскочил.
– Я сбегаю в магазин. Денег заработал порядочно. Ольга Михайловна, возьмите их...
– Деньги действительно нужны.
Он отдал ей все, что заработал.
– На днях получу стипендию...
– Деньги нужны, – повторила она, и он понял, что она не о том думает и не того ждет от него. Он подошел к ней, обнял за плечи, поцеловал...
– Я сейчас!
– Идем вместе, – она поднялась. – Мне пройтись, да еще с тобой, будет гораздо лучше, чем томиться здесь. Одна я не боялась, а теперь боюсь.
– Может, пойдем в столовую? – предложил Владимир, когда они выбрались на улицу.
– Да, в столовую. Мне кажется, я уже давным-давно ничего не ела и меня гложет голод, как в блокаду.
Возвращаясь назад, накупили продуктов, прихватили вина – на поминки.
– Будем чай пить, – захлопотала Ольга Михайловна, а затем, улыбнувшись смущенно, сказала: – А мне бы надо и покрепче?
– А ты не будешь плакать? – спросил Владимир довольно строго. В мелких заботах о ней он неприметно перешел на «ты». Ольга Михайловна рассмеялась и сказала, что ей, может быть, лучше будет поплакать, иначе не заснет ночью. Неожиданно она покраснела и застыдилась. Держась рукой за его плечо и пряча голову за его спиной, Ольга проговорила виноватым, по-детски зазвучавшим голосом:
– Ты можешь остаться? С тех пор как ты жил у нас, я не сплю на своей кровати. Она твоя. Иной раз спросонья я думаю, что ты спишь рядом, и улыбаюсь. Вероника, конечно, права, я действительно влюбилась в тебя по уши. Но я и не подозревала, что это так серьезно. Я очень люблю тебя, Володя! И прошу эту ночь провести со мной.
– Я и не думал оставлять тебя одну, – ответил он, сам сильно взволнованный.
Эта была удивительная ночь. Он все боялся слез, истерики... А она рассказывала шепотом, как жила все это время, даже чуть замуж не вышла, так как мужчины стали вдруг обращать на нее внимание... Но заболела тяжело мама, и она поняла, что это конец. Жизни ее тоже конец. Она любила мать и боялась одиночества пуще всего.
– Отчего ж ты не вышла замуж? – спросил он.
– Спрашивает! – отвечала Ольга. – После тебя – замуж? Это бессмыслица.
– Как – после меня?
– После того как я узнала тебя, после того как я полюбила тебя? И откуда ты взялся?!
– И что же во мне особенного?
– А ничего особенного. И все же ты не такой, как все.
– Это достоинство или недостаток?
– Для кого – как... Для Вероники – недостаток, а для меня... достоинство... или нет, и достоинство, и недостаток одновременно.
– О чем все-таки ты говоришь?
– У тебя очень хороший голос, или интонация... Твои слова, даже самые простые, звучат как-то особенно... И невольно вдумываешься, а это всегда настраивает нас, женщин, на определенный лад. Так что влюбиться в тебя очень легко, тем более если ты того хоть чуточку пожелаешь.
– Так было с тобой?
– Нет, – рассмеялась она, – со мной ты держался как с монахиней... или как сын с матерью... Но ты так отзывчив на заботу и ласку, что становишься точно влюбленный... не в кого-то, а вообще. По-моему, это свойство, присущее поэтам... А поэты немножко все не от мира сего.
– Тут начинаются мои недостатки.
– Да! – с восторгом рассмеялась она.
Он пугался самого себя, ему казалось, он совсем измучил ее.
– Как! Еще? Ах, куда ни шло – одна безумная ночь за всю жизнь, на всю жизнь.
– Ты устала, Ольга. Усни.
– Я усну. Сейчас. Ах, хорошо бы, если бы мне уснуть и не проснуться больше.








