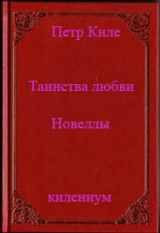
Текст книги "Таинства любви (новеллы и беседы о любви)"
Автор книги: Петр Киле
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
– Что ты? У нас будут еще безумные ночи.
– Как?!
– Скажи всем, что ты выходишь замуж.
– Это за кого же? Неужели за тебя?
Утром мать Ольги похоронили. Лидия Владимировна была верующая. Подъехав в Большеохтинскому кладбищу, внесли гроб в небольшую деревянную церковь, где кроме родных собрались и любопытные. Владимир впервые и, кажется, последний раз присутствовал на отпевании. Хотя и без особой пышности, все происходило примерно так, как описано у Пушкина в «Пиковой даме». Вероника и ее мать, полнотелая блондинка, все плакали. Ольга Михайловна не отходила от Мостепанова, она держалась за его руку, глядя перед собой невидящими глазами мучительно взволнованной невесты... Даже прощаясь с матерью, целуя ее в мертвые губы, она не проронила ни слова, ни слезинки, лишь пошатнулась и упала бы, если б Владимир не подхватил ее.
Был конец сентября, листья с берез над могилами наполовину облетели; с утра моросил дождь, а теперь вдруг и вроде бы некстати, как нет-нет да и улыбалась Ольга, взглядывая на Мостепанова, показалось солнце, осветив деревья, кресты, мокрые желтые листья на земле и лица людей, точно смущенных светом жизни здесь, среди могил.
За оградой кладбища в те времена простирались с одной стороны огороды и деревеньки, с другой – старинные кирпичные корпуса какого-то завода. Старая рабочая окраина, и кладбище, и действующая церковь – все напоминало о Руси уходящей.
После похорон собрались у родителей Вероники. Впрочем, Ольга Михайловна не стала засиживаться у родных, тем более что те догадались о ее новых отношениях с Владимиром Мостепановым, что почему-то никому не понравилось. Вероника буквально накинулась на нее.
– Послушай, Ольга, – улучив момент, поспешила спросить она, – откуда взялся Мостепанов?
– Ты же знаешь, мама хотела видеть его... Но Володя был на целине и приехал только вчера.
– Но ты с ним держишься так, будто он твой муж или любовник, – сказала Вероника не то что с осуждением, скорее с предостережением.
– Так оно и есть, – Ольга неожиданно улыбнулась с радостным смущением. – Только не надо об этом со мной говорить, хорошо?
– Почему?
– Я же не говорю... с некоторых пор с тобой о Мельсе... Люди вы уже взрослые... И мы с Володей тоже.
– Да кто тебе сказал?! – вскипела Вероника.
– Ты что, не любишь его? – удивилась Ольга Михайловна.
Вероника смешалась и отстала.
Владимир и Ольга отправились пешком по Фонтанке. До Невского там рукой подать. Река струилась и сияла на солнце. До вечера было еще далеко. Деревья Летнего сада ярко горели осенней листвой.
– Какой невыносимо трудный и хороший день! – говорила Ольга. – Это все ты, Володя! Ты не устал? Может, тебе надо к себе? Дела какие-нибудь? Девушка?
В это время они проходили мимо того здания Публички, где занимаются студенты. Две молоденькие девушки, перебежав улицу, оглянулись и окликнули его: «Во-ло-дя? Мосте-па-нов!» – нарочито нежнейшими голосами. Он лишь помахал им рукой.
– Однокурсницы?
– Нет, с младших курсов. Да я и не помню, кто такие.
– Тебя девушки обожают.
– Прежде всего они обожают себя.
– Ты умница, Володя! Эти, кажется, как раз из тех, что обожают прежде всего самих себя.
– Такова и наша Вероника.
– К сожалению... Но как хорошо ты сказал: «наша Вероника»!
– Не захваливай меня – зазнаюсь еще.
– Вряд ли. Куда больше? Ты ведь и так зазнавала.
– Это верно!
На Невском Ольга Михайловна остановилась и уговорила его расстаться: ему надо заниматься своими делами, а она устала, ей нужно отдохнуть. Он послушался, и, кажется, напрасно. Приехав на следующий день, он нашел ее в глубоком обмороке. Врачи констатировали крайнее переутомление при врожденном пороке сердца. Покой, полный покой. И витамины, витамины.
Володя проводил у нее все дни и ночи, даже на занятия не ходил. Ольга была уверена, что именно его присутствие и его заботы о ней предрешили исход болезни, что это он ее спас. В этом ее убеждении было что-то детское. Но она уверяла его всерьез, что жить ей остается недолго, что состариться она не успеет, и это – как ни грустно – для нее лучше всего. Он, конечно, и слушать ее не хотел, но она оказалась права.
Три года прожили они счастливо. У Владимира даже характер переменился, он начал писать стихи, чем раньше не увлекался... Она верила в него, стихи его знала наизусть... Оставленный в аспирантуре, он, однако, замешкался, может быть чрезмерно увлекаясь соблазнами молодой жизни – праздниками, футболом и т.п. Ольга любила принимать гостей, нередко она наряжалась в те старинные платья, что хранились в семье, уже неизвестно зачем. Однажды ночью, после того как ушли гости, ей стало плохо. Вызвали «скорую», ее увезли. Она страшно кричала. А под утро скончалась.
Владимир впал в хандру и отчаяние: пережить смерть близкого человека – и жить? Это странно. И вот он точно сам заболел, но не физически, а скорее нравственно: теперь он и в самом деле познал жизнь; в душу его проник холод.
Это настроение мне хорошо было знакомо в ту пору, хотя у меня никто не умирал. Это было время переоценки ценностей. Мы открывали новые пласты культуры. У нас вновь, после 30-х годов, стали переводить и переиздавать многие выдающиеся произведения западной литературы XX века. Джойс и Кафка, Пруст и Камю – прекрасные писатели, которые, впрочем, ничего, кроме изнанки буржуазного общества, бездны человеческой психологии, нового нам не открыли, лишь посеяли тревогу и смущение в наших душах. Я вскоре вернулся к русской классике, этой Вселенной, освещенной солнцем, а Владимир медлил, с мучительной иронией поглядывая вокруг... В эту пору не Фауст, а Мефистофель угнездился, как мелкий бес, в его сердце... К счастью, он не бросился ни в пьянство, ни в распутство, ни в приобретательство, может быть, потому, что страсти эти более всего обнажают уродства людей и бессмысленность жизни, и от всего этого он отворачивался, как у Пушкина: «Душе противны вы, как гробы...»
В то время первые подборки его стихов появились в журналах, и он уже всерьез подумывал о книжке... Писание стихов – дело особое, тем более для взрослого человека, и оно внесло новый элемент в жизнь Мостепанова. Лирика в ее высших образцах – это ведь не что иное, как квинтэссенция культуры, и настоящий поэт не может не впитывать и не осваивать культуру всех времен и народов. Владимир Мостепанов занялся – подавленный тоской, отчаянием, одиночеством – неспешным и восторженным постижением мировой классики. Тут-то и начались для него по-настоящему годы учения, как бы задним числом.
После смерти Ольги ее сестра, мать Вероники, предъявила претензии на мебель и даже на жилплощадь, хотя формально не имела ни на то, ни на другое никакого права. Женщина решительная, она нашла вариант обмена, по которому Владимиру досталась хорошая комнатка в небольшой коммунальной квартире со всеми современными удобствами, а Веронике, вышедшей замуж, – отдельная квартира в новом районе. С тех пор жизнь на улице Рубинштейна отодвинулась в далекое прошлое, и иногда Мостепанову кажется, что он жил там чуть ли не до революции, по крайней мере до войны и в те послевоенные годы, которые видятся нам как старое доброе время.
В гостиной притихли и молча ожидали продолжения. Вообще казалось, словно самая жизнь промелькнула во времени, как при просмотрах старых фильмов. Владимир Иванович переглянулся с Натальей и с Вадимом, они оба знаками выразили полное одобрение, мол, все хорошо, продолжайте в том же духе. Теперь он заговорил так, будто сам тут же сочинял.
Вторая жизнь
В вельветовых брючках и рубашке модного фасона, как у взрослых молодых людей, только все в миниатюре, маленький мальчик держался с достоинством и как-то грустно. Он стоял на кухне у окна, кого-то выглядывая, и обернулся без малейшего смущения. На Владимира Мостепанова глянули зеленоватые зрачки, точнее смесь или мозаика из зеленого, синего и лилового, точь-в-точь как у кота Васьки.
«Конечно, я и не подумал, – рассмеялся Владимир, – что кот Васька превратился в маленького мальчика». Но несомненно было что-то общее между ними. Что? Внутренняя самопроизвольность движений, спокойное выражение осмысленности, всепонимания? Мальчик, правда, еще обладал даром речи, что, в общем, ничего не меняло.
«Кто такой?» – не успел подумать Мостепанов, как мальчик ответил на его вопрос.
– Меня зовут Федя. Вы меня не помните, дядя Володя?
– А ты меня помнишь?
– Да. Я ведь давно бываю у тети Веры, хотя и не часто. А скоро придет тетя Вера?
– Как ты сюда попал? – удивился Владимир.
– С мамой, – отвечал мальчик. – Вы и ее не помните? Нет, ее-то вы, наверно, помните!
– Почему ты так думаешь?
– Мама хорошо вас знает. Она всегда спрашивает о вас у тети Веры. Как сосед? Не женился? А тетя Вера всегда рассказывает...
– А где твоя мама?
– Она уехала за вещами. У нее неприятности.
Разумеется, Владимир прекрасно помнил Федину маму. Небольшого роста, вполне хорошенькая... Он видел ее изредка и мельком, но тем эффектнее запечатлелась молодая женщина в его памяти. К тому же словоохотливая Вера Федоровна, принимая участие в судьбе своей дальней родственницы, любила поговорить при случае на кухне с соседом о всех сколько-нибудь замечательных событиях ее жизни. Уже замужество Юли, как звали маму Феди, было чем-то необыкновенно: кажется, она училась в ПТУ, а жених – аспирант, подающий большие надежды, затем защита диссертации, покупка машины и гаража и т.д. – все находило сердечный отклик у доброй Веры Федоровны, и Владимир невольно был наслышан о счастливой преуспевающей жизни Юли и ее мужа, который казался в самом деле серьезным ученым.
Изредка они всей семьей подкатывали к Вере Федоровне, но, не успев войти, сейчас же мчались куда-то дальше. Случалось, Юля приезжала одна и оставалась у Веры Федоровны, и тогда по квартире разносились ее торопливые шаги и внятный шепот. Владимир только здоровался с ними или с нею, но молодая женщина, как он замечал, поглядывала на него с ясной улыбкой, точно они хорошо, очень хорошо знакомы. Слова Феди прояснили положение вещей: они в самом деле хорошо знали друг друга, правда, как бы заочно, через Веру Федоровну.
Вскоре пришла Вера Федоровна, Владимир пил чай на кухне, а Федя был в комнате.
– Владимир Семенович, вы знаете, какое у нас несчастье! – зашептала Вера Федоровна, впрочем тут же переходя на обыкновенный тон. – Юля просила меня ничего не говорить, и я, конечно, ее понимаю. Но лучше вся правда, чем недомолвки...
– С папой Феди что-нибудь случилось? – спросил Владимир.
– Как вы угадали! Это удивительно! – заволновалась Вера Федоровна. – С ним! Да! Я недаром говорила, что он балаболка! Балаболка и есть!
Все это означало, что муж Юли связался с другой женщиной. Дело, как говорится, житейское.
– Это же смешно! – возмущалась Вера Федоровна. – От Юли, от такой жены, бегать за погаными бабами... Балаболка и есть!
– А как Юля? – спросил Владимир, впервые называя племянницу своей соседки по имени, выказывая тем самым свое невольное участие, что Вера Федоровна оценила и обрадовалась. Настроение у нее переменилось, и она с живостью продолжала:
– Вы думаете, она льет слезы в три ручья? Ничуть не бывало. Вы не обратили внимание на кассиршу в Доме книги? Обыкновенно она сидит в зале на первом этаже со стороны канала Грибоедова?
– Не помню.
– Брюнетка, хорошенькой не назовешь, скорее, дурнушка... Но что-то есть, знаете. – И Вера Федоровна замолкла. Тут открылась дверь комнаты, на кухню вышел Федя.
– Тетя Вера! Пора включать телевизор. Начинается детская передача.
– Какая передача? – переспросил Мостепанов.
– Детская, – повторил Федя.
Слово это в его устах звучало совершенно необычно, совсем не так, как все другие слова. Похоже, он обозначал им особый мир, отличный от окружающего, в котором владыки – взрослые. Этот мир, очевидно, не был для него условностью, как нередко для взрослых, скорее мир взрослых обладал в его глазах туманным непостоянством и резкими диссонансами.
«Кассирша!» – вспомнил слова Веры Федоровны Владимир, оказавшись в тот день на Невском, и нарочно заглянул в Дом книги. Надо сказать, что он вообще был как-то неравнодушен к продавщицам, к тому, как они стоят за прилавками на виду у всех и обыкновенно как бы и без дела. Если ему случалось забежать в «Гостиный двор» или «Пассаж», он невольно наблюдал за ними. Благоразумные и занятые люди высматривали прежде всего вещи, а продавщицы все для них на одно лицо, а он поглядывал на лавки и полки, на оформление отделов и на продавщиц, как правило, молоденьких и больших модниц, что можно угадать по их повадкам и речам, несмотря на то, что они носили рабочую форму – халатики или костюмы, впрочем, не лишенные кокетства.
В большом универмаге всегда можно найти изящно оформленный уголок и продавщицу, которая проста и ровна со всеми, исполнена тишины и на свой лад особенно хороша собой, и художник, думал Мостепанов, настоящий художник с гармонической душой, как Эдуард Мане, например, уж верно не прошел бы мимо, чтобы не унести с собой ее образ как самый естественный и прекрасный тип современной продавщицы, вообще молодой девушки. Ведь удивительно, с каким милым и невольным торжеством молодой жизни она украшает свой отдел детских игрушек или бытовых товаров! Владимир Мостепанов издали щурился, точно он художник и перед ним его модель, затем невнимательный, рассеянный, а то и сердитый, спешил выйти вон, махнув рукой на покупки, несбыточные для него там, где все только бегут куда-то и толкаются...
Но – странно – пока ехал домой и особенно дома, Мостепанов точно впадал в полусон, и его столь неудачное посещение «Пассажа» представлялось ему уже совершенно в ином свете. Он видел за прилавком продавщиц, молоденьких и хорошеньких, как на подбор. «А потом, входя в возраст, куда интересно они деваются? – спрашивал он. – Или остаются вечно юны? Конечно, невелика услуга вещь показать, в бумагу завернуть, – начинал бормотать Мостепанов. – При этом слушать, что несет подруга (болтают они всегда такой вздор, что лучше бы не открывали рта), и так красиво на нее взглянуть... У них свой мир, свои заботы... Все модно-молоды... Слегка ленивы до работы, и долгий в зеркалах томится взор... Им хорошо, хотя бы ради скуки, – продолжал Мостепанов думать над новым мотивом стихотворения. – Среди вещей живые существа, вещам они нужны, как скрипке – руки, без них душа вещей мертва. И вдруг предстанет мир совсем особый, где новизна вещей – как волшебство, и продавщицы – странные особы, конечно, феи. Вот их торжество!»
В блеске света, новизны вещей, в молодости продавщиц в самом деле разве не возникает ощущение соседства и слияния двух миров, обыденного и сугубо поэтического?
При таком восприятии обыкновенных продавщиц немудрено было Владимиру Мостепанову увидеть и кассиршу в особом свете. Она сидела в кабине с застекленным верхом у бледно-зеленой мраморной колонны в глубине первого зала Дома книги. Владимир подал ей деньги, сказал, сколько и на какой отдел, близко поглядел ей в глаза и окинул ее всю; она невольно шевельнулась, точно ее неожиданно увидели тогда, когда она считала, что до нее никому нет дела: как просто и изящно сидела она на высоком стуле в блузке модного фасона и вельветовых брюках, вся на виду.
Спокойная и приветливая равно со всеми, не то что красивая, а неизъяснимо, неприметно обаятельная, когда уже самая легкая улыбка оживляет лицо, довольно крупное, слегка удлиненное, с большими глазами и губами, она казалась старше своих подруг, что выражалось, правда, только в большей пластике ее движений и жестов.
Она переспросила сумму, улыбнулась тому, что все правильно, и, приподнимая руку, опустила в его ладонь сдачу, и все это проделала с едва приметными телодвижениями, исполненными, казалось, грусти и особенного внимания к нему, будто они хорошо знают друг друга. Инкогнито? В этом не было ничего неожиданного для Мостепанова. Девушки и молодые женщины всегда привечали его, да и что значит мимолетный ласковый взгляд, ясная улыбка и непринужденный смех при тех или иных обстоятельствах на улице, в метро, в гостях? Но для Мостепанова все это имело значение: он, можно сказать, жил в этой особой атмосфере ласки, интереса, любопытства, нежности и даже любви, более того, именно эта атмосфера возвращала его в детство и в конечном счете предопределила его призвание.
Выходя на улицу после работы, забегая в самый обыкновенный продуктовый магазин или заглядывая в Эрмитаж, он вступал в свет и находил его праздничным почти всякий день, что, впрочем, не вызывало в нем особого оживления и веселости, по крайней мере внешне, а лишь втайне, в глубине своей души, он ловил и копил эту праздничность, чтобы запечатлеть ее в своих стихах, и это его свойство личности невольно замечали молодые девушки и женщины с их особой чуткостью к доброму и прекрасному.
Мостепанов с рассеянным видом отошел от кассы и, прихватив завернутую в бумагу книгу, отправился домой. Он никак не мог опомниться. «Как она просто и изящно сидела на высоком стуле, вся на виду, – думал он, – точно не на работе, утомительной и однообразной, а по своей воле, с каким-то тайным значением!» Теперь он понял, почему Вера Федоровна, причисляя ее к «поганым бабам», сказала, «что-то есть» – и примолкла.
Владимир сидел за письменным столом, рука его выводила на чистом листе бумаги одни и те же слова: «Кассиршей работала богиня. Богиня работала кассиршей».
Кто она? И почему она кассирша? О балаболке Владимир не думал. Вере Федоровне о кассирше он ничего не сказал.
Юля с Федей поселились временно у Веры Федоровны, по-видимому, пока решался вопрос с балаболкой и квартирой. По утрам, едва проснувшись, из своей комнаты Владимир слышал голос молодой женщины, как та торопила сына, и они всегда, как нарочно, выбегали поспешно из квартиры, когда он вставал и подходил к окну откинуть шторы... В окно он видел, как они через двор уходили совсем не спеша, переговариваясь о чем-то... Юля оглядывалась и улыбалась, хотя вряд ли могла его видеть...
Между тем образ кассирши в высоком интерьере Дома книги не забывался, а звал, манил Мостепанова, к его удивлению. Снова заглянуть туда? Что-то удерживало его. Балаболка? Юля? Нет, он боялся разочароваться в девушке, которая, по первому впечатлению, всегда самому богатому, казалась чуть ли не богиней, то есть совершенным созданием по пластике образа и движений. Разумеется, она далеко не такая.
Нарочно обходить Дом книги он тоже не хотел. Наконец он пришел и с облегчением увидел, что вместо богини сидит обыкновенная кассирша, пожилая. Может быть, так и лучше? Может быть, он никогда больше ее не увидит, и удивительная сила первого впечатления останется для него всего лишь поэтическим мотивом, то есть как бы предчувствием тайны жизни или как загадка красоты и женственности.
И все-таки было грустно. Владимир довольно долго стоял на остановке автобуса. Был апрель. Вечернее солнце светило тепло, и на перекрестке сиял и играл такой вечерний и вместе с тем весенний свет, что тихой радости Владимира не было предела. Рядом с ним остановились две женщины, не то подруги, не то мать и дочь, потому что одна, довольно-таки полная и плотная, была значительно старше другой, высокой и тонкой, – в одинаковых сапожках, только у молодой они выглядели изящно, у старшей – попроще. Обе хорошо одеты, только у старшей шарф домашней вязки казался чем-то случайным или характерным дополнением ее облика – женщины в годах, матери, когда заботы о себе у нее уже на втором плане. Похоже, они бегали по универмагам и вполголоса обсуждали какую-то несостоявшуюся встречу или покупку.
Старшая, не оглядываясь, небрежно спросила у него, который час. Не успел он ответить, как она сама, посмотрев на его часы, сказала: «Шесть!», точно это он у нее спросил о времени, и не подумала поблагодарить. В эту минуту на него взглянула другая – уже со знакомым выражением приветливости и живого внимания – и улыбнулась:
– Спасибо!
Владимир тотчас узнал ее, кассиршу из Дома книги, и поспешно кивнул, скорее даже раскланялся, потому что она и вовсе засмеялась.
– Добрый вечер! – прозвучал свежий и теплый голос, смеялась она потому, что не могла вспомнить его. Старшая, приосанясь, повернулась к молодому человеку, с которым так весело поздоровалась ее спутница, и Мостепанов, уловив не удивление, а смех в глазах молодой, назвал себя. Тут подошел автобус, весьма переполненный, Владимир подсадил женщин и сам протиснулся, уже весь в пылу нежданного приключения.
Старшая успешно продвинулась вперед и даже уселась. Молодая и Мостепанов невольно держались в этой давке вместе.
– Так вас зовут Владимир Мостепанов, – заговорила она первой. – Скажите, разве мы с вами знакомы?
– Да! – уверенно отвечал он.
Она улыбнулась.
– Но я вас не помню, простите. Может быть, вы просто видели меня за работой в кассе?
– Это правда, – как бы лишь отчасти согласился Мостепанов.
– Хорошо! Меня зовут Софья. Мы с вами знакомы... ну, немножко... А познакомились мы у Анны Дмитриевны, нашей родственницы. Вот пока и все. А теперь Анна должна знать о вас чуть больше – на случай, если мама справится у ней о вас. Скажите поскорее, кто вы и что вы?
Владимир рассмеялся уловке его новой знакомой, простодушной и такой детской, но сказать о себе в двух словах затруднился.
– О себе – в двух словах... Нет, это невозможно!
– Нет, вы просто... анкетные данные, – торопила его Софья.
Он был вынужден сказать, что ему тридцать два года, что он химик, работает в НИИ...
– Хорошо. Тоже хорошо! – Все легко и весело воспринимала девушка, словно забавляясь своей игрой.
– Впрочем, все это вздор, – вдруг добавил Владимир.
– Как это? Что, собственно, вздор? – Софья с изумлением и даже с тревогой уставилась на него, вообще ей симпатичного и все-таки несколько странного.
– И годы мои, и мое образование, и то, что я работаю старшим научным сотрудником в НИИ...
– Не скажете же вы, что вы робот или пришелец из космоса? – с некоторым недоумением пошутила Софья.
– Все может быть, – отвечал Мостепанов вполне серьезно.
Софья улыбнулась и, взглянув на часы, сказала, что опаздывает на занятия. Она училась на вечернем отделении экономического факультета. Владимир предложил встретить ее вечером и проводить домой. Она подумала и согласилась. В автобусе поредело, и Софья села рядом с матерью, а Владимир, попрощавшись с ними, как с хорошими знакомыми, вышел. Над Марсовым полем сиял вечерний свет, веющий холодом сверкающих льдин, вереницей уносившихся по Неве.
Софья, по убеждению матери, как она потом, смеясь, рассказывала о себе Мостепанову, получила прекрасное воспитание. Она с пяти лет изучала английский язык и кончила музыкальную школу. Только смерть отца, полковника в отставке, смешала все далеко идущие планы и намерения семьи. Мама была вынуждена пойти работать страховым агентом, чтобы выправить пошатнувшееся материальное положение и вместе с тем более свободно, чем на производстве, располагать своим временем. Обе так приуныли, что через два года, когда Софья кончила школу, она только по инерции попыталась было поступить в Институт театра, музыки и кинематографии. Провал, может быть, к счастью, оказался столь решительным, что Тамара Осиповна, а за нею и дочь быстро переориентировались. Софья поступила на работу, а через год и учиться.
Они жили вдвоем в большой трехкомнатной квартире на улице Чайковского. Привыкнув к достатку, они не то что чувствовали себя нищими, а любили прибедняться перед знакомыми, хотя жили куда лучше их. Неудивительно, Софья обожала мать, во всем ее слушалась – по привычке с детства, по своему характеру, по природе. Она вполне разделяла тайную мысль матери: теперь главная ставка для них – это такой муж для Софьи, который по специальности, должности с видами на будущее уже сейчас восстановил бы или даже улучшил материальное положение семьи, потому что они не хотели жить кое-как, особенно сейчас, когда так процветают шоферы, продавцы сигарет или мясники... «Это, конечно, резонно», – смеясь, добавляла как бы от себя Софья.
Само собой, молодого человека, возможного кандидата в женихи, Софья показывала маме. Смотрины такого рода редко кто из нынешних юнцов выдерживал. Куда более благосклонно встречала Тамара Осиповна человека средних лет, воспитанного, преуспевающего, но тут уже Софья умела выискать всякие минусы: скажем, мужчина женат или был женат и имеет детей и т.п. «Впрочем, время терпит», – говорила Тамара Осиповна, а Софья еще не сознавала своего положения. Она работала и училась, времени у нее ни на что больше не оставалось.
– Мама! Я ушла! – И Софья помчалась на вечерние занятия в университете, где ее и встретил Владимир Мостепанов уже поздно вечером.
Выяснилось, что фамилия у Софьи – Пилипенко.
– Вы украинка? – спросил Владимир, уловив какую-то особенность, свойственную девушке.
– Да, – отвечала она, точно радуясь его догадке. – Впрочем, моя бабушка была молдаванка, чуть ли не цыганка... Во мне и польская кровь есть, и великорусская... Родилась я в Ужгороде... Поскольку папа был военный, где мы только не жили! В Киеве мы жили три года, когда мне было двенадцать, тринадцать, четырнадцать лет. Вы бывали в Киеве?
– Нет.
– Непременно побывайте, – прозвучал задушевный совет как обещание счастья, которого ищут.
– Вы так нежно любите Киев?
– Естественно.
– А как же Москва?
– Москва есть Москва, – возразила Софья.
– А Ленинград?
– Его (они как раз переходили пешком Дворцовый мост, и Софья кивнула в сторону города) я тоже считаю родным городом и люблю. Но будь моя воля, я бы переехала жить в Киев.
Голос у нее был высокий, теплый, такой свежий... В самом деле, украинка! И вместе с тем нечто чисто русское, почти деревенское по простоте и искренности. А ведь интеллигентка – по стати, по интонации голоса, по взгляду! Нежное, тонкое и, думалось, чистое создание!
Это была памятная для него прогулка. Что с того, что он писал стихи и даже вот-вот должна была выйти его первая книжка? Это было нечто вроде хобби, как у иных собирание марок и увлечение магнитофонами, хобби, правда, тихое, скромное. Они шагали по пустынной набережной. Но Неве плыли белые льдины, по небу проносились белые облака, фонари светились белым нездешним светом... Софья расспрашивала его, и ему надо было объяснить, что он, собственно, не робот, не пришелец из космоса, а... поэт.
– Вы поэт?! – с нежным изумлением переспросила Софья.
И тут на Мостепанова словно снизошло озарение свыше. Мысль, которая и прежде приходила ему в голову, засветилась, точно светлячок, и полетела впереди. Ему было светло, казалось, что и Софье, шедшей доверчиво рядом с ним, держа его за руку, тоже в эту минуту стало светло. Он впервые не то что поверил, а твердо решил стать писателем, разумеется, настоящим, большим писателем.
– До сих пор я писал стихи, так сказать, на досуге, для себя. У меня книжка выходит... Но по-настоящему надо писать и прозу, и пьесы, и киносценарии, – вдруг заявил он.
– Конечно! – горячо заговорила Софья. – Как, писать стихи – и так долго не решиться посвятить всего себя творчеству? Вы правы, Володя! Все побоку – и писать, писать!
– И вас побоку? – рассмеялся Мостепанов.
Они держались за руки и глядели друг на друга с увлечением. Нет, это еще не было объяснением в любви, но все говорило, что оно возможно, близко, желанно. Прощаясь, он слегка притянул ее к себе, она поцеловала его в щеку, и он долго ощущал прикосновение ее сухих губ – как дуновение теплого весеннего ветерка. Все это было для него точно внове. Вероятно, не в нем тут дело, решил он, а в Софье.
Софья скоро свела Мостепанова с Анной Дмитриевной, утверждая, что это знакомство будет для него полезно, потому что Анна – литературовед и сама пишет стихи.
Владимир увидел перед собой среднего роста полную женщину с голубыми глазами, резковатую на язык. Она поминутно курила и отзывалась о мужчинах и женщинах равно пренебрежительно и свысока: «Эти мужчины (или мужики)...», или: «Уж эти женщины...» Любила употреблять сильные словечки – «нахалюга», «шлюха»...
– Володя пишет стихи. У него скоро выходит книжка, – сказала Софья чуть ли не с гордостью.
– Прекрасно! Первая книжка! А сколько вам лет, Володя? – задала Анна Дмитриевна свой коронный вопрос: она придерживалась вполне основательного убеждения, что настоящие поэты формируются рано, о чем говорят примеры из классики.
Владимир охотно ответил, сколько ему лет, так как Анна Дмитриевна была явно старше его.
– Для мужчины, – тут Анна Дмитриевна взглянула на Софью, – прекрасный возраст! А для пишущего стихи, пожалуй, предел, когда надо ставить крест... Я по возрасту всегда определяю, кто из стихотворцев что обещает или больше уже обещать не может.
– Спасибо, спасибо, – отвечал Мостепанов, не вступая в невыгодный для него спор.
– На здоровье! – продолжала Анна Дмитриевна с оживлением, будто произнести такой приговор ей очень весело. – Это правда, по-моему, куда важнее, чем первая и, может статься, последняя книжка стихов. Она ведь только собьет вас. Вы химик? Вот за это и держитесь до конца жизни.
– Но почему, Аня? – заступилась за Владимира Софья. – Ты даже не читала его стихов.
– Он печатается? Фамилия его знакома, а стихи не запомнились!
Софья была смущена и поглядывала за чаем на Володю с нежностью. До сих пор они встречались только на улице. В домашней обстановке их встреча обрела как бы интимный характер. Стоило отвернуться Анне или уйти на кухню – они смущенно замолкали. Вообще Софья казалась не очень словоохотливой, может быть прежде всего с мужчинами, и она просто молчала, но в ее молчании как-то проявлялись и приветливость, и милая интеллигентность; все это она обнаруживала в движении, в речи. Поднявшись из-за стола, она снова усаживалась долго – еле приметные движения стана, плеч, рук, ног, – словно бы никак не удается найти наиболее простую и непринужденную позу, чтобы при случае заговорить своим звучным и теплым голосом – и не просто, а доверительно и взволнованно покачнувшись в сторону собеседника.
Время от времени Анна Дмитриевна упоминала о Семене Семеновиче, и всякий раз Софья, быстро оглянувшись на Мостепанова, делала какой-то знак тете. Владимир вскоре догадался, что речь идет именно о балаболке. Становилось забавно: он знает о девушке некий криминал, а она ведет себя так, как будто ничего этого и в помине нет. При этом живость нрава удивительная. Или это своеобразное кокетство? Во всяком случае, отдает детскостью... Унося чашки на кухню, Софья остановилась и посмотрела на него с живым прелестным выражением на лице... Что она хотела сказать?
Владимир был очарован, и даже упоминание о балаболке не смущало его, а скорее подзадоривало. Он невольно ждал его появления, еще не совсем сознавая, что вмешался в жизнь людей, в их судьбы, вряд ли имея на то право.








