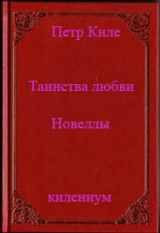
Текст книги "Таинства любви (новеллы и беседы о любви)"
Автор книги: Петр Киле
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Придя домой, Михаил Стенин сразу сел за стол, стоявший меж двух высоких узких окон, из которых (приподнявшись) он мог видеть дома и крыши до Литейного и Невы. Какое-то время он сидел неподвижно, лишь глаза его светились редким оживлением, можно сказать, ясным счастьем. Это и понятно: перед ним в синем небе, в светло-белых тучках то и и дело всплывал образ девушки в ее сине-белом платье, которое она, видимо, надела, чтобы ему легче было ее узнать.
Он жил в большой коммунальной квартире, в высоком шестиэтажном доме, построенном в начале нынешнего века, в стиле модерн. Занимал комнату, в которой вырос, где умерла его мать и куда он привел было молодую жену, был счастлив, казалось, как никто, а потом снова остался один и, вместо горя и слез, вздохнул с облегчением...
Жизнь свою он не раз обдумывал, со школьных лет вел дневник... Он достал несколько тетрадей, кое-что просмотрел, улыбнулся – и оставил их...
“Надо вам сказать, – начал он набрасывать на больших листах мелким отчетливым почерком, – я родился еще до войны. Вывезенный на Большую землю с детским садом, я вернулся в Ленинград в 1944 году и едва признал мать. Я помнил некое лицо, глаза, руки молодой – даже не женщины, а девушки, может быть, по фотографии, мною утерянной, а встретила меня крикливая некрасивая тетка, которая отчаянно целовала меня и говорила неестественно ласковым голосом: “Мишутка! Сыночек мой! Не узнаешь ты меня, родненький? Не узнаешь? Я твоя мамочка!” – “А папа где?” – спросил я, освобождаясь от ее больших грубых рук. “Папа погиб. Мы одни с тобой на свете остались, совсем одни. Слава богу, хоть ты уцелел! И каким чудом ты уцелел? Слава богу, и я выжила. Миленький ты мой? Какой ты хорошенький! Если бы папа увидел тебя, то сказал бы, что не зря погиб. Ты очень похож на него. Отрада моя! Счастье ты мое! Горе ты мое!”
Безудержные ее ласки смущали меня и утомляли, казались мне незаправдашними. Я так до конца и не признал ее, то есть в моем отношении к ней оставался холодок смущения и как бы унижения... Подростком я уже совсем запретил ей ласкать себя... Впрочем, это в порядке вещей. Хуже, я все больше отбивался от рук... Надо вам знать, что мы учились отдельно – мальчики и девочки, в мужских и женских, так сказать, гимназиях...
Как видите, дела давно минувших дней, преданья старины глубокой... И вдруг нас соединили – в восьмом классе мы оказались вместе – мальчики и девочки – в одной школе, в одном классе, за одной партой... Что это было! Так любопытно, интересно и стыдно! Романы, романы, романы! Мы все, особенно мальчики, были сущими дикарями, а я – пуще всех, самолюбивее и дичее своих сверстников. Я совершенно перестал учиться и школу окончил благодаря матери – она постоянно была в родительском комитете. Я не хулиганил, хотя изредка и дерзил учителям, я витал в облаках. Я был вечно в кого-то влюблен, и довольно счастливо, как теперь понимаю, но все это лишь сбивало меня, и я уносился куда-то на подножке трамвая (в те времена деревянные двери деревянных трамваев закрывались на уровне пола, поверх ступенек, и, встав на эти ступеньки, держась за поручни, можно было ехать снаружи при закрытых дверях, едешь, разумеется, бесплатно, а кондуктор тебе грозит в окно...).
После школы мама привела меня на завод, где работала токарем еще с блокады, а сама года не прошло как слегла. Я начал зарабатывать, но продолжал по вечерам бить баклуши, пробовал вино и выглядел этаким рабочим пареньком, к тому же из отпетых... А маму уже дважды увозили в больницу, затем завод выделил ей путевку в санаторий... Но она так и не поправилась... В Ленинграде живут мои дядья и тетки, они и похоронили ее... Я не плакал, все косо смотрели на меня, считая, видимо, виновником ее смерти...
Как люди бывают несправедливы, и особенно самые близкие! Когда мама моя заболела, к ней вернулись и мягкость ее и спокойствие, интимная женская привлекательность, какую будто я помнил из довоенной поры. Я полюбил ее, и она это видела. Она уже знала и верила: во мне есть нечто, что не даст сбиться с пути. Когда ее снова положили в больницу, я понял: это все – и прибежал к ней. Она смеялась, глядя на меня сквозь счастливые слезы, ее умиляло, какой я у нее уже взрослый. Лишь позже я сообразил, что мне было тогда почти столько же, сколько моему отцу, когда они поженились и у них родился сын – и началась война... Они точно предчувствовали, что война отнимет у них все: и счастье, и любовь, и молодость, и самую жизнь.
Это случилось весной, в мае, и когда пришла повестка из военкомата, я обрадовался. Я не мог оставаться дома, мне нужно было куда-то уехать. Меня призвали в армию, и здесь, на службе, когда вчерашние юнцы взрослеют, превращаясь в мужчин, со мной приключилась странная, неожиданная метаморфоза.
Солдатская форма, вообще-то довольно-таки нелепая, идет молодым парням, они скоро осваиваются с ней и чувствуют себя как рыба в воде. Я же все три года выглядел как ополченец, среди новобранцев редко кто имел среднее образование, и начальство смотрело на меня как на интеллигента, как сегодня, пожалуй, смотрят на тех, кому приходится служить уже по окончании института...
Правда, мне повезло и в том отношении, что я попал в войска связи, но не разъезжал по лесам и болотам, а сидел при части в качестве писаря и кладовщика. У меня был досуг, и впервые в жизни я читал запоем – буквально дни и ночи. Время от времени (а я служил в Подмосковье) с непосредственным начальством своим я ездил в Москву, где иной раз мы застревали на неделю и больше. В Москве у меня были родственники. У них я переодевался в гражданский костюм и мог целыми днями бродить по Москве. Разумеется, я не раз побывал в Третьяковке, в Музее изобразительных искусств, – и неожиданно для себя полюбил живопись. Да, это случилось не в Ленинграде, не в Эрмитаже или в Русском музее, куда нас водили на экскурсии и где шедевров не счесть...
В те же годы я познакомился с одной девушкой, вернее молодой женщиной... Она одевалась по моде тех лет и сильно красилась, все это у нее получалось вызывающе и как-то беспомощно. Было ясно, что девица, раз кем-то обманутая или совращенная, гуляет без зазрения совести... Приголубить солдата она даже сочла своим долгом. Вспоминаю о ней, в зависимости от настроения, не без брезгливости или с благодарностью... В ее отношении ко мне под конец стало проглядывать что-то материнское. Она как-то успокоила меня по части женщин, то есть страстей, что властвуют над нами и неведомо для нас определяют нашу будущность, толкая на всевозможные авантюры.
Но женщина, как и армия, не сделала из меня мужчину, а, наоборот, словно бы вернула меня в детство. Завершая службу, я мечтал об одном – о возвращении в “классные комнаты”. Мне хотелось снова пойти в школу, так, класс в восьмой... Мне это столь явственно представлялось, что и поныне иной раз вижу сон – будто бы я и в самом деле осуществил свое намерение, я снова в классе, при этом и во сне я помню, что уже успел окончить университет, что меня ничуть не смущает.
Приехал я домой уже в штатском, в новом светло-сером импортном костюме, с чемоданчиком и солдатским вещмешком. Соседи меня едва узнали. Уезжал на службу разбитной малый, лихой рабочий паренек, одетый в телогрейку, а появился перед ними чуть ли не интеллигент, во всяком случае, студент, каковым я вскоре и стал.
Позади осталась еще одна жизнь, настолько отличная от той, какая у меня была при матери, что казалось, у меня было два детства – и тем не менее я только-только вступал в жизнь. Конкурсные экзамены – на удивление самому себе – я сдал на пятерки, только по английскому языку получил четыре. Сразу после последнего экзамена, еще до решения приемной комиссии, меня отправили в колхоз, где я оказался среди таких же счастливчиков, как и сам. Никто не давал мне моих лет, я подружился с семнадцатилетним юношей со своего курса, с нами, как с ровней, держались вчерашние школьницы, те, что родились уже после войны, сплошь модницы и интеллектуалки, так сказать.
Одна из филологинь все время была возле меня, на поле, по дороге лесом... Был конец августа, прекрасная пора лета... Она молча и выжидательно посматривала на меня, у костра в ночь садилась так, чтобы видеть мое лицо, и я испытывал почти неудержимое и вместе с тем робкое искушение коснуться ее плеча, лица, глаз рукой, она догадывалась, и волнение охватывало нас обоих. Я снова был отроком. В последний вечер я осмелился взять ее за руку, и она не отняла ее. Полночи мы оставались одни, в условиях весьма благоприятных. Но я не решился пойти дальше, ведь у каждого возраста есть свой предел допустимого, когда самая нетронутость исполнена доверия, нежности и счастья, может быть, более полного, чем минутная неловкая страсть обладания наспех.
Она была недостаточно благоразумна, но, видимо, не догадывалась, с кем имеет дело. Как же она удивилась, узнав, что я успел отслужить в армии и на целых пять лет старше ее! Выведав каким-то образом о моем московском “романе”, она – как ни странно – почувствовала себя как бы польщенной даже. О, юность, которая ценит опытность там, где она ничего не стоит!
Не чувствовал я за собой никакой опытности, не ведал никакого знания! Там было совсем не то... Меня, как никогда, занимала тайна любви и счастья... Впрочем, как и сегодня...
В том новом состоянии, по существу отрочества, в каком я пребывал тогда, студенческие годы промелькнули быстро, незаметно и, смею думать, в высшей степени плодотворно.
Здесь следует сказать, что мы с филологиней в городе вновь встретились и немудренно было нам увлечься, полюбить друг друга, свободу, самую любовь и страсть. Мы тотчас решили пожениться, хотя на свою стипендию я не мог прокормить даже одного себя. Сложили две стипендии, и выходило, по моим расчетам: жить можно. Я собирался, конечно, подрабатывать, но всерьез этим так и не занялся, по своей беззаботности. Маша (так я назову ее здесь) была из вполне обеспеченной семьи, и нас подкармливали, а Машу и одевали – и хорошо одевали. Она была серьезной, училась старательно, вела нашим расходам скрупулезный счет, а я, отдав ей свою стипендию, не знал никаких забот.
О счастливых годах рассказывать нечего. Остались в памяти Гегель и Шеллинг, Сартр и Камю, Блок и Рильке... В один-два года по окончании университета все переменилось. Я и в аспирантуре продолжал жить, как прежде, и получал ненамного больше. Маша работала в школе, постоянная нехватка денег, а главное, мой уход, как она говорила, от забот о семье, о ней стали ее раздражать... Она забеременела, я уже стал свыкаться с мыслью, что мне предстоит стать отцом, то есть надо повзрослеть, взять всю ответственность за семью и вообще за жизнь на себя... В мысли этой есть что-то неизъяснимое и необходимое...
И вдруг Машу увезли в больницу, у нее выкидыш. Врач априори сказала, что она приняла какие-то лекарства, не желая иметь ребенка. Случившееся сильно потрясло Машу. Она похудела и как-то сразу повзрослела. Раньше она не любила одна бывать у родителей, теперь же все чаще уходила к ним, все лето прожила на даче и даже съездила с ними на юг. Я же сидел в городе, за машинкой, чувствуя все яснее и яснее, что диссертация моя не вытанцовывается, получается нечто сухое, неинтересное, и в тот момент, когда я ее закончил, я понял – дитя мертворожденное, никому оно не доставит радости, даже если защита пройдет успешно.
Я это понимал отчетливо уже тогда. Но ведь все так пишут – и диссертации, и статьи, и монографии... Профессиональные философы друг друга читают, занимаются критикой буржуазных теорий, но все это вне внимания, вне интереса широкой публики... Мне с самого начала моих собственных философских изысканий хотелось, чтобы слово проникало в сердца людей, находило отклик в их душах, помогало им в извечных поисках человеческого духа перед лицом жизни и смерти.
Изредка приезжая с дачи в город, Маша толковала мне о том, что как бы хорошо было, если б я был просто ее другом... “А как муж, ну кто ты? Тебе ведь не до меня!” – говорила она.
Маша менялась на глазах. Она оставила школу и работала... Теперь уж не знаю, кем и где... Менялся и я. Чувствовал я себя, как никогда, больным и старым, а главное – был словно в каком-то безысходном тупике... Две статьи мои, написанные в новом духе, в живом стиле, нечто вроде философского эссе, вернули мне из научного журнала, посоветовав опубликовать их в литературно-художественном, а из “толстого” журнала вернули, объявив, что это не их профиль... Что и говорить, от философской критики мы отвыкли, а до философских эссе еще не доросли. Я этого тогда не понимал, находя прежде всего беспомощным и слабыи самого себя. Нередко среди ночи я просыпался с таким ощущением, будто поверх одеяла бегают мыши...
Все это стало невыносимо, и мы решили расстаться. Я знал, да и Маша тоже верила, что один я скорее встану на ноги, скорее приду к чему-то определенному. Я боялся за Машу. Она не выносит одиночества... Не сразу, но она все же призналась, что у нее есть неплохая возможность устроить жизнь. Она назвала имя человека, которого я, в общем, знал, вполне устоявшаяся личность. На каком уровне – это дело другое, у него передо мною было неоспоримое преимущество: он устоялся.
Мы расстались.
На сегодня, пожалуй, хватит”.
На следующий день Михаил Стенин сделал приписку: “Следовало бы все это переписать или даже отпечатать на машинке, да боюсь засушить или вообще потерять интерес... Посылаю с условием, что вы вернете мне эти десять страниц”.
IV
На третий день, как письмо было опущено в почтовый ящик, позвонила Марина.
– Оказывается, мы с вами соседи, – весело сказала она, радуясь, может быть, тому, что номера телефона она не спутала и он отозвался, потому что тотчас уже иным тоном – некоторого недоумения продолжала: – Я прочла ваше письмо-исповедь, признаюсь, с удивлением и недоверием. Не пойму, какую цель вы преследуете?
– Какую цель! – воскликнул от неожиданности Михаил Стенин. – Вы имеете в виду по отношению к вам?
– Да.
– По отношению к вам, смею уверить, никакой. “Цель поэзии – поэзия”. Это слова Пушкина. Цель исповеди – исповедь. Если она не вызывает у вас интереса или почему-либо неприятна, верните поскорее мне письмо – и все! Этого следовало ожидать, – добавил он.
– Нет, нет! Вы мне все хорошо объяснили. Мне просто никогда не приходилось получать таких писем. Ваша искренность подкупает. И впечатление хорошее, светлое, чистое... Это и понятно: вы как-то до сих пор не вышли из детства, в которое вас словно бы и на самом деле вернули... Между тем... вы из поколения моих родителей, и ваша исповедь проясняет мне многое в их воспоминаниях о юности... Так что, прошу продолжения.
– Хорошо, – рассмеялся Стенин. – Мне и самому уж не остановиться.
– А потом мы с вами как-нибудь увидимся, да? – Марина не успела подумать, как произнесла эти слова, словно бы снова напрашиваясь на встречу. Он не ответил, может быть, уже не услышал их.
Стенин вернулся к себе и долго прохаживался по комнате, смущенный, точно обласканный Мариной или вообще добрым отношением людей к нему или друг к другу. Как человек пишущий, он ценил всякий отзыв и отклик – даже на письмо.
Занявшись неотложными делами, затем, уже улегшись спать, Стенин поминутно ловил себя на том, что продолжает разговор с Мариной, то есть целые фразы проговаривались в уме, переиначивались и т.д. За окном сияла белая ночь. Он никогда не занавешивал окна, зимой, засыпая, видел звезды, а в эту пору розовую феерию белых ночей. Сон не шел. Наконец он приподнялся и, опершись о подушку спиной, начал писать:
“Припомнив, на чем я остановился в прошлый раз, я вижу, что почти все уже рассказал, разумеется, в том плане, в каком возник вопрос... Никакого фантастического допущения не требуется, хотя элемент чудесного сохраняется. Инфантилизм не есть моя индивидуальная черта. Робким и нерешительным перед людьми и жизнью, безвольным и ленивым, капризным и требовательным, то есть, говоря попросту, маменькиным сынком я никогда не был. Если в армии и особенно в университете я с головой ушел в мир науки и искусства, весь поглощенный поэтическим и философским (эти два определения для меня идентичны) постижением Природы, Истории и Культуры, то это ведь естественно. Мне посчастливилось, может быть, и в том отношении, что заботы о семье, о детях не обременяли меня, и в том, что беспокойство духа, нетерпение и страсти, отвлекающие внимание и силы молодости, были усмирены женитьбой, и, главное, в том, что я постигал науки и искусства с увлечением, можно сказать, вдохновенно, как поэт.
Разумеется, чисто эмоциональное восприятие философских систем и произведений искусства, к тому же весьма избирательно, отдает дилентантизмом, но я всегда знал, что не могу, да и не хочу, быть философом академического склада, то есть солидным и всезнающим комментатором чужих идей и чужих трудов.
Меня, таким образом, занимала не собственно философия, а нравственное и эстетическое самосознание личности, в первую очередь моей и в то же время каждого из нас. А это вечная тема, содержание и форма искусства.
Оставшись один, я решил было забросить диссертацию, чтобы все – и жизнь – начать заново, на новом уровне. К счастью, научный руководитель настоял на обсуждении моей работы на кафедре. Это был для него и для меня своего рода необходимый отчет. Мы с ним уже не ладили, и в случае моего провала он мог официально отказаться от меня. Обсуждение прошло более чем успешно, а защита – вообще с триумфом. Не испытывал радости я один. Не хуже других усвоив навык холодного, сухого, так сказать, строго научного, объективного теоретизирования, весь в плену методологических проблем вне живого философского миросозерцания нашего современника, то есть человека новой эпохи и новой культуры (ибо в мировоззрении буржуазного человека вот уже лет сто нет никакой новизны), я лишь до конца прояснил, по крайней мере, для самого себя, бессодержательность, безжизненность подобного пути, уходящего от конкретики живой жизни в пустые абстрактные построения и схемы.
В то же время одну из моих статей отметили премией на Всесоюзном конкурсе работ молодых ученых. То и дело приглашали меня участвовать в конференциях и семинарах... Но со мной что-то происходило... Врачи нашли крайнее переутомление, нервы, сосуды и т.п. Я был болен буквально телом и душой года три. Это отдельная тема. Всего не расскажешь, да и не нужно.
И все-таки, несмотря на глубокие морщины, прорезавшие мой лоб, никто не давал мне моих лет, а еще мой “успех” – меня принимали, смешно сказать, чуть ли не за вундеркинда, молодые девушки и женщины из круга, условно говоря, интеллектуальной элиты улыбались мне и заглядывались на меня так, что я до сих пор не могу понять, кого они во мне видели? Чего им хотелось?
Я невольно отворачивался от них, иной раз дерзил и убегал... Однажды буквально удрал – уехал в ночь из Москвы в Ленинград за день до завершения какого-то мероприятия, на котором меня обхаживала молоденькая девушка безупречной внешности, сотрудница “Литгазеты”, как она мне представилась. А чего я боялся? Теперь, когда моя будущность определилась, мне хотелось повзрослеть, прийти в соответствие со своим настоящим возрастом, но что-то не срабатывало во мне.
Если возвратное движение в детство и отрочество, пришедшееся на студенческие годы, было бесконечно плодотворно, теперь, замешкавшись там, я в самом деле превратился в инфантильное существо, творчески бесплодное и беспомощное. Именно это состояние оказалось для моего организма чем-то противоестественным и гибельным. Получалось как будто так: силы, что вернули меня в детство с добрыми намерениями, забыли обо мне – или, если это были инопланетяне, покинули Землю, а я – объект их эксперимента – так и остался в детстве, будучи все же взрослым, уже почти пожилым человеком.
Я был болен и вместе с тем словно постоянно выздоравливал – на дню по нескольку раз, и тогда мир, город я видел обновленным, как бывает после болезни... Я воспринимал, скажем, произведения Пушкина, знакомые до каждого слова, как первый раз... То иду я по улице, никого не видя и не слыша (стараясь), сердитый на суету, спешку, столпотворение людей и машин, на пьяниц, на толстых бабок, как правило, весьма нахальных, на юнцов и девчонок, выросших словно на задворках западных столиц, примитивных, вызывающих и жалких, – то тут же, будто солнце выглянуло после грозы и проливного дождя, все менялось вокруг – откуда-то одни красивые, умные молодые лица, чудесная осанка, волшебная походка, нежный взгляд, и я точно молод и юн...
Несмотря на нездоровье, я работал еще больше, чем прежде, но все как-то впустую. Все выходило не то... Я долго искал причину своих неудач, пока не понял: это – инфантилизм!
Что такое инфантилизм? Это не детскость, чудесное свойство детей и великих людей. Это – боязнь жизни, может быть, из-за болезненной восприимчивости к ее гримасам, но и к ее красоте, что тоже пугает. Некоторая осторожность, страх – это еще идет на пользу в детстве и в юности, но позже становится тормозом... Затоптавшись на месте, человек обнаруживает под ногами песок, в который уходят жизни и нерасцветшие дарования.
Я долго разбирался во всем этом, в истории болезни, понятно, не только моей. Теперь мне яснее ясного: инфантилизм сродни дилетантизму, равно губительному для личности, для таланта. Да и для общества в целом. У нас слишком много развелось дилетантов – от науки, от производства, от сельского хозяйства, от литературы и искусства. Вред они наносят громадный. И чем скорее мы это осознаем, тем лучше.
Теперь, когда я по нечаянному случаю раскрыл перед вами тайны своей души, – видимо, не следовало мне этого делать, – я вынужден распрощаться с вами. Жизнь, счастье – все это у меня было. А у вас еще впереди. Я нахожу, что душа моя осмыслилась, я чувствую в себе силы исполнить мои планы. Остается слишком мало времени, ничто уже не должно меня отвлекать.
Прощайте! Будьте злоровы и счастливы!
М. Стенин.
Неожиданный постскриптум удивил и озадачил Марину. Что бы это значило? Зачем? Ведь не исповедуются перед первым встречным! Нет, не исповедуются. Она понравилась ему. Еще бы. Красота в ее собственной, идеальной сфере. Если он видит ее такою и раскрывается перед ней, значит, между ними установилась какая-то важная, серьезная связь. И он хочет оборвать ее? Не может быть. Скорее она могла и должна была первой пойти на это.
Но именно в эти дни Марина узнала о Михаиле Стенине нечто новое.
– Ну, кто он, твой новый знакомый? – все приставал Славик.
– Я думаю, он философ, – сказала Марина не совсем уверенно.
– Разве в наше время еще есть философы?
– Конечно, есть.
– Что-то не слыхал.
– Ну откуда тебе знать?
– Это верно. Но знаешь, ведь я никогда не читал ни Аристотеля, ни Платона, а имена мне известны. Философ – это же непременно крупная величина, он как Эльбрус или Монблан должен возвышаться над миром. Иначе... он, как все мы, у каждого своя профессия, вот и все.
– Не скажи, – возразила Марина. – Я раньше всегда думала: “Какой у меня папа умный!” И мама не промах. А Михаил Стенин...
– Как ты сказала? Стенин? Вроде я слышал эту фамилию, и именно в этом плане...
– В каком плане?
– В философическом...
– Ну?
– Да, говорили про него... и чуть ли не у вас! Спроси у мамы.
Славик съел весь обед и уехал. В тот же вечер Марина справилась у матери. Людмила Ивановна, не долго думая, заявила, что Михаил Стенин – это литературный критик.
– Ты уверена?
Людмила Ивановна, улыбнувшись, нашла номер одного из “толстых” журналов за прошлый год со статьей М. Стенина, которую и Марина читала с интересом.
– Мама! Это и есть мой новый знакомый! – с легким торжеством рассмеялась она.
– Поздравляю! Как это случилось?
– Как это случилось, ты знаешь. Билет у меня с рук взял именно он... Мы разговорились и познакомились. Но он ни словом не обмолвился, кто он такой.
– Он что, молодой?
– На первый взгляд не старше Славика... Но ему столько же примерно, сколько тебе или папе... Странный он какой-то, но интересный!
– И между вами завязалась переписка?
– Как видишь.
– Он увлекся тобой? – Людмила Ивановна перешла на шепот, чтобы до поры до времени не посвящать отца в неординарную историю дочери.
– Не знаю, – смутилась Марина.
– А что он пишет?
– Мама, сама понимаешь, без его разрешения я не могу показать тебе письмо... Он пишет вообще, то есть больше о себе...
– Хорошо, – мать не настаивала. – Перечитаем его статью.
Семья из года в год выписывала один-два “толстых” журнала, а Людмила Ивановна вообще обожала разговоры на литературные темы.
– Ты знаешь, – сказала она позже, – мне нравится его статья. Он пишет искренно и прямо, без обиняков. Мне бы очень хотелось с ним познакомиться. Ты можешь это устроить?
– Пожалуй, – рассмеялась Марина, ибо мать говорила шутливо-важным тоном, как она обыкновенно разговаривала при гостях. Журнал, статья, автор которой словно вошел в их жизнь, вдруг представили разговор матери с дочерью в новом свете, уже в не индивидуально-личном, а как бы в более широком плане, как небо открывается над городом, когда выходишь на улицу... Впрочем, Людмила Ивановна, в характере которой всегда присутствовало это стремление к более широким горизонтам жизни, не забывала и о том, что она мать.
– Кстати, – сказала она, – это и необходимо, чтобы ваши отношения не зашли куда-нибудь не туда. Ты меня понимаешь?
– Да, мама, – отвечала Марина, как примерная и послушная дочь, какой она чаще всего и была.
– У меня к нему много вопросов.
Вопросы были и у Марины, но он – “Прощайте! Будьте здоровы и счастливы!”








