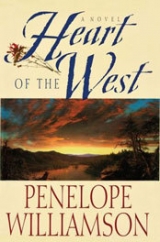
Текст книги "Сердце Запада"
Автор книги: Пенелопа Уильямсон
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 33 страниц)
И вот старый Маккуин снова вернулся, столь же неизменный и досаждающий, как блохи в летнее время. Судя по всему, на сей раз он отказался от душеспасительных проповедей и нашел другой способ отбирать у дураков их тяжким трудом заработанные деньги.
Последняя партия быстро завершилась, и колода для раздачи перешла к Одноглазому Джеку. Гас наблюдал, как изящные длинные пальцы сдвигают и тасуют карты. В детстве ему казалось, что карты оживают в руках отца. Как по волшебству тот мог заставить их появиться и исчезнуть, превратить двойку в туз или переместить короля снизу колоды на самый верх. Джек Маккуин учил этим трюкам обоих своих сыновей, но лишь у Зака обнаружился талант к подобным фокусам. Гас вспомнил о часах, которые проводил, наблюдая, как Зак практикуется, пряча карту в рукаве и усваивая другие шулерские приемы.
Впервые Гас обратил внимание на остальных игроков – доктора Корбетта, Змеиного Глаза, Поджи и Нэша. Их лица пылали от виски, как от света внутренней лампы.
– Они играют без лимитов и без джокеров в стрит стад покер [41]41
Стад– существует несколько разновидностей стада, например 4-х, 5-ти, или 7-карточный стад. Автор описывает 5-ти карточный. Стрейт или Стрит(англ. straight – «порядок»): пять карт по порядку любых мастей.
[Закрыть], – сообщил Зак и сделал знак бармену, который налил ему еще одну рюмку и поставил маленький стакан пива в качестве закуски. Из кармана расстегнутого жилета Рафферти вытащил принадлежности для самокрутки. – Большие ставки, и пусть проигравшие плачут.
– Большие ставки?
Конюшня Змеиного Глаза представляла собой замаскированный монетный двор, да и у дока, поговаривали, водились деньжата на Восточном побережье. Но у двух старых старателей имелся лишь доход от сдачи внаем консорциуму шахты «Четыре Вальта», которого хватало на виски и покер с шагом ставки долларов в пять, но никак не на игру по-крупному.
– На что играют Поджи и Нэш?
– Папаша подкинул им наличных. Пять тысяч долларов за их восемьдесят процентов в «Четырех Вальтах». Они уже проиграли ему большую часть.
– Проиграли! – Руки Гаса сжались в кулаки. – Проиграли? Бог мой, ты же знаешь его, знаешь, какой он. Как ты мог просто стоять здесь и допустить такое?
Зак зажег сигарету, свисающую с губы.
– Да потому что я не набиваюсь в сторожа брату моему, в отличие от тебя.
Гас низко зарычал и принялся было протискиваться к столу, но Зак придержал его за руку.
– Ты не можешь встревать в игру другого мужчины, – весомо произнес Рафферти.
– Могу, если он подтасовывает карты.
– Он не подтасовывает.
– Как такое может быть? Ты знаешь Джека – он изворотливый и пронырливый, как змея, и всегда таким был.
Поля шляпы Зака слегка приподнялись, когда он глянул на Гаса.
– Я стоял здесь и позволил этому случиться, помнишь? Он играет честно.
– Вот черт! – Гас метнул взгляд в сторону отца и потер затылок. Конечно же, обличить негодяя может только такой же негодяй, поэтому если кто-то и мог наверняка сказать, жульничает ли старик, то только Зак.
При всем при том доверия Гаса к чувству справедливости брата и на плевок не хватило бы, поэтому он прищурился, чтобы получше рассмотреть происходящее за столом.
Преподобный Джек глубоко затянулся сигарой, заставив ее кончик ярко светиться, и кивнул Поджи, чья очередь была уравнивать или повышать ставку, или пасовать. Перед каждым мужчиной лежала одна закрытая карта и три открытые.
– Снова возвращаемся к тебе, старина. В игре?
Поджи постучал корявой костяшкой пальца по закрытой карте.
– Слабое сердце никогда не наполнится до краев. Я в игре.
После торгов все продолжили игру, и у каждого в открытых имелась пара, за исключением Поджи, у которого собрались три карты трефовой масти. У Нэша былидведесятки к королеве, у Змеиного Глаза – пара вальтов к четверке, у дока – тройки к шестерке. А у преподобного Джека – пара двоек к восьмерке.
Он начал сдавать пятую карту.
– Вот идет поезд, господа, катится по рельсам. Королева подходит к королеве, получаются две пары. Пятерка к вальтам с четверкой – толку никакого. Черва к трефам обламывает флэш [42]42
Флеш(англ. Flush) – комбинация в покере, состоящая из пяти карт одной масти в любом порядке.
[Закрыть]. Еще одна тройка, и док теперь с тремя картами одного достоинства. А сдающий получает... двойку. – Преподобный положил колоду и посмотрел на Нэша. – Ваша ставка, сэр.
Поджи скинул свой несбывшийся флэш.
– Я продул.
– Аминь, – буркнул Змеиный Глаз, переворачивая свои карты.
– Три паршивые тройки не могут тягаться сдвумя открытыми парами, – вздохнул док, – но я, пожалуй, подержу их немного. Накидываю сотню.
Нэш добавил мятую пачку банкнот к куче в центре стола.
– Отвечаю и подымаю до пятисот.
По бесстрастному выражению лица Нэша можно было сравнить с сидящей на заборе совой. Но его ставка выдала то, что скрывало лицо. Старик собрал фул-хаус [43]43
Фул-хаус/ Полный дом / Три плюс два (англ. fullhouse, fullboat – «полный дом», «полная лодка») – три карты одного достоинства и одна пара.
[Закрыть]: либо три королевы и две десятки, либо три десятки и две королевы.
Преподобный Джек прищурился на обуглившийся кончик сигары. Тремя двойками с восьмеркой он не мог перебить фул-хаус Нэша, если только его закрытой картой не была четвертая двойка.
– Принимаю и поднимаю до полутора тысяч, – сказал он.
– Блефует, – прошипел Гас. – Всегда умел лгать и заставлять других верить этой лжи.
Губы Зака дрогнули в полуулыбке.
– Братец, никогда не стоит недооценивать блеф.
Док скривился и махнул рукой.
– Знал же, что эти тройки продержатся не дольше, чем дерьмо у гуся. Я пас.
Нэш посмотрел на свои карты большими влажными глазами.
– Сколько там получается?
– Пятнадцать сотен, – отозвался преподобный Джек
Лежавшая у локтя Нэша сумма была немногим меньше ставки. За столом воцарилась тишина, насыщенная, как сигарный дым. Поджи посчитал свою наличность и передал Нэшу большую часть, оставив себе лишь несколько банкнот.
– Принимаю, – сказал Нэш, и остатки серебряного рудника «Четыре Вальта» отправились в банк. Джек Маккуин выпустил еще одну струю дыма над столом, а затем медленно, разыгрывая из действа целую драму, перевернул свою закрытую карту. Четвертая двойка.
Стулья царапнули по грубому полу, когда игра закончилась, и игроки со зрителями потянулись к стойке, спеша наверстать упущенное всухую время. Гасу показалось, что Зак собирается допить свою последнюю рюмку виски, но уже в следующее мгновение брат чуть не исчез за дверью, и Маккуину пришлось поспешить, чтобы догнать его.
Гас схватил Рафферти за плечо.
– И куда это ты направился?
Когда Зак повернулся, его лицо было белым, как свежий сугроб.
– Думал пойти посмотреть на фейерверк.
– Ты послал за мной, чтобы я своими глазами увидел это... это непотребство, а теперь собираешься свалить отсюда, будто ничего не случилось?
– И что ты хочешь, чтобы я сделал – сыграл на пианино похоронный марш? Говорю тебе, он не жульничал. Эти два старых дурня свалились Джеку прямо в руки как пара спелых персиков в жаркий летний день, и он умял их, оставив одни косточки.
– В таком случае ты можешь пойти и выиграть все назад.
– И как же, черт подери, я могу это сделать? У меня на ставку наберется от силы десятка. И моя доля ранчо.
– Ты мог бы сжульничать. – Губы Гаса вытянулись в напряженную улыбку. – Я слышал, что тебя научил передергивать самый лучший из катал.
Темные брови Зака издевательски подпрыгнули.
– Не могу поверить, что слышу такое предложение из уст старшего брата, который не сказал бы дьяволу даже «бу!»...
– Проклятье, Зак!
– Как ты говорил, меня учил передергивать самый лучший из катал, равно как и тебя, хотя ты никогда не проявлял способностей к этому делу. Может, я и освоил несколько незнакомых папаше трюков. Но ведь и он тоже может знать какие-то уловки, которые никогда мне не показывал. Желаешь поставить ранчо, чтобы выяснить, кто из нас лучший мошенник?
Мгновение Зак смотрел брату в глаза, а затем развернулся на каблуках, распахнул дверь и исчез в сумерках.
– Похоже, мы с тобой теперь партнеры по серебряному руднику, сынок. Хочешь сигару?
Гас с презрением посмотрел в открытый серебряный портсигар на дорогие сигары, обвязанные шелковыми ленточками, а потом в хитрый голубой глаз отца.
– Ты бросил проповеди и полностью переключился на азартные игры? Неужто вышняя сила оставила тебя посреди ночи?
Преподобный покачал головой и прищелкнул языком.
– Густавус, Густавус. Несмотря на все твои мечтания, у тебя никогда не случалось видений. «Я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу». Вот только пустыни больше нет. Ее уничтожили правительственные комитеты со своими строительными фондами и кампаниями по привлечению членов в партии. Пришла организованная религия и выхолостила из проповедей и развлекуху, и деньги. Поэтому я последовал знаку Господа нашего и снова серьезно занялся картами. – Джек закусил кончик сигары и оглядел себя, его глаз недобро поблескивал. – Судя по видимому положению вещей, я бы сказал, что нашел-таки истинное призвание на излете моей насыщенной жизни.
Гас покачал головой. Хотя за целый день он не выпил даже пива, тем не менее чувствовал себя слегка опьяневшим. Отец не раз делал это с ним – запутывал до тех пор, пока Гас уже не разбирал, где правда, а где ложь.
– Единственным призванием, которому, по моим наблюдениям, ты когда-либо следовал, – сказал он, – было постоянное смутьянство ради какой-то извращенной радости, что, кажется, ты получаешь, наблюдая, как портишь людям жизни.
– Полагаю, ты, сынок, предпочел бы видеть меня целыми днями пялящимся в зад мулу на пашне, или застегнутым на все пуговицы в крошечной конуре над книгой счетов, пачкающим чернилами манжеты и напрягающим единственный уцелевший глаз. Да если бы ты мог выбирать...
Гас гулко хмыкнул.
– Если бы я мог выбирать, то постарался бы, чтобы тебя в смоле и перьях вынесли из Радужных Ключей на шесте.
Джек прижал руку к сердцу:
– Ты ранил меня, сынок – тяжело, очень тяжело ранил. И чем я это заслужил? Что такого я сделал вам, мальчики, кроме как позволил найти свою собственную приятственную дорогу в ад? – Его рот растянулся в лукавой улыбке. – Если ты бродишь в поисках света, Густавус, то должен быть готов столкнуться и с тьмой.
Гас тяжело вздохнул.
– Не думаю, что тебе когда-либо приходило в голову зарабатывать на жизнь честным путем.
– «Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно». –Преподобный вынул сигару изо рта, осмотрел ее и бросил в ящик с опилками для плевков. – Может, я так и поступлю сейчас, завладев серебряной шахтой. Кстати, не хочешь избавиться от своих двадцати процентов? Если да, то я готов купить.
Гас водрузил шляпу на голову и положил ладонь на дверь.
– А вот тут несостыковочка вышла, поскольку я продать не готов.
* * * * *
Восторженные лица обратились к небесам, и рты открылись в хриплых охах и ахах, когда ракеты шумно расцветили темно-синее ночное небо Монтаны.
Гас пробирался сквозь сидящие на траве темные фигуры. Он отыскал Клементину, расположившуюся на одеяле рядом с его братом. Чарли лежал между ними – мальчик настолько устал, что спал даже при таком шуме. Согнув ногу в колене и положив на нее запястье, Зак прислонился к стволу тополя. Клементина опиралась на вытянутую руку, сидя лицом к Рафферти. Однако они не разговаривали, а лишь смотрели друг на друга.
– Вот ты где, Гас, – сказала она, когда муж подошел к ним, и приветливая улыбка смягчила ее лицо. Клементина казалась удивительно красивой: волосы блестели, а в глазах сверкали вспышки разлетающихся в стороны цветных огоньков.
Гас сел и обнял жену за талию. Огненный шар с пронзительным свистом взмыл в небеса и взорвался множеством искр. Свет рассыпался по одеялу прерывистыми красными, белыми и синими отблесками. Зак повернул голову, и их с братом глаза встретились. Лицо Рафферти озарила лучезарная улыбка, которая была ярче любой ракеты.
И все же, и все же... Мысль пришла к Гасу, больше напоминая дурное предчувствие, давящую боль в груди. Ему вдруг подумалось, будто что-то витало в воздухе между ними, между его женой и его братом.
Что-то, что он сию минуту разрушил, шагнув на заколдованный участок, образованный одеялом, на котором эти двое сидели. Будто ударил молотком по тонкому льду.
Но мысль ускользнула и была им напрочь забыта, когда Клементина положила руку на его колено и наклонилась к нему, и Гас глубоко вдохнул запах диких роз и почувствовал тепло её тела.
– Посмотри на нашего Чарли, – сказала она. – Спит, как маленький ангелочек, пока с неба сыплется огонь. – И жена рассмеялась таким привычным смехом, мягким и чистым, как свежий снег. И вместе они взглянули на своего сына, и вместе улыбнулись.
ГЛАВА 21
Их сынок, их Чарли погиб в конце августа, когда на черемухах висели сочные и черные ягоды. Небо было таким голубым, а воздух – таким чистым, что очертания гор резко выделялись на горизонте. Река ловила солнечные лучи, отражая их в небеса, а мягкая высокая трава цветом напоминала волосы ребенка.
* * * * *
Последующие дни Клементина удерживала в сознании те минуты, снова и снова переживая их. Воспоминания походили на беспрерывно крутящуюся вокруг ее головы петлю лассо. Начиналось всегда с того, как она стоит у кухонного окна, а мужчины в загоне спаривают племенного жеребца с кобылой.
На кухне пахнет овсянкой, которую Клементина сварила в то утро на завтрак. День выдался теплый, и тополя повернули листья к солнцу. Вороватые сойки налетают на рассыпанный по двору куриный корм, а Чарли понарошку стреляет в них из деревянного ружья, высовываясь из-за перил крыльца.
– Бах! – вопит озорник. – Вы покойники! Бах! Бах!
Мужчины заводят жеребца в загон. Кобыла стоит с широко расставленными задними ногами, ее хвост отодвинут в сторону, женское естество обнажено. Жеребец с важным видом гарцует, встает на дыбы и громко ржет, как делал и раньше. С гордо стоящим огромным органом он взгромождается на кобылу и вонзается в нее, укусив за шею, и она тоже ржет.
Пойманная в ловушку памяти Клементина наблюдает за случкой не постоянно. Иногда она отворачивается от кухонного окна, поскольку ей ненавистно, как жеребец, покрыв кобылу, отскакивает прочь и будто бы презрительно кривит губу.
Но независимо от того, смотрит Клементина в окно или нет, она всегда слышит звонкий смех Чарли. И внезапно понимает, что он больше не стреляет в соек с крыльца. Мальчик бежит к загону, где гарцует, ржет и подобно косе рассекает копытами воздух жеребец. Сорванец бежит и что-то кричит, и смеется, смеется, смеется.
И она тоже бежит изо всех сил, пробиваясь ногами сквозь воздух, густой, как сорговый сироп. И тут весь мир взрывается криками и диким ржанием, и вихрь пыли поднимается вверх, скрывая солнце.
Пыль рассеивается. Гас стоит на коленях в загоне, и ужасные звуки вырываются из его груди. Перелетает с забора на столб сойка-пересмешница, завывает в тополях ветер, а Чарли больше не смеется.
Клементина все бежит и бежит, пока не врезается в прочную стену груди своего любимого. Его ладони сильно сжимают ее руки, удерживая Клементину на месте. Лицо мужчины серо от пыли, все еще витающей в воздухе.
– Пусти меня к нему. Я должна его увидеть, – скулит она, и именно в этот миг в её душе воцаряется холод.
Любимый пытается прижать ее голову к своей груди, пытается застить ей глаза своим сердцем.
– Нет, дорогая, не нужно этого. Его больше нет.
Частичка ее сознания уже прожила тысячу лет в будущем, где нет Чарли, где не осталось ничего, кроме этой минуты, и если воспоминания начинаются с того, как она стоит у кухонного окна, то они должны иметь и завершение, как петля лассо над головой. Клементина обязана была увидеть Чарли мертвым, чтобы знать наверняка.
Поэтому она отстраняется от любимого и медленно идет к загону. Качая сына на руках, Гас пронзительно воет в небо. Крови не видно, только маленькая капелька в уголке рта ребенка. Глаза мальчика открыты, но лишены света. Теперь свет померк во всем мире, ведь грудь Чарли вдавлена, а он сам – мертв. Мертв.
* * * * *
Клементина сидела в кресле-качалке из гнутой лозы и смотрела в окно спальни. Плетеное кресло скрипело при покачивании, а изогнутые полозья скрежетали по грубому сосновому полу. Весь мир купался в ярком солнечном свете, но скорбящая мать куталась в красивое стеганое одеяло ручной работы, подаренное Ханной. Для Клементины свет померк повсюду, и ей было холодно.
Она качалась, глядя в окно на лачугу охотника на буйволов, на широкую плоскую серебряную ленту реки, на стога сена в тени гигантских тополей. И на могилу Чарли. Вот уже два месяца, как сына похоронили. В тот день она тоже качалась в этом кресле и слушала звуки смерти: треск пилы и стук молотка, сбивающего гроб, лязг и звон лопат, копающих могилу… и рыдания мужа. Но не ее. Она не плакала. Совсем не плакала.
Клементина стояла у разверстой могилы и вдыхала запах сырой сосны гроба и свежевырытой земли, и каждый вдох казался ей кощунством. Мир сделался тьмой, мир завернули в саван, мир погружали в яму в земле. Мир представлялся ей непроницаемым кромешным мраком, но она могла слышать. Клементина слышала скрип веревки, когда гроб опускали в могилу, и шлепок, когда Чарли оказался на дне. Слышала завывающий в тополях ветер, стук ударяющихся о гроб комьев земли и рыдания мужа.
Она качалась и смотрела в окно, прижимая к груди альбом с фотографиями в белой кружевной обложке. Она так и не открыла его. Не хотела смотреть на маленьких Чарли, сотканных из света, сейчас, когда мир представлял собой лишь тьму. Когда мир лежал, запечатанный в сосновом гробу, в глубокой земляной яме.
Клементина качалась и наблюдала, как с тополей падают в реку листья, наблюдала, как их уносит далеко-далеко в море. Внутри она чувствовала себя мертвой, как эти листья, сухой и ломкой. Хорошо бы упасть в реку и уплыть по течению прочь от гор, ветра и нескончаемых пустых миль травы.
Однажды она вытащила из тайника мешочек в форме сердечка. Сжала в руке, заинтригованная его весом и солидностью. Высыпала несколько монет на колени. Многие монеты были золотыми как листья тополей. И Клементина задалась вопросом... если выбросить монеты в реку, унесет ли их в море? И не может ли она отправиться вместе с ними?
Клементина качалась, ребенок толкался у нее в животе. Ее груди отяжелели и раздулись. Она попыталась подумать о рождении этого малыша, о сладкой боли, которую ощутит, когда он будет сосать ее грудь, вытягивая из сосков живительное молоко. Но удалось представить лишь то, как новорожденный умирает, как его хоронят в земле рядом с Чарли и другим младенцем, которого она потеряла на восьмом месяце беременности.
Клементина качалась и смотрела в окно. На другой стороне двора Гас рубил дрова. Топор мелькнул в воздухе и с глухим стуком опустился: полено раскололось и щепки разлетелись в стороны, как осколки шрапнели. Клементина подумала, насколько опасна колка дров и что стоит осторожности ради удерживать Чарли подальше от отца, пока тот машет топором. И тут вспомнила. Чарли мертв.
Они продолжали жить, она и Гас, – ели, спали, занимались домашними обязанностями, на что уходил весь день, но между ними не осталось больше ничего. Иногда супруги перекидывались парой фраз, но эти слова не могли построить мост через образовавшуюся пропасть, и Клементина не выносила прикосновений Гаса.
Она качалась, наблюдая, как муж колет дрова, и вдруг услышала за спиной скрежет шпор по полу. Клементина всегда чувствовала, когда этот мужчина входил в комнату, даже сейчас чувствовала. Она по-прежнему любила его. И всегда будет. Но никогда не разговаривала с ним откровенно и не смотрела на него открыто, поскольку хотела перестать любить его, пусть это и невозможно.
Он подошел к ней так близко, что в поле зрения Клементины попала обтянутая джинсами нога в пыльном черном сапоге, хотя глаза она поднимать не стала.
– Я тут подумал, может, ты захочешь проехаться верхом к каньону буйвола, – сказал деверь.
Клементина сосредоточила взгляд на взмахах топора и ничего не ответила.
– Ты должна выйти из дома. Должна почувствовать солнце на лице и ветер в волосах. Если не ради себя, то ради ребенка, которого носишь.
– В той яме, куда вы положили моего Чарли, нет солнца, нет ветра, чтобы он трепал его волосы. Нет ничего, кроме холода и темноты.
– Клементина... – Мужчина положил руку ей на плечо. Пальцы сильно и настойчиво впились в ее плоть. – Ты должна выпустить это наружу. Попробуй плакать. Или ругаться, или кричать. Но ты должна...
В горле Клементины забурлил обжигающий горький гнев, и она сорвалась с кресла с такой силой, что полозья со скрипом заскользили по голому сосновому полу, а альбом с фотографиями упал на пол.
– Как смеешь ты учить меня скорбеть! Я носила Чарли во чреве девять месяцев и год кормила грудью. Моего малыша! Моего сыночка!
Зак схватил ее за руки и слегка, но резко встряхнул.
– Черт бы тебя побрал, женщина. Ты убиваешь Гаса. – Клементина попыталась вывернуться из хватки, и Рафферти, пошире разведя руки, отпустил ее и сделал шаг назад. – Ты убиваешь моего брата.
Клементина почувствовала, как губы отлипли от зубов в страшном подобии улыбки.
– Ты думаешь, я бы не предпочла, чтобы в этой могиле лежал твой брат? – Она указала несгибаемым трясущимся пальцем в окно. – Чтобы вместо моего сына там лежали вы оба?
Мгновение Зак молчал, лишь сверлил ее медными глазами. Затем покачал головой.
– Нет, это не так.
Клементина закрыла глаза, чтобы не видеть муку на его лице, и слабо беспомощно пискнула:
– Оставь меня в покое. Я хочу, чтобы меня просто оставили в покое.
– Ах, Клементина. – Что-то коснулось ее щеки, и Клементина резко отпрянула от Зака.
– Не прикасайся ко мне. Я этого не выношу.
– Чего ты от нас ждешь? – Он наполовину отвернулся от нее, вцепившись руками в спинку кресла так сильно, что костяшки пальцев побелели, а плечи ссутулились. – Мы тоже любили мальчонку. И тоже страдаем. Так чего ты, черт возьми, от нас хочешь?
Клементина рассмеялась – хриплый ломкий смех напоминал разбивающееся вдребезги стекло.
– Чего я хочу? Хочу вернуть сына. Хочу, чтобы он был здесь со мной. Хочу снова держать его в объятиях и наблюдать, как он растет и становится мужчиной. Хочу слышать его смех. Хочу смотреть, как он размазывает по лицу варенье из черемухи и пачкает волосы. Хочу целовать его на ночь и утыкаться лицом в его душистую кожу. – Ее горло сжалось, когда внутри усилилась страшная удушающая горечь. – Я хочу, чтобы мой Чарли живым вернулся ко мне сюда, где и должен быть.
– Он умер, и мы не можем этого изменить. Никто не может.
Клементина снова попыталась рассмеяться, но в горле застрял огромный колючий ком боли, и смех вырвался наружу страдальческим мяукающим стоном.
– О, нет, вы не можете этого изменить, конечно же, на то вы и мужчины. Мужчины, которые могут все, кроме как не дать жеребцу лягнуть в грудь маленького мальчика.
Она повернулась к деверю спиной и стала ждать, желая услышать, как он уходит. Но Зак долго-долго оставался на месте, и Клементина не шевелилась, сжимая челюсти, чтобы недать слабину. А когда он наконец ушел, вдруг захотела окликнуть Зака, но не смогла произнести ни слова из-за удушающего кома горечи, застрявшего в груди и в горле.
Клементина посмотрела в окно на реку, тополя, стога сена и на могилу Чарли. И вот она уже на улице, ее туфли хрустят по куриному корму, и Гас что-то кричит, но она не замечает мужа, поскольку видит только могилу сына, идет только к ней.
Её обдало порывом горячего ветра, и миссис Маккуин пошатнулась, но продолжила шагать. Ветер завывал и скорбно вопил, и Клементину окончательно захлестнула горечь, разрывая на части, что все кровоточили и кровоточили, реки крови потекли по земле, к могиле Чарли. И вот она уже у сыновнего холмика, расшвыривает полевые цветы, которые утром положил сюда Гас, расшвыривает их в ярости, ненависти и безграничном горе. Она царапала землю руками, и боль обрушивалась на нее как удары кулака, и слезы хлестали из глаз, скатываясь по щекам и образуя целые волны, океанские соленые волны. Клементина шмыгнула носом – словно ткань разорвалась – и пронзительно завыла. Ветер тут же подхватил вой. Клементина обняла беременный живот и стала раскачиваться взад и вперед на могиле Чарли, пока рыдания выплескивались одно за другим в нарастающих, раздирающих и иссушающих душу муках.
* * * * *
– Она винит в случившемся меня, – сказал Гас.
Рафферти забрал топор из поникшей руки брата и воткнул лезвие в колоду для рубки дров.
– Она винит всех и вся, включая себя и Бога.
– По крайней мере теперь она плачет. – Гас повернулся к брату отчаявшимся лицом. Под покрасневшими глазами виднелись синяки. – Это же хороший знак, верно? Это же хорошо, что она плачет?
Зак схватил брата за плечо и подтолкнул к жене. Клементина корчилась на могиле Чарли, воя и скуля по-звериному.
– Ступай, поддержи ее. Сделай это, даже если она будет бороться с тобой, но черт подери, поддержи ее.
«Давай же, брат, пока я не сделал это сам, ведь если пойду я, ты больше никогда не получишь ее назад».
Гас пошел и опустился на колени рядом с женой на холмике Чарли. Он попытался прижать Клементину к груди, а та стала вырываться, крича и размахивая кулаками. Но каким-то образом ему удалось обнять Клементину, и Гас накрепко обхватил жену руками, будто бы они оба могли так остаться до смерти. Рафферти почувствовал, как желудок сжался в кулак, и отвернулся.
Двор выглядел опустевшим. Зак подумал, что теперь двор навсегда останется таким без топочущего, хохочущего Чарли. На глаза навернулись слезы, и он заморгал, прогоняя их прочь.
Клементина по-прежнему плакала, но сейчас к ней присоединился и Гас, и по крайней мере супруги рыдали вместе.
Рафферти шел по прерии куда глаза глядят. Ему наперерез промчался заяц и юркнул в норку. Внезапно стих стрекот кузнечиков, и, мелькнув крыльями с белыми поперечными полосками, мимо пролетела сорока. Ветер на мгновение затих, а затем резко подул, донося с собой запах гари. По спине Рафферти побежали покалывающие мурашки беспокойства. Зак остановился и, прищурившись, посмотрел на юг, туда, откуда дул ветер и где над горбатыми холмами поднимались клубы густого черного дыма.
* * * * *
Дым застлал небо за несколько минут, когда бушующий степной огонь двинулся в их сторону. На улице потемнело так, что потребовалось включить лампы. Курчавый пушистый пепел мягко падал на окна как снег. Наплыли облака, но в них не было дождя, а вездесущий ветер казался таким горячим и густым, будто сам воздух страдал и горел.
Мужчины нагрузили повозку для перевозки сена бочками с водой и грудами промоченных в реке одеял и джутовых мешков и отправились на борьбу с огнем. Не прошло и часа, как они вновь вернулись за водой, их лица обгорели, волосы были опалены, а глаза полны беспокойства.
Когда водовозы в третий раз вернулись наполнить бочки, Клементина оттолкнула Гаса в сторону, взобралась в повозку и взяла вожжи. Гас был слишком усталым и напуганным, чтобы помешать ей.
Она направила повозку в кипящий котел жара и дыма. Навстречу удирали от прожорливого пламени животные. Большие стаи птиц летели, подгоняемые горячим ветром, крылья их хлопали как сотни флагов. Зайцы, куропатки и перепелки нарезали бешеные круги, словно спятили. Стада оленей и антилоп скакали по трещащей сухой траве, мелькая белыми хвостами. С вываливающимися языками и побелевшими от страха глазами коровье стадо в панике продиралось сквозь заросший кустарником каньон и пересохшие русла ручьев. Огонь несся на пару с нестихающим ветром, уничтожая все, что попадалось на пути.
Пламя лизало высокую траву как тысячи жаждущих острых языков. Огромные столбы черного дыма поднимались к облакам, отражающим от себя огонь, как медное дно сковороды. С неба сыпался дождь из горящих угольков и пепла, похожего на просеянную муку.
Многие мужчины округа Танец Дождя не побоялись выйти на переднюю линию огня, ведь хотя «Ревущий Р» был первым подворьем, которому угрожал пожар, все знали, что ненасытное пламя не ограничится одним ранчо. Шли разговоры о том, что уже в течение многих недель трава походила на сухую гнилушку и степь высохла настолько, что искра от костра или ружейный выстрел могли погрузить в огонь весь мир. Один мужчина пошутил, что хорошо бы пригласить индейцев, чтобы те сплясали танец дождя, но никто не рассмеялся. Двое новых фермеров из долины принесли плуги и провели широкую борозду, создавая противопожарную полосу. Но пламя распространялось слишком быстро, ветер дул слишком сильно, а трава была слишком сухой.
Гас приказал Клементине возвращаться домой, но она осталась. Удушающий черный дым обжигал горло и сушил глаза, зловоние горящей травы жалило нос, а падающие угольки покрывали волдырями кожу, но она осталась и боролась с огнем, стоя за противопожарной полосой вместе с мужчинами и прибивая летящие искры мокрым одеялом.
Сильный ветер гнал и кружил мерцающие угольки, перекидывая их через черную борозду, чтобы зажечь десятки маленьких мерцающих огоньков. Люди бегали от одного к другому, пытаясь затушить их мокрыми одеялами и джутовыми мешками. Рафферти заарканил одну из убегающих коров, вспорол ее и с помощью лассо потащил тушу по земле, проливая кровь. Клементина подумала, что в тот момент с почерневшим от сажи лицом, свирепыми желтыми глазами и темными терзаемыми ветром волосами он как никогда прежде походил на восставшего из ада дьявола.
Мужчины заговорили, что клин клином вышибают. Рафферти и Гас привязали пропитанные керосином веревки к рожкам седел, подожгли их и потащили по траве своего сенокосного луга, жертвуя собственной землей ради общего блага. Но ветер был слишком сильным и порывистым, а трава – слишком сухой.
К вечеру огонь распространился на лес. С громким треском он прыгал по кронам древних лиственниц и сосен. Те взрывались как порох, и словно при извержении вулкана в небо летели горящие шишки и падающие ветки, несущие огненную смерть.
– Мы не сможем остановить его! – крикнул Рафферти поверх рева и треска пламени. Сквозь дрожащее жаркое марево его высокая фигура грозно вырисовывалась на фоне красного зарева. – Нужно уносить ноги!
Остальные мужчины уже вернулись на собственные ранчо и фермы, желая спасти, что удастся. Клементина ударила по дымящейся юбке обожженным одеялом.
– Нет! Мы не можем позволить пожару победить нас! – Горящая ветка упала ей на волосы и была небрежно отброшена в сторону покрытой волдырями рукой. Жар от огня окружал Клементину так долго, что она чувствовала себя иссохшей, пустой и сухой, как шелуха от семечки. – Я не позволю пожару победить нас!
Рафферти схватил ее за руку и закричал на ухо, таща невестку к повозке:
– Возвращайся домой и быстро собирай все, чего не хочешь лишиться! У тебя, возможно, осталось минут десять!
Клементина дико огляделась по сторонам.
– Гас! Где Гас? Я не поеду без него! Без вас обоих!
– Мы двинем следом за тобой, Бостон! А сейчас давай, поторапливайся!
Зак поднял ее как мешок хмеля, усадил на сиденье повозки и ударил по крупу лошади. Кобыла с выпученными от испуга глазами с пронзительным ржанием бросилась вперед, так что Клементине пришлось ползком сместиться, чтобы взять в руки вожжи.








