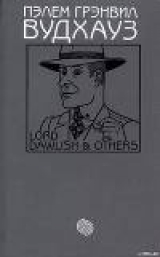
Текст книги "Том 18. Лорд Долиш и другие"
Автор книги: Пэлем Вудхаус
Жанры:
Юмористическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 39 страниц)
– Мои клюшки.
– О, старые добрые дубинки! Конечно, конечно, конечно.
– Дубинки, – тихо прошипел Энгус. – Ты слышала? Самый лучший набор клюшек, какой только бывает! Осторожно, моя дорогая! Не доверяй ему. Как-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь, он тебя подставит, и сильно. Берегись!
– Иди сюда, лапочка, – сказала она, смеясь серебристым смехом. – Мой партнер заждался.
Скрестив руки на груди, Энгус смотрел на них с веранды. Эванджелина, с каменным лицом, не удостоила его и взгляда. Отрешенно и гордо шла она к подставке. Ногги Мортимер, сдвинув шляпу набекрень, вынул из кармана фальшивые усики, прилепил их, отбил чечетку, вымолвил: «Тра-ля-ля-ля», закинул сумку на плечо и последовал за ней.
Быть может (сказал Старейшина), мой рассказ, особенно – реплики Энгуса, навел вас на мысль, что Эванджелине не стоило играть вторую половину матча. Отыграв так первую, она могла бы порвать свою карточку и пойти домой.
Но вы должны принять во внимание, что ревнивый и любящий человек, только что обсмеянный соперником, а там – и любимой женщиной (сперва – в манере гиены, потом – серебристым смехом), итак, вы должны учесть, что он преувеличивает, если не выдумывает. Такие переживания искажают восприятие истины и заостряют речь. Говоря о клюшке, Энгус просто имел в виду, что Эванджелине не удались два удара вверх. Слова о коктейлях были основаны на склонности помахивать легкой клюшкой. Да, Эванджелина сделала ударов на пять больше, чем подобает особе с ее гандикапом, но играла совсем неплохо. Обида на бывшего жениха, как часто бывает, придала ей невиданную силу.
Каждый удар она наносила с отточенной яростью, словно представляя, что на траектории мяча стоит Энгус Мактевиш. Невысокий короткий удар метил в него, равно как и все прочее. Таким образом, она взяла с четырех ударов десятую лунку, а также одиннадцатую и двенадцатую, а четырнадцатую – с двух (если помните, Брейд сказал Тейлору, что это прекрасно, как витраж, отражающий сияние вечности). Словом, сводя все к холодным цифрам, до семнадцатой лунки она сделала семьдесят три удара. Узнав от кого-то, что две возможные соперницы сделали по семьдесят девять, она, естественно, решила, что все идет неплохо. Восемнадцатую лунку она любила особенно и верила, что одолеет ее в четыре удара.
Поэтому мы не удивимся, что она смотрела на Ногги сияющим взглядом. Прилепив усики, он резво покручивал их, и ей казалось, что это очень забавно. Насколько лучше, думала она, этот веселый, легкий человек, чем мрачный Мактевиш – и в качестве кэдди, и в качестве спутника жизни. Этот Энгус, напоминающий замороженный вклад, просто не дает играть во всю силу. Как хорошо, что ей удалось спастись!
– Знаешь, Ногги, – сказала она, – больше всего мне нравится твое чувство юмора. Люди без этого чувства – очень противные. Шотландцы, и вообще… Надуваются из-за невинного, добродушного розыгрыша. Как… ну, скажем, шотландцы.
– Это верно, – согласился Мортимер, приспосабливая фальшивый нос.
– Я бы первая посмеялась. У меня, слава Богу, есть чувство юмора.
– Это хорошо, – одобрил Мортимер.
– Такой уж я уродилась, – скромно сказала она. – Или оно есть, или его нет. Тут мне понадобится новый мяч. Я не имею права на ошибку.
Уверенность в себе не уменьшилась в эту важнейшую минуту. Она видела белый блестящий мяч на деревянной подставке, и эта уверенность держала ее, как держит невидимый газ воздушные шары. Мы, игроки в гольф, знаем чувство, которое посещает нас, если мы прекрасно прошли семнадцать лунок и чувствуем, что все в порядке – и поза, и положение рук, вообще все. Вот – ты, вот – мяч, сейчас ударим его в брюхо, и он улетит на милю с четвертью. Боялась она только того, не перемахнет ли через газон, который был всего в трехстах восьмидесяти ярдах.
Она чуть-чуть раскачалась, потом занесла клюшку и с легкостью ее опустила.
А что же делал Энгус? Какое-то время стоял. Потом ходил по террасе, сдвинув брови, и напоминал членам клуба, видевшим его из комнат, Наполеона на острове Святой Елены. Наконец, ощутив, что ему не хватает места, чтобы выразить себя, он пошел в обход поля и по странному совпадению приблизился к последней лунке именно в тот миг, когда Эванджелина наносила удар. Он был почти рядом, когда его мрачные думы вспугнул мерзкий, крякающий смех за кустами, скрывающими от него подставку.
Он остановился. Смех на поле всегда оскорблял его чувства, а этот он к тому же узнал. Никто, кроме Ногги Мортимера, не смеялся так противно.
«Тьфу», – сказал Энгус, и собирался сказать еще раз, но слово это замерло на его устах. Раздался тот странный звук, какой издает дерн, когда по нему бегут, потом из-за кустов выскочил Ногги, а за ним – Эванджелина, размахивающая клюшкой с железом. Глаза ее горели, как и лицо. Так и казалось, что она хочет вышибить мозги из своего кэдди.
Энгус почти не страдал праздным любопытством, но за этой парой побежал со всей возможной скоростью. Настиг он ее в ту минуту, когда Ногги, уже не надеясь спастись, полез на дерево с редкой прытью, приобретенной, видимо, в швейцарских горах.
Тут Эванджелина увидела Энгуса.
– О, Энгус! – вскричала она, кидаясь в его объятия.
Я всегда замечал, что шотландцы скорей надежны, чем быстры умом; скорей постоянны, чем тонки, но даже такой истинный шотландец сразу заметил, что по какой-то причине прошлое вернулось, Эванджелина снова с ним. Он прижал ее к своей груди, и она постояла так, икая и плача.
– О, Энгус! – проговорила она наконец. – Как ты был прав!
– Когда? – спросил он.
– Когда говорил: «Берегись! Когда-нибудь, где-нибудь, как-нибудь он тебя подставит».
– И подставил?
– Еще как! У восемнадцатой лунки мне нужно было сделать пять ударов, чтобы выиграть, и я попросила его дать мне новый мяч. Знаешь, что он сделал?
– Нет.
– Сейчас узнаешь. Он дал мне м-м-м…
– Что?
– М-м-м…
– Мяч?
– Нет! Мы-мы-мы…
– Мы-мы-мы?
– Да.
– Мы-мы-мы?..
– Мыло! – вскричала она, внезапно обретя дар речи.
Если бы он ее не обнимал, он бы пошатнулся. Его возвышенной душе претили папоротники в клубе и смех на поле, но особое омерзение вызывало то мыло в виде мяча, которое изготовляли мыловары, способные смеяться над святыней. Сколько раз, зайдя в аптеку, чтобы купить зубную пасту, он едва удерживался от крика, увидев эти гнусные шары. До сих пор ему казалось, что предел низости – изготовлять их. Но нет, можно пасть еще ниже. Человек – точнее, существо, внешне похожее на человека, – подсунул эту пакость нежной, чувствительной девушке – и когда? В самом конце важнейшего матча.
– Я как следует ударила по мячу, – продолжала Эванджелина, дрожа при одном воспоминании, – и мне показалось, что мяч раскололся пополам. Кстати, – голос ее стал веселее, – не мог бы ты, мой дорогой, влезть на это дерево и передать мне этого гада? Посмотрим, что можно сделать клюшкой.
Мактевиш покачал головой, словно осуждая насилие, и нежно увел ее. Ответил он только тогда, когда они отошли достаточно далеко.
– Все в порядке, любовь моя. Все хорошо.
– В порядке? Что ты хочешь сказать? Он погладил ее руку.
– Ты была слишком взволнована и не заметила. Прямо над его головой – осиное гнездо. Надеюсь, нас не сочтут кровожадными, если мы решим… А! Слушай!
Покой весеннего вечера нарушили немелодичные крики.
– И смотри, – прибавил Энгус.
Из-за дерева что-то выскочило и кинулось к воде за последней лункой. Оно нырнуло и, видимо, решило подольше побыть в этой стихии, поскольку, высунув голову из неприятно пахнущих глубин, быстро втянуло ее обратно.
– Целительная сила природы, – заметил Энгус. Эванджелина добрую минуту стояла, открыв рот. Потом она закинула голову и засмеялась так звонко, что пожилой джентльмен, отрабатывающий у семнадцатой лунки короткий удар, резко дернул клюшку и послал мяч на восемьдесят ярдов.
Энгус нежно гладил руку Эванджелины. Он был терпим и понимал, что смеяться на поле для гольфа все-таки можно.
В КОНЦЕ КОНЦОВ, ЕСТЬ ГОЛЬФ
Был день ежегодных состязаний для смешанных пар, и Старейшина с другом, приехавшим на уик-энд, направились к краю террасы, чтобы посмотреть, как начнет игру первый из участников. Когда они увидели поле, друг удивленно, даже благоговейно вскрикнул.
– Какая красавица!.. – прошептал он.
Говорил он о молодой особе, только что положившей на подставку свой мяч и с царственным достоинством исследовавшей сумку, которую держал кэдди. Если бы у того было чувство уместности (его у кэдди не бывает), он бы встал на одно колено, как средневековый паж.
Старейшина кивнул.
– Да, – сказал он, – миссис Плинлемон очень ценят в нашем небольшом сообществе.
– Где-то я ее видел, – сказал друг.
– Конечно, в журналах. Кларисса Фитч была очень популярна.
– Кларисса Фитч? Которая перелетела океаны и пересекла Африку?
– Она самая. Теперь ее именуют миссис Эрнест Плинлемон.
Друг задумчиво смотрел, как она вынимает клюшку.
– Значит, вот она кто. Чтобы на ней жениться, нужна большая храбрость. Прямо Клеопатра. А где ее муж?
– Сейчас он к ней подходит. Щуплый такой, в очках.
– Что! Этот сморчок? До он похож на второго вице-президента какой-то компании.
– Душенька, – сказал щуплый человек.
– Не эту клюшку, мой ангел.
– Ну, что ты, кроличек!
– Нет и нет. Возьми с железом.
– Непременно, мой дорогой?
– Да, радость моя, непременно.
– Хорошо. Тебе виднее.
Когда наш мудрец вел гостя обратно в комнаты, тот все еще удивлялся.
– Да, – проговорил он, – если бы сам не услышал, не поверил бы. Скажи мне кто-нибудь, что такая женщина нежно воркует со сморчком, а тот ее поучает, я бы засмеялся. Казалось бы, в этом случае властвует жена…
– Согласен, – сказал мудрец. – Именно так и кажется. Но, смею заверить, правит Плинлемон, вроде бы мягко, и очень жестко.
– Кто он, укротитель львов?
– Нет. Он занимается оценкой убытков. Страхование, морское право…
– Несомненно, прекрасный работник.
– Да, просто ас. Кроме того, он предан гольфу и гандикап у него – четыре. История его любви занятна. Она иллюстрирует истину, в которую я твердо верю – благоговейных игроков охраняет Провидение. В событиях, приведших к свадьбе Эрнеста и Клариссы, видна его заботливая рука.
Года два назад (сказал Старейшина) мисс Фитч приехала на лето к тете, которая живет в наших местах. Сами понимаете, на холостяков это произвело большое впечатление. Они остолбенели. Те, кто годами играл в мешковатых штанах с грязными пятнами, кинулись к портным и заказали гольфы. Они почистили ботинки, повязали галстук, подкрутили усы.
Сильнее всех влюбился Эрнест Фарадей Плинлемон. Когда они встретились впервые, он за полчаса три раза побрился, переменил три воротничка, отдал старьевщику все шляпы и купил португальские сонеты. Позже в тот же день я встретил его в аптеке. Приобретал он бриллиантин и спрашивал продавца, не знает ли он средства против веснушек.
Однако ни он, ни кто другой успеха не имели. Наконец, Э. Ф. П. Пришел ко мне за советом.
– Я умру от любви, – сказал он. – Не сплю, не ем, хуже работаю. Начну считать, а ее лицо появляется передо мной. Как растопить это гордое холодное сердце? Какой-нибудь способ есть, но какой?
Одно из утешений старости в том, что она помогает стоять в стороне от кипящего котла страсти и мирно, спокойно смотреть на его содержимое. Как старейшина здешних мест, я часто видел больше, чем пылкие и молодые участники событий. Мне было ясно, почему Клариссе не угодны ухаживания местных джентльменов, и я попытался объяснить это Эрнесту Плинлемону.
– Вы, молодые люди, не понимаете, – сказал я, – что Кларисса Фитч, по сути своей, склонна к романтике. Она пересекла Африку пешком, хотя быстрее и дешевле ехать поездом. Романтичной особе нужен романтичный друг. Вы, как и все прочие, пресмыкаетесь перед ней. Естественно, она сравнивает вас с 'Мгупи Мгвумпи, и не в вашу пользу.
Он вылупился на меня и приоткрыл рот, отчего стал удивительно похож на рыбу, которую я как-то выудил в Брайтоне.
– С кем, с кем?
– С 'Мгупи Мгвумпи. Если не ошибаюсь, он был вождем племени 'Мгопи и произвел на вашу Клариссу большое впечатление. Не будь он черен, как туз пик, и не имей двадцати семи жен, а также сотни наложниц, что-то могло и выйти. Во всяком случае, недавно она мне сказала, что ищет человека, наделенного духовной мощью вождя, но посветлее и без жен.
– Да-а… – выговорил несчастный.
– Могу дать и другие сведения, – продолжал я. – Вчера она восхищалась героем какого-то романа, который носил сапоги и пинал ими возлюбленную.
Эрнест побледнел.
– Вы действительно думаете, что ей нужен такой… субъект?
– Да.
– А вам не кажется, что молодой человек с хорошим голосом, мягкий и преданный всем серд…
– Нет.
– Пинает сапогами! Во-первых, я не ношу сапог.
– Сэр Джаспер Медальон-Картерет при случае таскал свою подругу за волосы.
– Таскал?
– Да. Таскал.
– И мисс Фитч это нравится?
– Очень.
– Та-ак. Ясно. Понятно. Что же, спокойной ночи. Эрнест ушел, опустив голову. Я с жалостью смотрел ему вслед. Надежды для него не было, и я понимал, как пусты разговоры о целительном времени. Он не принадлежал к сообществу, именуемому мотыльками, не перелетал с цветка на цветок. Специалист по морскому праву подобен зафрахтованному кораблю или идеальному бухгалтеру. Когда он любит, он отдает сердце навсегда.
Не надеялся я и тронуть Клариссу, однако думал, что должен сделать все возможное. Преклонные годы дали мне право на дружбу с девушками, а уж повернуть беседу к их личным делам – легче легкого. То, что у молодого покажется наглостью, оборачивается в старости участием.
Зацепившись за ее сетования на скуку (она уподобила здешнюю жизнь пустыне), я предположил, что надо бы выйти замуж. Она подняла прекрасные брови.
– За одного из этих кретинов?
Я вздохнул. Такие слова не сулили успеха.
– Вам не нравятся наши денди?
С губ ее сорвался смех, напоминающий звуки, которые издает попугай в перуанских джунглях.
– Кто-кто? В жизни не видела таких кроликов. Просто какие-то трупы, полежавшие в воде… – Она на мгновение замолчала. – Вот что, – продолжила она, – как, по-вашему, писательницы берут своих героев из жизни?
Я опять вздохнул.
– Вчера я читала двадцать шестую главу. Леди Памела, на охоте спугнула собак, а сэр Джаспер тут же хлестнул ее нагайкой, чтобы знала свое место. Вот это я понимаю!
Я вздохнул в третий раз. Если женщина ждет не дождется демонического друга, только гениальный торговец подсунет Эрнеста. И все-таки я попытался.
– Один человек, – сказал я, – безумно любит вас.
– Не один, а штук пятьдесят, – возразила она. – Правда, это не люди, а медузы. Какую из заливных креветок вы имеете в виду?
– Эрнеста Плинлемона.
Она снова засмеялась, на сей раз – весело.
– О, Господи! Этот, с «Деревьями»!
– Простите?
– Вчера он к нам пришел, тетя подтащила его к пианино, и он спел «Но только Бог, о, только Бог способен дерево создать».[43]43
«Но только Бог, о, только Бог способен дерево создать» – строки из стихотворения «Деревья» Джойса Килмера (1886–1918). Стихи эти переложены на музыку и были модной песней.
[Закрыть]
Сердце у меня упало. Я не думал, что мой подопечный сделает такую глупость. Надо было предупредить, что именно эта песенка лишает исполнителя последних остатков мужественности. Если бы Чингиз-хан или гунн Аттила пели «как много гнезд в его кудрях», они показались бы робкими и бесхребетными.
– Словом, – сказала Кларисса, презрительно улыбаясь, – вы назвали того, за кого я не выйду даже ради умирающего дедушки.
– У него гандикап – семь, – напомнил я.
– В каком спорте?
– Я имею в виду гольф.
– Что ж, я в гольф не играю, и меня это не трогает. Этот тип – самый угодливый из всех, а ваши места просто кишат подхалимами. Похож он на креветку с гастритом. Дохлый, чахлый, в очках. Спасовал бы перед… ну, казуаром. А что бы он сделал, если бы на него прыгнул лев?
– Несомненно, повел бы себя, как истинный джентльмен, – отвечал я с некоторой сухостью, ибо мне претило ее высокомерие.
– Передайте ему, – сказала Кларисса, – что я бы на него не посмотрела, будь он единственным мужчиной на свете.
Я передал. Мне казалось, что лучше, как-то милосердней, ознакомить его с положением дел, чтобы он не изводил себя пустой надеждой. Отыскав его на седьмом газоне, где он отрабатывал короткий удар, я сообщил ему все, что слышал.
Конечно, он расстроился и, ударив сверху по мячу, загнал его в бункер.
– Заливная креветка? – переспросил он.
– Да. Заливная.
– Не выйдет за меня ради бабушки?
– Дедушки.
– Знаете что, – сказал Эрнест Плинлемон, – видимо, у меня мало шансов.
– Немного. Конечно, если бы вы стукнули ее по голове тяжелой клюшкой…
Он сердито нахмурился.
– Ни за что! Запомните, я ее не стукну. Лучше попробую забыть.
– Да, ничего другого не остается.
– Сотру ее образ из памяти. Уйду в работу. Буду дольше сидеть в офисе. И, – он заставил себя бодро улыбнуться, – в конце концов, есть гольф.
– Молодец, Эрнест! – воскликнул я. – Да, есть гольф. Судя по вашей игре, вы можете получить медаль.
Очки его засияли тем сиянием, которого я жду от моих молодых подопечных.
– Вы думаете?
– Конечно. Только тренируйтесь, как следует.
– Уж я потренируюсь! Всю жизнь мечтал о медали. Одно плохо, надеялся рассказывать об этом внукам. Теперь их вроде не будет.
– Расскажете внукам друзей.
– И то верно. Что ж, хорошо. С этой минуты – никакой любви, только гольф.
Признаюсь, подбадривая его, я немного кривил душой. У нас было по меньшей мере три игрока, которые могли его превзойти, – Альфред Джакс, Уилберфорс Брим и Джордж Пибоди.
Однако, глядя на то, как он тренируется, я чувствовал, что не зря приукрасил правду. Упорная тренировка укрепляет душу, и мне показалось, что Эрнест Плинлемон становится все сильнее. Это подтвердил один случай.
Я спокойно курил на террасе, когда из клуба вышла Кларисса, чем-то расстроенная. Прекрасные брови хмурились, из носа вырывался свист, словно из кипящего чайника.
– Червяк, – сказала она.
– Простите?
– Жалкий микроб!
– Вы имеете в виду…
– Эту очкастую бациллу. Стрептококка с фарами. Певца деревьев. Словом, Плинлемона. Ну и наглость!
– Чем он вас так раздосадовал?
– Понимаете, я попросила его отвезти завтра тетю на дневной концерт. А он говорит: «Не могу».
– Дорогая моя, завтра – летний матч на медаль.
– Во имя всех бородатых богов, это еще что такое? Я объяснил.
– Что! – вскричала она. – Значит, он отказался из-за этого дурацкого гольфа? Ну, знаете! Это… это… В жизни такого не слышала.
Она удалилась, кипя, словно восточная царица, не поладившая с прислугой, а я снова закурил. Мне стало легче. Я гордился Эрнестом. Несомненно, он вспомнил, что он – мужчина и игрок. Если ему достанется медаль, чары Клариссы рассеются. Я много раз это видел. Делая ту или иную ошибку, игроки падают духом и, утратив форму, влюбляются. Потом приходит успех, и они забывают о предмете своей любви. Знакомство с человеческой природой подсказывало мне: если Эрнест каким-то чудом получит эту медаль, у него не останется времени на мечты о Клариссе. Все силы, все время уйдут на то, чтобы гандикап опустился до нуля.
Тем самым, наутро я был рад, что погода хороша и ветерок ласков. Это означало, что игра будет проходить в обстоятельствах, благоприятствующих Эрнесту. Дождь или сильный ветер ему мешали. Сегодня, поистине, был его день.
Так и оказалось. Очки его светились верой в себя, когда он сразу послал мяч на значительное расстояние. В лунку он загнал его с четырех ударов, что неплохо.
Будь я моложе и прытче, я бы следил за всей игрой, но теперь мне как-то удобней в кресле и я полагаюсь на донесения, поступающие с места сражений. Так я узнал, что самые опасные соперники – далеко не в форме. Удары их слабы. Уилберфорс Брим утопил два мяча в озере. Вскоре после этого мне доложили, что Уильберфорс Брим сдался; Джордж Пибоди, продвигаясь к одиннадцатой лунке, напоролся на жестянку из-под сардин; Альфред Джакс будет счастлив, если уложится в девяносто ударов.
– Все трое – псу под хвост, – сказал Александр Бассетт, мой информатор.
– Странно.
– Не очень. Я случайно слышал, что эта Кларисса за вчерашний вечер отказала одному за другим. Они, конечно, расстроились. Сами знаете, если сердце разбито, нет-нет да и промажешь.
Конечно, я огорчился – все же неприятно, когда игроков с гандикапом 0 касается беда, но быстро оправился, подумав, как это важно для Эрнеста. Мало ли что бывает, но теперь победа обеспечена. Следующая фраза подкрепила мои надежды.
– Плинлемон хорошо играет, – сказал Александр. – Размеренно и красиво. Теперь, когда тигров нет, я ставлю на него. Правда, есть одна опасность, какой-то Перкинс с гандикапом двадцать четыре. Говорят, он таит сюрпризы.
Бассетт ушел, чтобы вести дальнейшие наблюдения, а я, вероятно, задремал, потому что, открыв глаза, увидел, что солнце – намного ниже. Стало прохладнее. Я подумал, что матч завершается, и поднялся было, чтобы пойти к последней лунке, но тут на пригорке показалась Кларисса.
Кажется, я описывал, какой она была, рассказывая о том, что Эрнест отказался отвезти ее тетю на концерт. Такой же была она и теперь – нахмуренный лоб, опасный блеск в глазах, пар из тонко очерченных ноздрей. Кроме того, она прихрамывала.
– Что случилось? – озабоченно спросил я. – Вижу, вы хромаете.
Она издала резкий звук, напоминающий боевой клич западноафриканской дикой кошки.
– Захромаешь, если тебя ударят мячом!
– Что!
– То. Я остановилась, чтобы завязать шнурок, и вдруг в меня буквально врезался мяч.
– Господи! Где же?
– Неважно.
– Я имею в виду, где это случилось?
– Там, на поле.
– Перед восемнадцатой лункой?
– Не знаю, как это у вас называется.
– Игрок только что нанес удар?
– Он стоял на каком-то клочке травы.
– Что он сказал, подбежав к вам?
– Он не подбегал. Ну, подбежит – не обрадуется! Дайте мне две минуты, чтобы прилепить арнику и попудрить нос, и я готова, клянусь священным крокодилом. Я жду. Я покажу этому несчастному микробу!
Услышав знакомое слово, я вздрогнул.
– В вас попал Эрнест Плинлемон?
– Да. Подождите, пока я его увижу!
Она захромала в направлении клуба, а я поспешил к лунке предупредить Эрнеста, что его крови жаждет женщина, чей укус может оказаться смертельным.
Сейчас тут все иначе, а тогда восемнадцатая лунка была прямо под террасой. Человеку умелому ничего не стоило загнать в нее мяч с двух ударов. Подходя, я увидел Плинлемона и его партнера, в котором узнал известного недотепу. Эрнест помогал ему извлечь мяч из зарослей. Собственный его мяч синел на склоне, ярдах в восьмидесяти от газона. Я посмотрел на него с уважением. По словам Клариссы, он летел быстро, когда ударился об нее. Если бы не этот злосчастный случай, он находился бы по меньшей мере на пятьдесят ярдов дальше. Замечательный удар.
Управившись с недотепой, Эрнест пошел к своему мячу. Подошел туда и я. Он растерянно заморгал и я с удивлением увидел, что очки исчезли.
– А, это вы, – сказал он. – Сперва я вас не узнал. Разбил очки у пятнадцатой и неважно вижу.
Я пощелкал языком, выражая сочувствие.
– Значит, вышли из игры?
– Вышел? – вскричал он. – Да вы что! Мне даже лучше, могу сосредоточиться. Знаю, что мяча не увижу, и доверяюсь судьбе. Медаль – моя.
– Да?
– Несомненно. Сейчас я беседовал с Бассеттом, и он сказал, что Перкинс уложился в семьдесят пять ударов. За мной никого нет, а я сделал семьдесят один, так что выйдет семьдесят два, в крайнем случае – семьдесят четыре. Если бы не овца, мне бы вообще оставался один удар. Из-за нее я потерял по меньшей мере пятьдесят ярдов.
– Эрнест… – начал я.
– Та-акой удар, и вдруг – овца! Стоит на среднем газоне. Надо было подождать, но я ждать не люблю. В общем, я решился и, кажется, угодил в нее. Если бы не она, мяч бы пролетел милю! Но это неважно. Ну, сделаю три удара.
Я подумал, стоит ли предупреждать его. Кларисса сказала «две минуты», но вряд ли ей понадобится меньше десяти. Он может успеть. И я промолчал, следя за тем, как он делает прекрасный удар вверх клюшкой с железной головкой.
– Куда он полетел? – спросил Эрнест.
– Вперед, – ответил я. – Но не к самому флажку.
– На каком расстоянии от флажка?
– Футах в пятнадцати.
– Ну, это легко, – сказал Эрнест. – Это мне раз плюнуть.
Я тактично промолчал, но несколько растерялся. Мне не нравилась его нагловатая уверенность. Конечно, вера в себя необходима игроку, но о ней не говорят, не облекают ее в слово. Боги нашей игры карают хвастунов.
Газон был непростой, какой-то волнистый. Иногда к концу матча мне казалось, что он вздымается и опадает, словно море на сцене. Эрнест ударил хорошо, но не очень. Он не учел бугорка, из-за которого мяч остановился в полутора метрах от лунки.
Однако уверенность не поколебалась.
– Сейчас мы его загоним, – сказал Эрнест.
Партнер, подошедший к нам, увидел выражение моего лица и поджал губы. Он, как и я, не верил, что из этой бравады выйдет что-то путное.
Эрнест Плинлемон нацелился на мяч. Линия была четкой, дело оставалось за силой. Увы, ее не так уж много к концу нелегкого матча. Сперва мне показалось, что близок счастливый конец. Мяч направился прямо к лунке, и я уже ждал веселого звяканья, но что-то застопорилось. Два фута… один… шесть дюймов… три дюйма… два… Я затаил дыхание.
Докатится? Сможет ли?
Нет! Меньше чем за дюйм до лунки он поколебался и встал. Эрнест толкнул его, но было поздно. Он сыграл вничью, и ему предстояли все муки еще одного, решающего раунда.
В такие минуты глупый человек говорит «Не повезло» или что-нибудь столь же банальное. Но мы с партнером, старые игроки, знали, что лучше всего молчать. Обменявшись взглядами, выражавшими жалость и боль, мы заметили, что Эрнест ведет себя довольно странно.
Зная его кротость и сдержанность, я удивился искаженному гневом лицу. Что там, я был поражен. Глаза горели, жилы на лбу вздулись. Я ждал, что он скажет, и вот он спросил:
– Где овца?
– Какая овца? – не понял партнер.
– Такая. В которую он врезался. – Глаза его стали вращаться. – В жизни не делал такого удара! Был бы рядом с флажком, если бы не овца.
– По-моему, это была не овца, – сказал партнер. – Больше похожа на мисс Фитч.
– На мисс Фитч?!
Я вздрогнул. Недавние треволнения выбили у меня из головы, что я хотел предупредить его. Что ж, предупредим сейчас. Кларисса может выйти с минуты на минуту, изрыгая пламя.
– Эрнест, – поспешил сказать я, – наш друг совершенно прав. Мисс Фитч завязывала шнурок…
– Что?
– Шнурок.
– Что!
– Ну, на башма…
Голос мой угас. Кларисса стояла на краю газона, скрестив руки. Глаза ее сверкали.
– Минуточку, – слишком спокойно сказал Плинлемон. – Вы говорите, что эта чертова баба стояла посреди поля, чтобы завязать какие-то поганые шнурки? Во время матча? Когда мне нужно только четыре удара! Нет, я не могу! Шнурки!
Лицо его потемнело. Зубы звякнули. Рот открылся, нос задвигался, но он не нашел слов и с силой швырнул клюшку. Угодила она в Клариссу, которая подбиралась к нам медленным зловещим шагом снежного барса.
Этой минуты я никогда не забуду. Каждая мелочь живет в моей памяти. Словно все случилось вчера, я вижу багряное небо заката; длинные тени; Клариссу, скачущую на одной ноге; Эрнеста, чей гнев исчез, сменившись удивлением и ужасом. Я слышу, как после пронзительного крика воцарилась странная тишина.
Не могу сказать, сколько она длилась, в такие минуты не меряешь времени. Но рано или поздно Кларисса перестала прыгать и, держась за лодыжку, начала говорить.
Девушке в ее положении очень помогает знание языков. Я не уверен, что она смогла бы сказать по-английски и десятую часть того, что хотела. Новее распоряжении была добрая дюжина африканских диалектов, и пламенная речь внушала трепет даже тем, кто ничего не понимал. К чему слова? Общий смысл был ясен. Я машинально отодвинулся от Эрнеста, опасаясь, чтобы меня не поразила молния. Так бежали дети Израиля от того, кто, на свою беду, рассердил Иеремию.
Эрнест стоял ошеломленный. Можно представить, что он чувствовал. Он чуть не раздробил прекраснейшую из лодыжек. Сэр Джаспер Медальон-Картерет скривил бы губы или даже взял клюшку с железной головкой, но Эрнест – не этот сэр. Казалось, что он вот-вот свалится.
Слова лились потоком над мирной лужайкой. В сущности, они могли литься без конца. Но вдруг, в середине особенно сильного пассажа, Кларисса сорвалась. Закрыв лицо руками, она зарыдала и снова принялась прыгать.
Эрнест ожил, словно развеялись чары. До сих пор он стоял недвижимо, теперь – дернулся, словно вспугнутый лунатик и двинулся вперед, по-видимому, чтобы упасть к ее ногам и биться головой об землю. При этом он протягивал руки, как бы взывая о милости. Когда он подошел вплотную, Кларисса подняла голову, и он угодил ей в правый глаз.
Удар был мастерский. Кларисса упала рядом с газоном, словно ее подстрелили. Вот она здесь; вот ее нету, зато есть песчаный фонтанчик, указывающий на то, что она свалилась в бункер.
Эрнест снова застыл на месте. Как и прежде, было нетрудно угадать, о чем он думает. Перед его духовным взором сменялись события. Он любил эту девушку безумно, но, кроме пения «Деревьев», за пятнадцать минут попал в нее мячом, ударил ее клюшкой по ноге, заехал ей в правый глаз. Я видел, что он хочет поправить очки и опускает руку, обнаружив, что их нет. Так и казалось, что он – в трансе.
Кто-то заскребся рядом с нами, и над краем газона возникла голова Клариссы. Я радостно вскрикнул. Правый глаз наливался багрянцем, но левый светился любовью.
Только что я говорил, что читал мысли Эрнеста. Теперь, еще легче, я читал мысли Клариссы. Мне было понятно без слов, что в бункере она все обдумала и пришла к неожиданным выводам.
Первый удар она приписала простой неосторожности, второй – случайности. Но третий, без сомнения, был нанесен сознательно. Щуплый очкарик обладал душой разгневанного носорога. Он не мог допустить, чтобы всякие особы ругали его на суахили. А если так, значит, и те два удара он нанес намеренно. Обезумев от любви, он применил именно те методы, о которых она мечтала. Сам вождь племени 'Мгопи не доходил до этого, а сэр Джаспер Медальон-Картерет перед Эрнестом – провинциальный фат.
Она потирала то глаз, то лодыжку, и вдруг, раскинув руки, кинулась к Плинлемону, восклицая:
– Мой герой!
Он не совсем понял.
– А? – спросил он. – Кто?
– Мой чудесный, смелый, великий герой.
Он заморгал.
– Это я?
Она обняла его в полном упоении, и даже он, хотя и не очень четко, понял главную мысль. Конечно, он удивился, но у него хватило ума сделать свою часть дела. Приподнявшись на цыпочки, он поцеловал ее, а потом, коротко вздохнув от счастья, приспособился к ее объятиям, словно так и надо. Я обернулся к партнеру, во время этих событий отрабатывавшему короткий удар, и сказал:
– Пошли. Пусть они побудут вдвоем.








