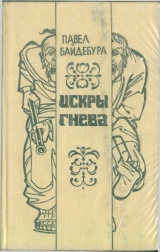
Текст книги "Искры гнева (сборник)"
Автор книги: Павел Байдебура
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
…Пароконный воз, нагруженный горючим камнем, уже переправился на тот берег, готовый к отъезду.
– Что ж, поедем, сдадим теперь нашу находку в, Берг-коллегию, – радостно проговорил Капустин. – Пусть там знатоки-учёные мудрят, испытывают его огнедействие.
– Да его ведь не раз уже испытывали здесь в кузницах и печах, – сказал Гордей. – Жар даёт вон какой!
– Сам видел, что горит, но всё равно в Берг-коллегию нужно доставить. Они там по-своему…
– Всё будет хорошо! – заверил Гордей. – Вот посмотришь!
– Должно так быть. А тебе спасибо за доброе слово, спасибо за то, что помог нам найти уголь, – Капустин положил руку на плечо Головатого. – Мы исполнили волю царя, сделали хорошую услугу его величеству…
– Не царю! – вспыхнул Гордей. – Людям!
– И людям, – согласился Капустин. По его открытому, отороченному русой, слегка курчавой бородкой лицу скользнула добрая улыбка. – И людям, – повторил он, бросив взгляд на нахмурившегося Гордея.
– Готово! – послышалось с противоположного берега.
– А я, друже, снова о том, о чём уже говорил. Давай, Гордей, с нами. Из тебя выйдет хороший знаток руды, – прощаясь, напомнил Капустин.
– Нет! – твёрдо ответил Головатый. – У каждого своя дорога.
– Ты ж намекал мне, что оставляешь этот край…
– Но не оставляю своего дела. – Гордей поправил недоуздок, подтянул подпругу седла и отпустил коня.
Оборванный разговор не возобновлялся.
Капустину не всё было понятно в словах Гордея. "Какая же у него своя дорога?.." Ему очень хотелось привлечь к рудному делу этого уже немолодого сметливого человека.
А Гордей между тем размышлял: "И на кой чёрт он пристёгивает сюда того царя? Стараешься для людей, а он, видишь ли: услуга его величеству…"
– Готово! – снова долетело с того берега.
– Иди! – Головатый отступил, дал дорогу.
Капустин подошёл к плоту, которым должен был переправиться на другой берег, но вдруг вернулся назад.
– Нет, так не годится, – проговорил он дрогнувшим голосом и, раскрыв для объятий руки, шагнул к Гордею.
Головатый тоже шагнул навстречу Капустину. Они сжали друг друга в объятиях, расцеловались и разошлись…
Гордею казалось, что он до сих пор ещё слышит голос Капустина и перестук колёс его воза. Но вокруг стояла тишина. Только в воде всплёскивала-жировала рыба да в кустах ивняка перекликались птицы. Туман рассеялся, стало ясно. Посреди Донца солнце топило свои золотые лезвия-лучи, играло неудержимое кипение. Казалось, что вода вот-вот взволнуется – и шумные волны хлынут на берег.
– Вот и окончилось моё безделье, – сказал сам себе Гордей. – Да, окончилось.
Он присел на корточки, зачерпнул пригоршню воды, напился, какой-то миг прощально любовался быстриной, потом напоил коня и, ведя его за повод, направился в глубь сосновой чащи.
…Вечером Головатый выбрался из лесной чащи. Позади, на севере, остался Донец с его зелёными берегами, широкими поймами, непролазными чащами, с полянами никогда не кошенных трав.
Гордей имел достаточно времени, чтобы подумать о том, как ему быть дальше, куда податься? В мысли лезло одно, давно задуманное: "Прощайся-ка, казаче, с Дикопольем и – на Правобережную Днепровщину, на обездоленную панами Украину! А что делать там – подскажет сердце. Может быть, придётся собрать повстанцев-дейнеков в рубайском или в уманском лесах. А может, махнуть и на Побужье, где ещё, наверное, тлеют, готовые вспыхнуть, искры гнева, оставленные отрядами Семёна Палия?.."
Но легко сказать "прощайся". А сделать это не просто. Ведь даже намерение оторвать себя от того, к чему прижился, больно бередит душу. Это же здесь вихрился тревожный дух воли! И ты, Гордей, вместе с побратимами-булавинцами шёл на врага… Жаль, не осуществилось желаемое: развеялся, угас дух борьбы и на Дону, и на Донце, и на Айдаре. В горах и в долинах – всюду могилы боевых побратимов. Но те, кто остался живым, должны по-прежнему действовать – будить повсюду бунтарский дух. Поэтому негоже, Гордей, прощаться… Надо сначала высечь здесь из людских горячих сердец надёжные искры гнева…
С такими мыслями выехал Головатый на степной простор Дикого поля.
Давно он не был здесь, но по известным ему приметам узнавал эту местность. Вон там, за лесной каймою, городок Тор. Немного правее, в степной мглистой долине, где виднеется, словно запруда, узкий горбатый перевал, – река Бахмутка. Она неровной дугою поворачивает на юг и течёт к соляному городку Бахмуту. Туда, в тот городок, Гордей и держит путь. Но поедет он не берегом реки, а стороной – буйно-травной степью. Так безопаснее. Не встретишься с нежелательными людьми. А если даже кто-то и преградит тебе дорогу, то есть где разминуться – можно спрятаться в заросшей высокими травами лощине или в густолиственном буераке.
Конь шёл ровным шагом, выбирая где удобнее. Иногда его грудь раздвигала высокие густые полынные заросли. Сбитая тускло-серая горьковатая пыльца забивала дыхание, клубилась вокруг серой метелицей. Через некоторое время начали всё чаще встречаться кусты тёрна, и Головатый свернул на торный шлях.
Дорога стелилась к Бахмуту, а Гордей всё порывался повернуть на запад. Если переправиться через речку Бахмутку и проехать немного по-над Северским Донцом, то вскоре очутишься в селе Маяки. Там живёт бывший понизовец Пётр Скалыга. Вместе с ним в отряде Кондрата Булавина Головатый мчался от Днепра к Дону, к Хопру. Кажется, именно в этих местах они переходили Бахмутку, когда с атаманом-булавинцем Семёном Драным рвались к местечку Тор, чтобы вступить в бон с царским войском.
Головатому очень хочется повидаться с побратимом Петром Скалыгой.
"Хорошо было бы побывать и в соляном городке, – думает Гордей. – Разыскать друзей, вспомнить бывальщину: огненный вихрь, смертельные бои-сечи за волю… Да, хорошо бы… Но сначала нужно побывать в Бахмуте, пробраться к тайнику, где спрятаны ценности и оружие, убедиться, что всё цело, решать, как быть дальше с ними. А тогда уже можно думать и о другом…"
Смеркалось. Городок обступала тьма. В широкой низине над рекой мигали в окнах хат огоньки. Над соляным промыслом сквозь чёрную пелену ночи в небо вздымалось бледноватое зарево.
За околицей в зарослях Головатый стреножил и пустил пастись коня. Там же, около приметного дерева, оставил свою бурку и направился к околице городка. Никем не замеченный, он миновал солеварни, перебежал улицу, что вела к мостку через речку, садами добрался к крепости и залёг в дубовой рощице вблизи церкви.
Церковь в Бахмуте – самая приметная постройка. Округлым, будто огромная груша, куполом она величаво возвышалась над приземистыми хатками, над вершинами деревьев. Церковь эту возвели казаки Изюмского полка, которые селились над Бахмуткой. Они варили здесь соль и несли сторожевую службу в крепости.
Когда совсем стемнело, Головатый, убедившись, что поблизости нет никого, вышел из засады. Крадучись подобрался к церковной стене, к её северному крылу.
Там на уровне одного аршина отмерил от каменного фундамента растопыренными пальцами – большим и указательным – влево двенадцать пядей, нашёл на кирпиче неглубокую трещину. От той метки отмерил ещё три пяди вниз, к ребру ничем не приметного кирпича, и начал его расшатывать. Но кирпич не поддавался, лежал неподвижно.
"А может быть, я ошибся?" – подумал Гордей.
Он перемерил во второй раз. Но пальцы снова коснулись того же кирпича. Тогда Гордей для измерения взял расстояние между большим и средним пальцами. Когда он перемерил в третий раз, то под рукой оказался уже новый кирпич. Надавил на него. Кажется, пошатнулся. Гордей надавил ещё раз, затем ухватил за едва заметный выступ и вытащил. В неглубокой выемке в стене нащупал то, что искал: большой медный ключ.
У дверей церкви Головатый остановился, осмотрелся по сторонам, прислушался. Потом осторожно отомкнул замок, вытер саквами[10]10
Перемётные сумки.
[Закрыть] пыль с сапог, вошёл в церковь и запер за собой дверь. Ощупью добрался до алтаря и полез под широкий, накрытый ковром престол. Под ним на каменной плите нащупал небольшое, как подковка для сапог, углубление. Правее от него на другой плите было такое же углубление, но не посредине, а с краю. На эту плиту Гордей сильно надавил рукой, ещё и ещё… Наконец плита плавно сдвинулась с места, открыв узкое, как нора, отверстие. Головатый просунул в него саквы, а потом протиснулся и сам.
Сначала пришлось ползти, но вскоре ход стал выше – можно было подняться на ноги и идти во весь рост. Пробираясь по-над стеной, укреплённой дубовыми горбылями, Гордей ощупывал руками замотанные в рядна, укутанные паклей, смазанные жиром ружья, пики, бердыши, ятаганы, пистолеты. Всё это спрятано здесь Кондратом Булавиным, Семёном Драным и их боевыми побратимами.
В противоположном конце подземелья, в боковой нише, на каменном фундаменте стоял медный в пол-аршина высотой котёл. Головатый снял с него ковёр, потом деревянную, похожую на большую сковороду крышку, опустил руку, пощупал. Котёл всё так же был полон золота и серебра, как и много лет назад. Гордей взял было несколько золотых пластинок, но тут же бросил их обратно в котёл. Раздался тонкий звон, будто кто-то коснулся сразу многих туго натянутых струн. Головатый прислушался к этим звукам, и в его воображении встала вдруг картина прошлого…
Степь… Высокое чистое небо. Вокруг омытая весенними дождями густая, яркая зелень. И всюду цветы: жёлтые, синие, голубые… Празднично… А они, несколько человек, едут опечаленные, молчаливые, хмурые. Душу каждого бередит жгучее горе – проигран бой, погибли товарищи, побратимы. Там, на поле битвы, около городка Тора лежит и их атаман Семён Драный. Не сосчитаешь павших… Оставшиеся в живых разбрелись по свету: одни подались в дикопольские трущобы, другие прячутся в лесных чащах, по-над Северским Донцом.
А они, четверо, вырвавшись после кровавой сечи из окружения полков Шидловского, направляются на юг. Впереди шли солевар Никита Жура и понизовец Пётр Скалыга. Гордей Головатый и ещё один повстанец продвигались на некотором расстоянии от них. Они сопровождали воз, нагруженный оружием и повстанческой казной.
Ехали только ночью. Днём прятались в буераках и камышах. На рассвете под воскресенье подъехали к соляному городку Бахмуту, притаились в густых зарослях.
День стоял погожий, тихий. Они перевязали друг другу раны, отдохнули и начали чистить, а затем заворачивать в рядна и паклю оружие. Когда стемнело, пробрались к церкви. Один Никита Жура знал тайник Кондрата Булавина. В ту ночь в этот тайник они перенесли оружие, ссыпали в котёл золото и серебро. Когда управились с делом, Никита Жура снял с головы шапку и тихо и в то же время торжественно сказал:
– Всё, что здесь сложено до нас и нами, атаманами Булавиным и Драным завещано на "святое дело". Так говорили когда-то они, так ныне доводится говорить и мне. Поклянёмся же, друзья-побратимы, не забыть этого!
– Клянёмся! – произнесли все они в один голос.
– Поклянёмся, – продолжал Никита, – беречь нашу тайну от враждебного глаза и уха, от вражьих рук!
– Клянёмся беречь!..
– Сокровища эти можем брать лишь для борьбы с врагами. А если при крайней нужде понадобится и для себя, то брать только одну горсть!
– …Только одну горсть!..
Когда вышли из подземелья, закрыли снова под престолом люк плитой, полами одежды и шапками замели свои следы. Двери церкви замкнули, ключ спрятали в условленном месте, затем попрощались, пожелали друг другу лучшей доли и разошлись в тёмную ночь разными путями-дорогами.
Отряды не покорённых царским войском булавинцев оставили Дон, диконольские просторы Украины и пошли на Кубань. В Петербурге, Черкасске, Воронеже, Изюме и во многих других городах считали: все «пущие завотчики» наказаны, а чернь, беглецы и работные люди усмирены.
Борьба бедняков за свободу немного угасла, но не прекратилась полностью.
Отряды повстанцев по-прежнему появлялись на берегах Донца и продолжали громить имения не в меру ретивых богатеев. Вскоре Гордей Головатый и Никита Жура побывали снова в подземелье под церковью, взяли десятка два пик, пистолетов, ятаганов… Оружие опять хорошо послужило им, но недолго.
Зимой, когда выпал большой снег, по следам повстанцев увязались драгуны и казаки Изюмского полка, и повстанцам пришлось рассеяться. В те дни Гордей в третий раз побывал в подземелье и оставил там своё оружие. Но не навсегда – до благоприятного времени. Однако это благоприятное время до сих пор не наступало. Да и сейчас, кажется, оно ещё не пришло.
Вот это ты, наверное, в последний раз здесь, подумал Гордей. А кто же наведается сюда после тебя?.. Никита погиб в бою с драгунами, Петро не годный на ноги, сидит на своих Маяках. А от четвёртого побратима ни слуху ни духу – наверное, тоже погиб. Вот так… А может быть, ты найдёшь кому доверить тайну? Живые ж пока ещё побратимы, с которыми плечо к плечу шёл в сечу. Одни в Ясеневом, другие на хуторах: Зелёном и Овдеевом. Поищи, может быть, найдёшь…
Проверив сокровища, Головатый взял себе пригоршню звонких монет. В углу отыскал свои два пистолета и ятаган, которые пролежали здесь много лет. Осторожно выбрался из церкви и поспешил в рощу, где оставил коня и бурку.
В небе трепетали, искрились ломкие серебряные копья, мерцала бледная туманная полоса Млечного Пути – вечного помощника путников в поисках верной дороги.
Головатый лежал на спине с открытыми глазами и непроизвольно прислушивался. Вот среди зарослей травы зашуршала мышь, а может быть, это пробежал ёж… Вот тонко, едва уловимо прошелестел опадающий лист. А золотые ресницы звёзд шевелятся, дрожат. Свет луны падает на ветки, траву, всё вокруг наполнено каким-то тёмно-синим, холодным мраком, тишиною.
Гордею казалось, что он лишь на какой-то миг закрыл глаза, но когда открыл их снова, то увидел, что светлая полоса на небе заметно переместилась на запад, начинало уже благословляться к рассвету.
Сон больше не шёл. В голову Гордея полезли всякие непрошеные мысли, начали настойчиво осаждать воспоминания, будто кто-то посторонний подсказывал их, воскрешая давнее, полузабытое.
Перед глазами Гордея предстало, словно ожило, сечевое товарищество. Он увидел себя в своём Уманском курене в те дни, когда прибыл туда юношей, вырвавшись из ярма пана Потоцкого. Припомнилась первая стычка с татарским чамбулом, что двигался из Крыма на Украину. Та сеча почему-то связывалась с другой, которая произошла спустя много лет на Айдаре, около городка Закотного с казаками черкасского атамана Максимова. Одно событие всплывало за другим. Воображение снова перенесло Гордея к Днепру, к Кодаку, на Сечь, в тот же Уманский курень, где они вдвоём с Кондратом Булавиным писали "прелестные письма", чтобы разослать их по Украйне и Дону. Ему вспомнились даже отдельные строчки: "…добрым людям и всяким чёрным людям всем та-кож стоять в купе за одно… А которым худым людям и князьям, боярам, и прибыльщикам, и немцам, за их дело отнюдь бы не молчать и не спущать…"
Прибыло их на Сечь во главе с Булавиным двенадцать человек. И как ни упирался кошевой Кость Гордиенко, а ранней весной 1708 года за Булавиным всё же пошло несколько тысяч понизовцев. Бился Головатый за волю на Дону, Слобожанщине, бился и в отрядах булавинца Семёна Драного около городка Тора.
"Эх, разбередил свою душу, – вздохнул Гордей. – Это, наверное, признак того, что стареть начал. Побывал, видишь ли, в том Бахмуте, где в последний раз виделся с побратимами, и сразу растревожило, потянуло на слезу. А может быть, это оттого, что отстранился от настоящего дела, долго бил баклуши с Григорием Капустиным, искал те чёрные горючие минералы? Но это же на пользу людям!.. Да, каждому своё… Григорию – в Берг-коллегию, а мне… Куда же мне?.." – Головатый задумался.
Чтоб избавиться от этих неприятных мыслей, Гордей поднялся, походил по поляне и снова прилёг на том же месте на разостланной бурке, под кустом боярышника. Однако покой к нему по-прежнему не приходил.
Головатого опять начала тревожить мысль: к кому попадёт всё то, что лежит в бахмутском подземелье? Где найти крепкие, надёжные руки и сердце?
"А кому доверить своё оружие?.." – и Гордей накрыл пятернёю два пистолета. Почти сорок лет они были у него за поясом. В руке держал крепко, верно. Один пистолет большой, с длинным стволом, с посеребрённой рукояткой, – память старого сечевика Небабы. Гордей подбросил на руке пистолет, и ему вспомнилось…
Летний тихий день. Послеобеденная пора. Понизовцы упражняются – показывают друг перед другом своё умение орудовать саблей, ятаганом, попадать в цель. Ещё не обкуренных пороховым дымом новичков обучал Небаба.
– Нападай проворней!..
– Становись ровно! Не сутулься!..
– Да не отступай, не отступай, сучий сын!..
– Наседай сбоку! – слышался его то спокойный, то резкий, осуждающий голос.
– А ты чего пришёл сюда? Мух считать? – спросил Небаба Гордея, который стоял в сторонке.
– Нечем, – признался смутившийся Гордей.
– Он только на той неделе прибился…
– Наш, уманский. С берегов Синюхи, – вступились за Гордея понизовцы.
– На мой, – Небаба вытащил из-за пояса пистолет и подал Гордею.
– А ну посмотрим!
– Посторонитесь, влепит в пузо и…
– Если бы в пузо, а то…
– Да пусть бабахнет хоть в небо…
– Может быть, в первый раз держит в руках… – начали потешаться шутники.
Головатый прицелился и влепил пулю в зубы нарисованного на доске оскаленного лысого пана.
– А ну-ка попробуй ещё, – сказал Небаба, заряжая снова пистолет и подавая его Гордею.
Когда Гордей не промахнулся и в третий раз, старый сечевик спросил, где он научился так метко стрелять.
– На панской воловне, из бузиновой пукалки, – признался Гордей.
– Из пукалки? – удивился Небаба. – Ты смотри, сто болячек ему в бока, из бузиновой! Но теперь ты, казаче, будешь стрелять из настоящего! – И он заткнул Головатому за пояс пистолет…
На другом пистолете, немного меньшем, с витиеватыми рисунками на стволе, нащупал кончиками пальцев две вычеканенных серебряных буквы – "И. С.".
"А кому ж этот подарок Ивана Сирка?.. – подумал Головатый. В груди у него вдруг колыхнулась терпкая щемящая волна. – А может, удастся пронести? – начал успокаивать себя Гордей. – Оружие пригодится и там, на Правобережье, для разговора с ясновельможными… Правда, на дорогах, по которым придётся идти, очень много застав, караулят на берегах Северского Донца, около Изюма, Полтавы и по-над Днепром…"
Откуда-то донёсшееся тягучее, завораживающее "курлы" прервало его мысли. Гордей прислушался, глянул в небо, но журавлиного клина не нашёл. Млечный Путь уже рвался на части, мерк, исчезал. Снова донеслось едва слышное "курлы", оно упало на веки Гордея и сомкнуло их. И вместо Млечного Пути Головатый вдруг увидел свою родную степную реку Синюху…
Он быстро находит мелкую переправу и вскоре оказывается на той стороне речки. Широкая, заросшая густой осокой пойма над оврагом становится всё уже и уже; в лесной чаще спрятались белостенные, крытые соломой и камышом хатки… Гордей минует знакомые соседние усадьбы, идёт огородами, пробирается сквозь густолиственный вишняк. Янтарные, ещё не совсем спелые грозди ягод гнут к земле ветви. Гордей, не останавливаясь, на ходу хочет сорвать несколько ягод, но в это время раздаётся отчаянный громкий крик. Гордей бежит на этот крик и видит на тропке сестру Катрю с ребёнком на руках.
"Братик, родной, спасай!.." Сестра ухватила его за руку, подвела к сараю. Там, на потёртой, сгнившей соломе, лежит Охрим, муж Катри. Три дня назад Охрим заболел и не смог выйти на панские воловни. Его выпороли за это кнутами. Больной не вышел и на второй, и на третий день. Тогда к нему прибыл сам пан эконом. Он приказал Охриму встать. Но тот не мог даже двинуться с места. Пришедший в ярость эконом несколько раз опоясал его арапником, потом озверело стал бить ногами…
Бесчувственного Охрима отлили водой. Он лежал неподвижный, едва дышал. Худое, посеревшее лицо покрывали синие полосы от ударов. На груди и висках запеклась кровь.
Увидев Гордея, Охрим силился что-то сказать, но не смог. Шевельнул пересохшими устами и закрыл глаза. Из-под его век выкатились и застыли две крупные, смешанные с кровью слёзы.
Стиснув зубы, Гордей молчал. Его грудь распирали пекущая боль и гнев.
Над могилой Охрима он дал клятву отомстить. И в ту же июньскую ночь пламя над панским имением освещало Гордею дорогу на юг…
Головатый проснулся. Утренняя заря обнимала уже полнеба. Выпала роса. Похолодало. Лёгкий ветерок, играл листьями, покачивал ветви деревьев, разгонял в низине беловатые клубы тумана. С севера по ту сторону Бахмутки синеву неба укрыла сереющая мгла, и было непонятно: то ли это ещё не улеглась степная пыль, то ли это – скопление дыма, который валил и валил из бахмутских солеварен.
Когда взошло солнце, Гордей старательно почистил оружие, проверил, не отсырел ли порох, зарядил пистолеты, но не воткнул их, как принято за пояс, а положил в саквы и тронулся в дорогу.
…Небольшой хутор примостился над глубоким и длинным оврагом. Казалось, будто полтора-два десятка избёнок внезапно выбежали из широких зарослей болотной осоки, но вдруг, испугавшись бескрайней равнины, остановились и навсегда вросли в эту украшенную степными цветами землю.
Где именно стоял шалаш-зимовник основателя поселения, казака Овдия, достоверно никому не было известно. Хотя старожилы показывали на какую-то разваленную, заброшенную землянку. Вокруг неё – пережжённая глина, пепел, черепки и остатки низкорослого вишняка. От завалинки к оврагу тянется глубокий ров, которым, видимо, во время опасности хозяева убегали в густые камыши, что растут в овраге.
Как только вдали показались соломенные крыши и сады, Головатый свернул в ближайший лесок, оставил там коня и пешком направился к хутору. Здесь он был впервые, и поэтому ему пришлось расспрашивать у встречных, где живёт Пилип Стонога.
Усадьба Стоноги была обсажена акациями, клёнами, обнесена частоколом. За изгородью – добротная изба, хлевы, рига, сараи, во дворе – всякий инвентарь, возы, мажары…
Пилип встретил Гордея, казалось, радушно: стиснул в объятиях, расцеловал. Поражали только его слишком уж громкие восклицания: "Друже мой!", "Гордейка!", "Дорогой!"
Поспешно, будто от чрезмерного желания оказать гостеприимство дорогому гостю, Пилип повёл Головатого в дом. В просторной, с дубовыми скамьями светлице усадил в святом углу. А сам почему-то не находил себе места: слонялся по комнате, переминался с ноги на ногу и всё поглядывал в окно, будто с минуты на минуту должен был прийти кто-то ещё. Одновременно интересовался: где Гордей бывал, откуда прибыл? Разговор не клеился. Вопросы да и ответы на них были какими-то скупыми, не сердечными.
Головатый знал Стоногу стройным, бравым и отчаянно храбрым. После гибели Семёна Драного у многих булавинцев была даже мысль избрать Пилипа атаманом. Но он вскоре куда-то исчез. Думали – погиб. А когда Пилип объявился снова, было уже поздно: отряд стал распадаться…
С тех пор прошло десять лет. Перед Гордеем сидел теперь хотя и всё такой же статный, но уже бородатый, дородный и, наверное, довольный жизнью человек.
– Ты скоро там, Пилип? – послышался резковатый, сердитый женский голос.
Хозяин заметно стушевался, протянул к Гордею руку, помахал ею, побудь, мол, сам, затем метнулся в сени или ещё куда-то и вскоре возвратился с двумя тарелками, на которых лежали сало, огурцы, лук. Потом внёс небольшую бутыль с водкой, настоянной на травах, с прикреплёнными к горлышку на пёстрой тесьме двумя чарками. В третий раз принёс большую миску, наполненную пшённой кашей с молоком.
Гордей с удовольствием взглянул на миску. Пшённая каша – его любимая еда.
Пилип пододвинул ближе к Гордею разносолы и наполнил чарки.
В это время в сенях послышался приглушённый говор. Двери открылись, и в горницу вошёл коренастый, ещё не старый человек с рыжеватыми всклокоченными волосами и с такой же рыжеватой реденькой бородой: босой, штаны короткие, все в латках, а местами видны и прорехи, потрёпанная, также в латках и прорехах была на нём и рубаха.
– Волы, господин, уже в ярмах, – проговорил ровным глуховатым голосом рыжеволосый и показал кнутовищем в окно.
В сени вошли ещё трое: молодые, безусые. Они тоже были босыми и в таком же грязном рванье.
– Я сейчас выйду. Подождите там, на дворе, – поморщился недовольно Стонога.
– Что это за люди? – уже обо всём догадываясь, быстро спросил Головатый. – Твои… – он не договорил и гневно посмотрел на застывшего, с поднятой бутылью в руках, Стоногу.
– Это беглецы… Из господских, боярских… – пытаясь быть спокойным, ответил с безразличием Пилип и как бы между прочим добавил: – Пригрел. Кормлю. Одеваю…
– Да вижу! – тем же резким тоном медленно сказал Гордей. – Вижу!.. А помнишь, как мы с тобой и Семёном в Маяках, в Изюме и в других местах лупили ненасытных богатеев, которые тоже пригревали бедных беглецов-горемык, и так пригревали, что те едва дышали?!
– Так те "пригревали" ж, как бы сказать, своих, из-за Днепра… – начал оправдываться Стонога.
– А эти? – спросил с нажимом Гордей.
– Из-за реки Камы, от какого-то князя…
– Так что ж они, по-твоему, не люди?! – вскипел Головатый. – Что у них, не такая, как и у нас, кровь? Вот, оказывается, какой ты стал?! – Гордей поднялся, сжал кулаки. Ложка, которую он держал в руке, треснула.
– Прочь! – заорал вдруг, тоже вставая, ощетинившийся Стонога. – Прочь, голодранец!..
Сцепив зубы, Гордей вышел из-за стола и медленно, шаг за шагом стал приближаться к Стоноге. Пилип, не выдержав гневного взгляда Гордея, попятился к двери, шагнул через порог и исчез где-то в сенях.
Головатый натянул шапку, постоял с минуту в тяжёлом раздумье, затем перекинул через плечо саквы и пошёл прочь с постылого двора.
Головатый ехал на север и на север. Но за глубоким оврагом, где начинается речка Луганка, он повернул на восток, к хутору Никитовскому. Степь здесь была ровной; до самого горизонта тянулись бурые, словно ржавые, полосы поблекшей травы, пламенел шиповник, кустистый боярышник. Низкорослые, кривобокие дубки в буераках тоже заметно потеряли свою зелёную окраску.
Вскоре Гордей заметил появление пятерых всадников. Они вынырнули из оврага как-то внезапно: наверное, следили за ним, подкрадывались к нему. Приблизившись, всадники пустили своих коней наперехват. Гордею можно было бы повернуть назад, добраться до ближайшего буерака, но он понял, что лесок небольшой, местами уже оголённый – не спрячешься. Да и лошади у преследователей, наверное, быстрее, свежее.
Запомнив приметы – два низкорослых куста тёрна около канавы, – заросшей полёгшей сивой травой, – Головатый, не останавливая коня, опустил на землю ятаган, а через несколько шагов – пистолеты и кошелёк и как ни в чём не бывало продолжал спокойно ехать. Когда преследователи приблизились, он повернул своего коня навстречу им. Чтобы быть вблизи от того места, где лежали пистолеты, кошелёк и ятаган, Гордей ехал медленно. "Если придётся туго, – думал он, – то воспользуюсь оружием.
Пятерых, конечно, не одолею, но и живым в руки не дамся…"
Вооружённые бердышами, пиками, пищалями, в островерхих, натянутых на самые уши шапках, в чумарках, перевязанных поясами, всадники окружали Головатого широким полукольцом, как бы давая ему возможность вырваться. Но Гордей о бегстве и не думал.
Но вот кольцо замкнулось. Головатому предложили слезть с коня, спять кирею, сапоги и шапку. Не спрашивая, кто он, откуда и куда едет, внимательно обыскали: нет ли оружия, а может быть, и денег. В шапке нашли жёсткую кожу, исписанную большими чёрными буквами, с оттиском царского орла.
– Что это? – спросил один из всадников.
– Смотрите. Читайте, – спокойно, даже, казалось, дерзко ответил Гордей.
Кожа пошла по рукам.
Видя, как всадники рассматривают её, вертя и так и эдак, Гордей понял, что все пятеро неграмотные.
– О чём здесь? – уже сердито спросил всё тот же верховой, наверное старший.
– Грамота, – сказал нарочито твёрдо и с гордостью Головатый. – Я рудоискатель. А в грамоте говорится: "…во всех местах, как на собственных, так и на чужих землях, искать, копать, плавить, варить и чистить всякие металлы, сиречь: золото, серебро, медь, олово, свинец, железо, також и минералов, яко селитра, сера, купорос, квасцы…" – изложил Гордей скороговоркой запомнившиеся строки, которые он не раз слышал от Григория Капустина. Не сказал только, что грамота подписана Петром Первым. Не назвал и своего имени и прозвища. Знал: он – в списках "пущих завотчиков", "зловредных булавинцев", которых разыскивают на Дону, на землях Изюмского, Харьковского, Ахтырского полков, и по всей Украине.
Ответ Головатого, видимо, произвёл впечатление.
Кожа снова заходила по рукам.
– Орёл царский.
– Царский.
– Такой, как на штандарте.
– И на бумагах.
– И про металлы-минералы, наверное, правда…
Всадники, о чём-то посоветовавшись вполголоса, возвратили кожу Головатому и молча уехали.
Когда дозорные удалились на большое расстояние, Гордей, ведя за собой коня, повернул к терновым кустам, подобрал там оставленное оружие, кошелёк и опять поехал своей дорогой. Чтобы не причинить бед тем людям, с кем надумал встретиться, Гордей решил действовать осторожно: днём в селениях и на дорогах не появляться и не вести днём ни с кем никаких переговоров. Поэтому, добравшись после обеда до хутора Никитовского, он до самого вечера пас на широкой, заросшей лозняком поляне коня, отдыхал сам. И только когда совсем стемнело, пробрался огородами в усадьбу Клима Гончаренко.
В хате ещё не спали. Гостю были рады. Нагрели воды обмыться с дороги, дали поужинать. Коня поставили под навес к яслям с сеном и овсом.
Много лет назад судьба свела Клима и Гордея в одним повстанческом отряде, там они и подружились. Даже после того, когда, казалось, совсем угас булавинский вихрь, они с несколькими повстанцами не сложили оружия. На резвых, как сайгаки, лошадях продолжали кроить степь до самой Луганки, Кальмиуса, нагоняя страх на богатеев-серебреников. И только когда со всех сторон на них насели царские приспешники, им пришлось разойтись.
Отчаянный Клим из Переяслава пошёл в примаки – женился на дочери гончара из хутора Никитовского. И вскоре на ярмарках в Торе, Бахмуте и даже в Черкасске пошла слава о звонких, как из меди, разрисованных тарелках, кувшинах, мисках, которые делал Клим Гончаренко.
В гончарне пахло замешенной глиной, пережжёнными черепками, свечным салом и табачным дымом.
Гордей и Клим говорили сначала о том о сём, а затем перешли и к воспоминаниям о сечевом товариществе, о побратимах, к чему как раз и клонил разговор Гордей Головатый.
– В этом году ранней весною умер наш Данило Чупринюк, – тихо, доверительно сказал Клим. – А помнишь, какой был силач? Коня на плечах поднимал! Жить бы ему и жить. Молодой ещё был. Говорят, рана доконала. Боялся огласки, никому не показывал, что у него разрублено плечо. Лечился травами, но не помогло. Приключился антонов огонь – и нет человека… А Гераську, того, что из Курска, твоего побратима, – продолжал Гончаренко, – ранней весною поймали и повели…








