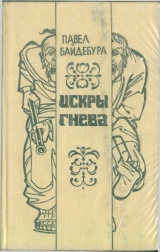
Текст книги "Искры гнева (сборник)"
Автор книги: Павел Байдебура
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Увлекало, манило неведомое, и всё время не выходила из головы милая сердцу песня:
Весна красна наступает,
С крыш падают капли.
Уже нашим чумаченькам
Шлях-дороженька пахнет…
Выезжали они весной, когда подсыхало и появлялась первая травка. Было интересно рассматривать встречные сёла, хутора, мимо которых проезжали, любоваться степным раздольем.
Рассказывал Санько охотно только о начале своего чумакования. А затем задор его исчез. И он уже сетовал, как нестерпимо томительно в долгой-длинной дороге, как печёт солнце, донимают ветер, въедливая изморось, морозы и метели.
– Но у меня есть своя утеха, – оживился снова Санько. – Вот! – и он показал выгнутую кольцом пищалку, прижал её к губам, и полилась чарующая трель, которая вскоре сменилась пискливым дребезжаньем, даже затрещало в ушах. Вдруг он оставил дрымбу и достал из мажары сопелку, дунул в неё. И будто откуда-то подала свой глуховатый, нежный с переливами голос иволга, потом воркотливо, страстно, с придыханием отозвалась горлица, вслед за ней рассыпали свой серебристый щебет ласточки, их перламутровые трели подхватили и кинули в небо к солнцу жаворонки. Пасмурная, сонная степь, казалось, начала оживать, низина стала светлеть, углубляться.
Головатый заслушался.
– Пою солнце, – сказал, переводя дух, улыбаясь, Санько. – Пою солнце и всё на свете…
– Как это солнце? – спросил удивлённо Гордей.
– У меня много пения, – подняв вверх руки и широко их разводя, сказал Санько. – Вдруг что-то входит в душу и веселит или печалит. Я пою обо всём, что вижу и слышу. Бывает, – доверчиво, тихо заговорил чумачок, – непонятно мне и удивительно. Даже дух захватывает, когда вслушаешься в дуновение ветра, в шелест листьев, тогда и песня моя такая же, как вьюга.
– А ты умеешь писать? – спросил Головатый.
– Нет, не умею… – Чумачок задумался. – О-о, если б умел… – вымолвил он, вздыхая. Затем умолк, но ненадолго. Выпрямился, прищурил глаза, на чистом загорелом лице скользнула усмешка. – Если б умел, я б тогда… – сказал в задумчивости и уже более оживлённо добавил: – Бывает, услышишь кем-то напетое и сам пробуешь так, как тот, который пел или играл. Вот послушайте. Это, наверное, про таких, как я:
Ой, едет чумак, едет чумак
Из Дона до дома,
А у него штаны в латках,
Рваная свитина,
Куда ни глянь – кругом бедный,
Кругом сиротина.
«Да, это действительно про тебя», – подумал Головатый, взглянув на рваную одежду паренька.
– Я так люблю песни, которые поют чумаки! – воскликнул Санько. – Вот сейчас сыграю вам одну.
Он продул сопелку. И начал исполнять на ней что-то весёлое, задиристое. Потом, наверное догадавшись, что путнику непонятно, что он играет, положил сопелку на мажару и запел:
Ой, дыба, чумак дыба.
Горька стала ему рыба.
А как возы погубил,
В сумку рыбы накупил,
Ой, рыба – судаки,
Под глазами синяки…
– А может, вам затянуть такую, тоже чумацкую, чтоб за сердце щипало?
Было лето, было лето,
И стала зима…
– А чего ж, можно и такую, – согласился Головатый и подумал: «Какой талантливый хлопчика. Направить бы его куда-нибудь учиться. Хотя бы к такому человеку, как торский летописец Яков Щербина. Тот научил бы его, наверное, не только грамоте, а и сочинять и записывать песни и музыку. А может, заехать в городок Тор, к Щербине? Тем более отъехали пока ещё недалеко от него. Только отпустят ли Санька чумаки? Да и осмелится ли он сам пойти по такой дороге?..»
– "Было лето" я слышал от прилуцкого кобзаря, – всё так же быстро щебетал Санько, – слышал, когда мы выезжали в этот раз из Прилук и нас…
– Санько!
– Санько!
– Сюда! – раздались вдруг грозные крики с передних возов.
Парень тут же побежал к мажаре атамана. Вернулся он взволнованный, хмурый. Поравнявшись с Головатым, пристально на него посмотрел, казалось, хотел что-то сказать или спросить, но почему-то не сделал этого и молча пошёл рядом.
А с передних возов снова послышались крики:
– Санько!..
– Смотри, сукин сын!..
– Гляди!..
Чумачок, не обращая внимания на те окрики, шагал опустив голову. Дойдя до своего воза, остановился, кивнул Гордею головой или на прощанье, или как упрёк, ухватился за край воза правой рукой, левой опёрся о спину вола и в тот же миг забрался в будку. Передние возы начали съезжать с дороги вправо, влево и останавливаться. Когда мажара чумачка проехала на средину обоза, возы снова съехались на битый шлях и, как обычно, двинулись дальше. Мажару чумачка даже трудно было выделить среди длинной движущейся вереницы одинаковых, с дощатыми или рядюжными будками, покрытых пылью, гремящих, скрипучих возов.
"Да, жаль парня, – сокрушённо подумал Головатый. – Атаман, наверное, накричал на него: с кем, мол, сбратался. Вместо того чтоб натравить на него собак, ведёшь с ним разговор, да ещё и наигрываешь ему, напеваешь!.."
Гордей сожалел, что не расспросил толком, не узнал точно, где именно Санько проживает в тех присульских Прилуках. Может быть, при случае пришлось бы там побывать и он бы встретился с ним. А увидеться с Саньком хотя бы ещё разок Гордею хотелось. Уж очень по сердцу пришёлся ему этот паренёк.
Седьмой уже день Гордей был в пути. Объехав стороной городки Тор, Изюм и встречные селения, он свернул с большого Чумацкого шляха на идущую неподалёку, менее людную дорогу, которая тянулась от Азовского моря, от речек Кальмиуса и Волчьей на Полтаву. Объехав также стороной Харьковскую крепость, Гордей взял направление, как и было им задумано, к пойме речки Самары. Но, прощаясь со Слобожанщиной, он не мог не завернуть в казацкое село Каменку. Ведь в том бывшем зимовнике, во время атаманствования кошевого Ивана Сирка, Гордей вместе с другими побратимами не одну зиму отлёживался, отогревался, залечивал раны. Оттуда, из Каменки, сечевики спускались на юг «пугать» наглых соседей, татар, и не раз шли под булавой того же Ивана Дмитриевича в «гости» в Крым. В Каменке, в кузне кузнеца Лаврина, ковались копья, закалялись пики – готовилось, чинилось казацкое оружие.
Каменка была местом чумацких сборищ, дорожной передышки и большого торга. Здесь находился перекрёсток дорог, идущих к Дону, к Днепру, к Харькову, к Полтаве, на Правобережье – к польским городам и сёлам.
"Ничего, что придётся дать добрую сотню вёрст круга, – размышлял Головатый. – Наведаться обязательно нужно. Встречусь с друзьями, сниму шапку у могил побратимов…"
В верховье Волчьей Головатый круто повернул на юг. Весь день он ехал по берегу реки, а потом стал сворачивать левее, в степной травянистый простор. Ему приятно было встречать знакомые, давно не виданные места. Горизонт, казалось, здесь был шире. А необъятная даль словно завораживала своей красотой и манила к себе.
Старый, развесистый осокорь затенял большую, ка восемь горниц, прочного строения и на каменном фундаменте хату. Другой – молодой, но уже высокий – рос около дороги, будто выбежал встречать приезжих и приглашает под свою лиственную крону, указывает тропинку, которая ведёт к огороженному частоколом двору. Над порогом хаты висит кольцо толстой, поджаренной, с потрескавшейся кожицей колбасы; большой, с колесо, белый румяный бублик; серебристо-чешуйчатый, с разрезанным жирным боком тупоносый, очкастый чебак и зелёная, припорошенная пылью, кажется уже кем-то надпитая, бутылка водки.
Придорожная корчма, как всегда, наполнена разноголосьем. В хате люди сидят на лавках, толпятся у прилавка, на дворе – у разостланных на траве ряден, ковров, рушников, стоят вокруг бочек, которые заменяют столы. На них жбаны, поставцы, чарки из хрусталя и простого стекла, маленькие глиняные кружки, большие круглые и гранёные бутыли, ломти хлеба, разрезанные чебаки, тарань, сало, целые и разорванные кольца колбас, овощи, фрукты…
Обеденное время. Проезжие собираются в компании, развязывают свои сумки, узелки, откупоривают всевозможные посудины, едят, пьют, угощают друзей, знакомых, заводят новые знакомства.
Головатому тоже хотелось завернуть в этот двор, встретиться с людьми. Ведь он уже третий день не слышал человеческого голоса. Да и с самого утра, после ночёвки в буераке, не запускал ещё руку в саквы с хлебом. Но он спешит добраться до Каменки. А она уже не за горами. Вон там, на пригорке, виднеются белые, с серыми низкими козырьками-стрехами хатки, а на околице, как и в прошлые годы, стоит, словно на страже, красавец ветряк.
Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, Гордей слез с коня и, ведя его за собой, тихим шагом прошёл мимо шумного двора.
"Проскочил, как сквозь узкую дыру, не зацепился, – подумал Головатый, радуясь, что ни с кем из знакомых не встретился. – А теперь можно и поспешить".
Он решительно повернул на тропинку, которая вела через леваду, в направлении ветряной мельницы, но, пройдя небольшую ольховую рощу, остановился поражённый.
В тени старого развесистого осокоря на днище перевёрнутой бочки стоял босой, в рваных штанах, с сумкой через плечо чумачонок Санько. Он что-то наигрывал на дудке, смешно изгибался и притопывал ногой. А вокруг бочки с лаем, пытаясь вскочить на днище, кружили две кудлатые собаки – рябая и чёрная. Столпившиеся, уже подвыпившие чумаки громким хохотом, криками и посвистами подбадривали игру паренька и подгоняли собак.
Собаки вскочили наконец с разгона на бочку и, перестав лаять, с высунутыми языками, тяжело дыша, покорно легли у ног Санька.
– Сопелку!
– Да пускай на дудке!..
– Сопелку!
– Сыграй на сопелке!
– Давай на сопелке! – кричали чумаки.
Санько, ошалелый, оглушённый выкриками, перестал играть на дудке и запустил руку в сумку. Ему, наверное, уже порядком осточертел крик столпившихся около него людей.
Головатый с болью всматривался в усталое, очень худенькое, скуластое лицо паренька. В первую их встречу Санько своим искренним рассказом и дивной игрой оставил у него хорошее впечатление. И сейчас Гордею было больно видеть его на днище бочки, ублажающего своей игрой захмелевших чумаков.
"Вот так и притупится, угаснет природою данный талант", – подумал с грустью Головатый.
Он отвёл, не мешкая, в сторону от тропинки коня, привязал повод к ольхе и решительно зашагал к чумакам, намереваясь снять с бочки Санька, а дальше действовать в зависимости от обстоятельств.
Но когда он подошёл к чумакам, Санька на бочке уже не было, он словно испарился. А на его месте стоял среднего роста, широкоплечий, как видно большой силы, человек. Казалось, на нём были не широкие синие шаровары, а юбка из десяти, а то и пятнадцати клиньев, из материала, пошедшего на них, можно было бы сшить десять, а то и пятнадцать юбок. Белая, новенькая, с вышитыми рукавами и уже в нескольких местах запачканная смолой сорочка на богатыре была заправлена под чёрный, вымазанный дёгтем кушак.
Присмотревшись, Головатый узнал его. Это был Остап Кривда, чумак из Лубен. В дни своего чумакования Гордей часто встречался с Остапом на дорогах, на торжищах. Иногда обозы, в которых они находились, чтоб безопасней было в дороге, объединялись. Не раз Остап Кривда перевозил с Дона к Днепру, в Сечь, оружие и всякое военное снаряжение. А такое дело понизовцы, разумеется, доверяли не всякому. Остап – добрый, хороший человек. Правда, немного задиристый, нетерпеливый.
– Эй! Друзья! – закричал Кривда. – Сегодня набежало мне, округлилось лет, лет… Ой, многовато!.. Даже не хочется говорить, пугать себя и вас. По этой причине, друзья, ставлю бочоночек. И всех приглашаю на именины! – Откинув большую, лобастую, русочубую голову, Остап засмеялся, да так, что даже в бочке загудело, а по роще прокатилось эхо.
– Врёт!
– В прошлое лето, когда возвращались, он точно так же выдумал причину.
– Верно, справлял поминки какого-то своего деда.
– Это от доброты, от щедрости после хорошего торга.
– От щедрости сердца…
– Неважно, по какой причине, лишь бы поставил, – слышались оживлённые голоса чумаков.
А некоторые только многозначительно усмехались.
– Эй, хлопцы! Катите, катите сюда! – кричал Кривда.
Двое парней выкатили из двора корчмы дубовый пузатый, опоясанный берестяными обручами, вёдер на пять-шесть, бочонок. Подкатили к осокорю и поставили на пустую бочку.
Остап аккуратно выбил днище. И сразу же повеяло чабрецом, мятой, душистой смесью степных трав.
Кривда снял шапку, коснулся кончиками пальцев дуката, что на крепком просмолённом шнурке висел у него на груди, обвёл внимательным взглядом окружающих и поклонился на четыре стороны. Затем подхватил черпак, набрал из бочонка прозрачной, с зеленоватым отблеском жидкости. Такой же, наполненный водкой, черпак поднёс к губам и самый старший в обозе седоусый чумак-воловик. Выпив, они расцеловались и отошли. А около бочонка стали два пожилых, почтенных чумака. Они выпили сначала сами оковитой, а потом не спеша начали разливать водку черпаками во всё, что подставляли: в миски, крынки, в деревянную, глиняную и железную посуду. Чумаки благодарили и отходили к лежащему на траве ковру, покрытому длинными полотенцами, на середине которого красовалась большая белая паляница, украшенная гроздьями калины, нолевыми привядшими бессмертниками, синеватыми косариками, белыми с жёлтыми сердечками ромашками, а вокруг этой убранной цветами паляницы лежали коржи, колбасы, чебаки, бублики…
– Твоё здоровье, Остап!
– Много лет!..
– Дан боже, чтоб всё было гоже!
– Пусть будет!
– Пусть!.. – произносили весело и от души чумаки.
Из черпаков лилась и лилась оковитая…
Не увидев нигде Санька, Гордей решил стреножить поблизости на хорошем пастбище коня, вернуться снова сюда, поздравить Остапа и попытаться всё же разыскать паренька. Ведя коня в поводу, он пошёл не торопясь мимо весёлой компании.
– А кто ж это чуждается нас? – услышал Гордей позади чей-то голос.
– Да-да, обходит…
– Постойте! Да неужели?!. – воскликнул удивлённый Кривда. Он бросил на землю жбан, чебака и что есть духу помчался наперехват с выкриками: "Постой, не уйдёшь!". Догнал Головатого и преградил дорогу.
Приветствия были самые задушевные. Надавав друг другу крепких тумаков, Гордей в обнимку с Остапом, с саквами через плечо, очутился в кругу чумаков.
– Друзья! – прогремел голос Кривды. – Вот это, видите, Гордей Головатый! Кто не знает, так знайте: сечевик и чумак! И ещё знайте, он из обоза покойного Мартына Цеповяза. Это он, Головатый, сумел спасти чумаков от татар, когда ордынцы налетели на обоз.
– Слышали такое…
– Доброго здоровья Головатому!
– Желаем здравствовать!
– Полным его! По венчик! – раздались голоса.
Многие чумаки действительно слышали о Гордее, хотя свидеться с ним никому из них ещё не приходилось.
– Так что, товарищи, – не унимался Кривда, – попотчуем! И пусть отныне он будет, в нашем лубенском обозе!
– Пусть будет!..
– Пусть с нами!..
– Будет иметь пайку к саломате!
– Кропите, крестите его черпаком!
– Полным!
– И от нас! – последние слова выкрикнул огнебородый атаман прилуцкого обоза Дмитро Кавун. Узнав, кто такой этот высокий седоусый человек, он уже дважды с ковшом в руках пытался прорваться к Гордею, извиниться, чтобы он не гневался на неучтивую встречу на чумацкой дороге. Но атаману никак не удавалось подойти близко к Головатому, окружённому тесным кольцом чумаков.
Гордей внимательно вглядывался в лица людей, спрашивал, кто откуда, и не находил знакомых чумаков, вместе с которыми он много лет тому назад месил дороги на Дон и до Таганьего Рога. Головатому было немного досадно, в сердце невольно стала закрадываться грусть. "Неужели с тех пор прошло так много времени, что многие мои товарищи уже отчумаковались?.. – думал с болью он. – А может, они, – стал успокаивать себя Гордей, – топчут сейчас не эти, а другие дороги? Может, мне ещё и доведётся повидаться с теми, с кем варил когда-то саломату?.. А сейчас будь доволен, что встретился с добрыми людьми, что они согревают тебя теплом своих сердец, отдавай и ты им своё, завязывай сердечную дружбу…"
Полдень. Но солнце висит не в зените, его путь теперь проходит немного ниже, и оно уже не припекает, не донимает жарой в это время, как летом. Плывёт, туманится, купается в густой светло-мохнатой дымке. А "бывает, и надолго прячется в серых облаках. Вот и сейчас его закрыла седеющая туча и не торопится открывать. Повеяло холодком.
А в компании чумаков жарко. Бочонок уже опустел. На его месте появилась большая, пузатая, оплетённая тонкой желтокорой лозой бутыль. Желающие продолжают наполнять оковитой свои посудины. Разговоры стали оживлённей. Взметнулась и песня. Но тут же оборвалась, Внимание чумаков привлёк чей-то громкий голос:
– Дай дорогу! Да пустите же, черятки!
Поднялся шум.
– Дорогу! Дорогу, черти окаянные!..
К бочке протиснулся высокий, сухощавый, с лихо подкрученными чёрными усами, как видно, бойкий паренёк.
– Я кручусь, верчусь около волов, а мне хотя бы словечко про такую оказию… Эх вы, чертяки! Батька! Атаман?! Попотчуй!.. – И паренёк, сложив пальцы, будто держал в них чарку, поднёс руку ко рту.
Остап Кривда хотел налить ему оковитой.
Но пустой посуды не было.
– Да Оверке сгодится и мазница[17]17
Сосуд, в котором чумаки возили дёготь для смазки колёс.
[Закрыть].
Чумаки громко захохотали.
– Кому мазница, а мне и такая сгодится. – Оверко картинно напыжился, подкрутил усы и с крепко стиснутыми желобком ладонями важно подошёл к бутыли.
Кривда налил ему в ладони водки.
– Чтоб тебе, атаман, долго жилося… – Парень с шумом выдохнул воздух и выпил. – Елось и пилося… – припал он губами ко вторично наполненной пригоршне. – И чтоб всегда моглося… – добавил, выпивая третью пригоршню.
– Да он выдует всю бутыль!
– Хватит!
– Не наливай!
– Да уж дайте до ровного счёта! – улыбнулся Оверко.
– Молодчина!
– И выпить, и поговорить…
– Мастер, ей-богу, мастер.
– Налейте ему!
– Налейте! – зашумели чумаки.
Оверко выпил четвёртую пригоршню, расцеловался с атаманом, некоторым чумакам, что стояли поблизости, поднёс по дуле, затем нанизал на руку несколько колец колбасы, взял большой кусок паляницы, поглядел весело на столпившихся людей и важно зашагал на леваду, где пас волов.
– Ну и мастак!
– Да, умеет, чёртов волопас, – начали восторгаться вслед Оверке чумаки.
В это время загудели вдруг струны бандуры и послышался хрипловатый, печально дрожащий голос:
А в поле корчемка муром мурована,
Муром мурована, дилом дилована…
Чумаки тут же обступили седого, но ещё крепкого деда, стали серьёзными.
А в этой корчемке сидят чужеземцы.
Один чужеземец меды-вина пьёт,
Другой чужеземец к девке пристаёт.
– К чертям чужеземцев!
– Пой про наших!
– Весёлую!
– Санька сюда!
– Где он? – зашумели чумаки.
Санька нашли на возу. Он спал. Но его подхватили под руки и принесли.
Паренёк ещё полностью не проснулся, он недоумённо озирался по сторонам и, если бы его не держали крепко за сорочку, за разорванную штанину, наверное, тут же бы дал стрекача.
Кто-то из чумаков вытащил из сумки сопелку и сунул её в руки Санька:
– Играй!
– Играй, Саня!
– Как скажут дедушка Спиридон, – придя наконец в себя, заявил Санько.
– Давай, сынок, я поведу первым, а ты бери за мною вторым, – проговорил бандурист.
Они заиграли, и казалось, будто защебетали воробьи, зацинькала стайка серебристоголовых синиц, загудели, зажужжали шмели. Музыка взлетала всё выше и выше, заполняла долину, зачаровывала лес. К компании чумаков начали подходить прохожие, посетители корчмы.
Вдруг затопали, зачастили несколько пар ног. Круг, начал раздаваться, и уже десятки чумаков в лаптях, сапогах, а то и босиком стали сбивать траву, вминать и трамбовать землю – завертелся в шальном вихре буйный гопак.
Головатый, в надежде встретить кого-нибудь из знакомых, внимательно присматривался к подходившим людям, к подъезжающим с чумацкой дороги возам. Вдруг он заметил, как из двора корчмы выехали на хороших, резвых лошадях четыре всадника. Они были в дублёных полушубках, в сапогах, на головах – смушковые шапки и даже за спинами башлыки, хотя в таком зимнем одеянии ходить ещё, конечно, рано. Выехав на дорогу, всадники остановились. Один из них спешился, подошёл к толпе чумаков и начал вглядываться в лица: наверное, кого-то выслеживал, искал.
"Не людоловы ли, случайно, Шидловского? – мелькнула у Гордея тревожная мысль. – В сёдлах сидят хорошо, – значит, вымуштрованные, привычные к езде верхом. Но почему без оружия? А может, оно у них спрятано?.."
Всадник тем временем начал расспрашивать чумаков, не видел ли кто-нибудь из них Головатого. Услышав своё имя, Гордей насторожился. Поднял с травы свои саквы, накинул на плечи плащ, нащупал за поясом пистолет, уложил его поудобнее и стал спиной к стволу осокоря. Со стороны казалось, что он внимательно, даже с увлечением следит за танцем чумаков.
– Господин Головатый? – услышал Гордей чей-то голос за спиной. Он повернул голову и увидел рядом юношу в дублёном полушубке.
– Да, Головатый, – ответил Гордей с безразличием, не отрывая глаз от танцора Оверки, который в этот момент, перевернувшись, стал вверх ногами и пошёл по кругу на руках.
– Мы просим вас поехать с нами, – указал юноша на всадников, – в село Каменку. У нас очень важное дело. Очень…
Он поклонился и застыл в ожидании.
– Кто это "мы"? – спросил сурово Головатый.
– Извините, господин, к сожалению, я не имею права вам об этом сейчас сказать, – проговорил почтительно юноша и посмотрел многозначительно на столпившихся чумаков. – Но там, в Каменке, вы обо всём узнаете.
К осокорю, ведя коней в поводу, подошли два всадника и тоже начали уговаривать Гордея поехать с ними в Каменку.
– В Каменку я поеду тогда, когда сам захочу, – ответил холодно Гордей. – А сейчас я в гостях у добрых людей. Вот так.
– Мы просим.
– Там вас ждут.
– Мы долго вас разыскивали, – наперебой заговорили неизвестные.
"Ист, на людоловов не похожи, – подумал, успокаиваясь Головатый. – Но кто же они такие? Зачем я им нужен?.."
Ой, лопнул обруч,
Ой, да на бочонке! —
запел в это время, вскочив на бочку и поднимая вверх большую кружку-жбан, Остап Кривда.
Но песня тут же оборвалась. К Остапу подошли чумаки и начали ему о чём-то взволнованно говорить, показывая на верховых, которые окружили Головатого.
Кривда мигом соскочил на землю. Подбежал к всадникам.
– Здесь расположился чумацкий табор. Если вы, господа, или как вас там величать, не знаю, прибыли сюда с добрыми намерениями, то просим быть нашими гостями. А если у вас на уме что-то лихое, то вон к чёртовой матери! Вон отсюда! – Остап так громко крикнул и так решительно взмахнул рукой, что лошади неизвестных рванули поводья и попятились.
– Мы с просьбой…
– Важное дело…
– Мы почтительно просим поехать с нами в Каменку, – заговорили в ответ, перебивая друг друга, всадники.
Кривда скосил взгляд на Гордея.
– Может быть, оно и нужно… – проговорил Головатый, будто советуясь. – Говорят, какое-то важное дело…
– А так ли?
Гордей промолчал.
– Что они, твои знакомые? Друзья? – спросил, подходя ближе. Кривда.
– Нет. Первый раз их вижу.
– Тогда, может, они затевают что-нибудь злоумышленное? – будто сам себе, но нарочито громко сказал Остап. – Но мы не дадим затеять! – И, хитро подморгнув понизовцу, он добавил: – Если ты, Гордей, едешь, то мы с тобою вместе. Здесь обедали, там будем ужинать. Да и по дороге нам. А то, видишь ли, встретились и только и того, что поцеловались, а ни о чём и не поговорили.
Да, сели бы они разговорились, то Кривда, наверное, признался бы Головатому, что большая часть чумаков в его обозе – беглецы, дейнеки. И затея эта с днём рождения была только для того, чтобы собрать вместе таких же смельчаков и из других обозов. Кривде надо было посоветоваться с ними: не хотят ли они, как и он, заявить о себе панам и всяким дукачам на берегах Ворсклы и в Присулье. Для этого у него на возах вперемешку с товаром есть и сабли, и пистолеты, и всё необходимое…
– Хорошо. Спасибо тебе, друже, спасибо! – сердечно поблагодарил Остапа Гордей.
– Эй! Товарищи! – В руках Кривды появилась длинная, с красной лентой и пучком золотистой пшеничной соломы тычка.
Атамана тут же начали окружать его подручные. Он тихо сказал им что-то, они быстро разошлись, и вскоре лагерь зашевелился, глухо, тревожно загудел – и затих. И будто не было здесь, на леваде, буйного, весёлого гулянья. Чумаки, о чём-то негромко переговариваясь, разбивались на отдельные группы, куда-то исчезали, а потом появлялись снова. У многих под свитками, под сорочками, а то и на виду – на очкурах, на ремённых поясах – висели короткие ятаганы, пистолеты, ножи…
Обоз не спеша тронулся с места и направился в Каменку.
Чумаки заполнили весь двор каменской сельской корчмы и начали располагаться вокруг неё, будто брали в широкую круговую осаду.
Остап проводил Гордея в светлицу, попросил долго не задерживаться с этим "важным делом", а если заметит что-то недоброе, то пусть подаст знак – чумаки будут наготове стоять под окнами.
Один из охранников корчмы указал Головатому на боковые узкие двери светлицы и отступил, пропуская его впереди себя.
Когда Гордей вошёл, то увидел за столом склонившегося над какими-то бумагами круглоголового, с белым чубом, с бритым, полным, немного обрюзглым подбородко человека. Около него, опираясь на стол, стоял среднего роста, чернобровый юноша. Его полные губы обрамляли чёрные, опущенные вниз усы. Третий человек, присутствующий в горнице, был уже в летах, кряжистый, с заметным брюшком, пучеглазый. Он сидел у окна и ковырял шилом в трубке. Все трое – в белых без вышивки сорочках, в синих широких шароварах, заправленных в сапоги с высокими голенищами.
Горница небольшая. Тесноватая. Два окна и две двери. Одни – наверное, проход в смежную комнату. У стены, на шесте, висели дублёные полушубки, плащи. На колышках – шапки. В углу, под иконой, на широкой скамье лежали пистолеты, сабли и большие кожаные сумы.
С появлением Головатого все трое поклонились, назвали себя казаками Алешковской Сечи, попросили гостя садиться.
Охранник немедленно вышел.
Головатый, усаживаясь на скамью с краю стола, ещё раз оглядел светлицу и перевёл взгляд на алешковцев. "Так вот вы какие изгнанники…" – подумал он и не почувствовал ни удивления, ни восхищения. Наоборот, когда с его появлением белочубый низко поклонился и поспешно, заискивающе заговорил, у Головатого появилась чувство враждебности.
Головатый начал без стеснения внимательно рассматривать алешковцев. Самый младший ему показался знакомым. Будто где-то он его уже видел…
– Мы алешковцы, – произнёс тихо и как-то жалобно белочубый, – а были когда-то, как и вы, – и он тяжело вздохнул, – чертомлынцы…
Головатый знал о бедствиях казаков в Алешках, но, всё-таки спросил, как им там живётся.
– Как собаке на цепи, – снова тяжело вздохнул белочубый.
– Без разрешения ни ступи, ни сядь, ни ляг и не смей, упаси бог, огрызнуться. Тут же получишь затрещину, – добавил черноусый.
– Да, да, лучше молчи, – подтвердил белочубый.
– "Ка-зак" по-турецки и по-нашему, украинскому, означает "вольный", а мы сейчас…
– У нас в Алешках, – продолжил мысль черноусого белочубый, – казак что твой крепостной…
– Гонят на Сиваш…
– Болото месить…
– Соль собирать…
– На Перекоп – строить заграждения, крепости…
– Кого хотят, того и гонят в ясырь…
– В ту проклятую Кафу…
– Не зря кобзари и думу сложили… Только у нас её поют тайком. Может быть, слышали:
Заступила чёрная туча
Да белую тучу.
Ой, поганый татарин
Запорожца замучил…
Обо всём, что говорили алешковцы, Головатый уже хорошо знал от беглецов, которые прибывали из Алешек на Слобожанщину, внимательно их слушал и всё думал, зачем они разыскали его и пригласили сюда.
– А мудрит и привередничает у вас всё тот же Костя Гордиенко? – спросил Головатый неожиданно и этим вопросом оборвал жалобные причитания алешковцев.
– Нет, кошевым у нас Иван Малашевич, – ответил белочубый. – Булава из рук Гордиенко выпала…
– Голытьба вырвала?
– Да, я считаю, что так.
– Нехороший человек этот Костя, – проговорил медленно, как бы растягивая слова, Гордей.
– Нельзя так, добрый человек, шельмовать, – возразил поучительно глуховатым голосом пучеглазый алешковец, который до сих пор всё время молчал.
– Подлый человек! – тихо, но твёрдо сказал Головатый. – Если бы не его заигрывание со шведским королём Карлом и если бы этот Гордиенко не связался с Мазепой, то, может быть, всё сложилось бы и по-иному.
Некоторое время стояла тишина.
– Перекинуться к шведу, а потом и к турецкому султану, запродать им своих людей, казаков, разве это не подлость? Подлость! – проговорил гневно Головатый.
– Да хватит вам хватит обо всём минувшем, – вмещался белочубый, – сейчас приспело, другое… – И он начал рассказывать Гордею о том, что кошевой Малашевич очень ратует за возвращение казаков из Алешек в родной край. Разрешения пока ещё нет. Но есть большая надежда. Нарочные из Алешек вторично, разумеется тайно, собираются выехать в Петербург за разрешением. – А нам, – взглянув на пучеглазого, подчеркнул он, – выпала честь перед этой поездкой сделать кое-что важное, что будет содействовать этой поездке. Да, да! Будет содействовать!.. – Ом взглянул теперь уже на черноусого, помолчал, видимо собираясь с мыслями, и продолжил немного медленнее, стараясь говорить выразительно: – Нам выпало начать весьма важное строительство. Это и заставило нас приехать сюда и потревожить, извините, вас. Мы беспокоимся, чтобы побыстрее вывести наших казаков из Алешек. Где именно осядем? – сказал так, будто спрашивал. – Неизвестно. Думаю, что новая сечь будет недалеко от бывшей бузулуцкой. И земли наши, наверное, будут в границах от Днепра до реки Кальмиус.
– И станут граничить с землями Слобожанщины, – добавил черноусый.
– Вы уже поняли, уважаемый, – стал пояснять белочубый, всматриваясь прищуренными глазами в Гордея и нарочито растягивая слова, чтобы придать им большую значимость, – что, осев на Кальмиусе, мы закроем дорогу крымским татарам на Слободскую Украину, на русские земли.
Он умолк, затаил дыхание и уставился на Головатого: интересно, какое впечатление произвело на гостя сказанное.
А гость сидел молча, и по его лицу трудно было о чём-либо догадаться.
– Вы, наверное, понимаете! – с юношеским задором выкрикнул черноусый. – Там, на Кальмиусе, на берегу моря, мы построим цитадель! – Сжимая кулаки, он поднялся, возбуждённый, решительный. – Построим основательную, настоящую крепость!
– Догадываюсь, – ответил Головатый. – Спокон веку мы загораживали собою дорогу татарве, туркам. Защищали людей Украины, России, Польши… Да-да, загораживали их и были в почёте. А иногда мешали и панам-магнатам, дукачам, старшинам неволить голытьбу…
– Вы ошибаетесь! – вскипел пучеглазый алешковец. – У нас на Украине всегда было братство, единство всех! – Подтверждая свои слова, он махнул рукой, и табак из трубки посыпался на пол. Это, наверное, ещё больше его расстроило. Он пробормотал какое-то ругательство, тяжело поднялся, ступил шаг к Гордею и кинул твёрдо, властно: – Ошибаетесь! Да-да!








