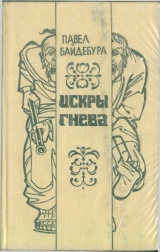
Текст книги "Искры гнева (сборник)"
Автор книги: Павел Байдебура
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Рассказы

Были у Ленина
(Шахтёрские посланцы)

Холодным мартовским утром посланцы прибыли в Москву. После обеда они были в Кремле, в тот же день их принял Ленин.
– Вы по какому вопросу? – спросил товарищ, сопровождавший шахтёров к кабинету Председателя Совнаркома.
– По важному делу, – сказал коротко, уклоняясь от прямого ответа, Фёдор Иванович Гудков.
– По очень большому. По вопросу восстановления краснодонских шахт, – добавил более разговорчивый Степан Михайлович Рыбальченко. – Нужно как-то нам начинать…
– Начнём, начнём, – подчеркнул твёрдо Гудков. – Затем и прибыли к товарищу Ленину. – И слегка толкнул в бок своего, как ему казалось, слишком словоохотливого друга, давая понять, чтобы тот пока воздержался от разговоров на эту тему.
Неподалёку от кабинета шахтёры остановились взволнованные: смущаясь, молча переглянулись – будто договариваясь между собой, кому из них идти первому. Но задержка была очень короткой. Через каких-нибудь полминуты они выпрямились, окинули взглядом каждый себя, потом друг друга, проверили, всё ли в порядке, и, уже на ходу одёргивая гимнастёрки и поправляя на них ремни, пошли к кабинету.
Владимир Ильич встретил их у порога. Поздоровался, пригласил садиться и указал рукой на большие мягкие стулья, расставленные у стола. Фёдор Гудков сразу же уселся, положил перед собой лист бумаги, на котором были старательно записаны важные вопросы – наказы шахтёров первой и второй шахт Краснодона. Рыбальченко заметил, что Ленин сидит на обыкновенном простом стуле, и заколебался, остался стоять. "Как же так, – мелькнула беспокойная мысль, – мы в мягких, а он…" Но Ленин вторично попросил садиться и сразу же повёл разговор о Донецком крае.
Оказалось, он хорошо осведомлён о реальном положении в Донбассе. Ему даже было известно, что из всех шахт, расположенных в районе Краснодона, работает только одна, да и та едва выдаёт какую-то сотню пудов угля за сутки.
С первой же минуты, как только Ильич заговорил, у шахтёров исчезли скованность и напряжение. Они почувствовали себя свободно, легко, и разговор с Лениным пошёл непринуждённый, искренний, как с родным, дорогим человеком.
Ильича интересовало всё до тонкости: прежде всего он спросил, как живут рабочие и их семьи, все ли они имеют огороды и хорошо ли уродило прошлым летом на этих огородах, возвращаются ли на родные обжитые места те, кто вынужден был в дни разрухи оставить заводы, шахты и податься на сёла добывать кусок хлеба.
– А как у вас со снабжением продовольствием в Донбассе?.. – опираясь о стол и наклонившись вперёд, Ленин произнёс последние слова с ударением и на мгновение застыл в ожидании.
– Бывает всякое… всякое, – начал не торопясь, неуверенно Гудков. – Но живём, перебиваемся…
– Говорите правду, – решительно предостерёг Владимир Ильич, – живётся не легко. Да, да, хлеба и всего необходимого для человека не хватает.
– Да оно так, – согласился Гудков. – Но ведь такое время… что же поделаешь…
– Как это так "что же поделаешь"? – спросил Ленин удивлённо, с осуждением и даже, казалось, сурово. Он решительно вышел из-за стола и подвёл шахтёров к одной из карт, что висели на стенах. Небольшим, удлинённым с запада на восток полукругом очертил территорию Донбасса и, пересекая карту в разных направлениях условными линиями, заговорил о необходимости связи индустриальных районов страны с другими, хлебными районами, в частности с Югом.
– А главное наше спасение – скорее восстановить разрушенное народное хозяйство, – решительно подчеркнул Владимир Ильич. – И здесь, разумеется, нам никак не обойтись без донецкого угля.
"Это правда. Уголь необходим. Хозяйствовать нам нужно, – подумали Гудков и Рыбальченко. – Только как начинать, когда не с чем…"
– При восстановлении очень важна народная инициатива, – продолжал Ильич, словно угадывая мысли шахтёров. – Надо как можно больше привлекать к труду население – организовывать субботники. Мы должны поработать так, чтоб на трудовом фронте закрепить победы нашей героической Красной Армии над Колчаком, Деникиным, белополяками и Врангелем… Только так.
– Не иначе, – согласились Гудков и Рыбальченко.
– Вот я и убедил вас, – довольно усмехаясь, сказал Ильич, – будем единомышленниками… А как с восстановлением шахты, с которой вы прибыли? – спросил вдруг, глянув внимательно на обоих посетителей.
Гудков доложил, что уже дважды намеревались что-то делать, но так и не начали.
– Не хватает кое-чего… такого… – запинаясь произнёс Фёдор Иванович, – без чего невозможно добывать уголь.
Ленин попросил уточнить, чего именно не хватает.
– Прежде всего леса. Хотя бы вагона два-три, – сказал торопливо Степан Рыбальченко.
– Да, да, крепёжного, – подхватил Гудков. – Тогда б мы зажили! – от волнения он вдруг поднялся и стал за креслом, как перед трибуной. – Кочегарка на нашей шахте и подъём исправны, – продолжал не спеша, чеканя слова. – С водоотливными механизмами может произойти кое-какая задержка, ремонтировать их нужно, а с инструментом туговато. А то было б дело…
– Инструмент найдётся, – решительно заявил Степан Михайлович, – инструмент соберём: молотки, долота, напильники и всё такое прочее на руках у слесарей. А вот путного механика, чтоб дал порядок в работе, пока ещё на нашей шахте нет.
Гудков возразил. Он даже обиделся на своего товарища. Ведь всем известно, что он, Гудков, первоклассный мастер слесарного дела, соображает и по механике. Ещё два месяца тому назад ремонтировал в Луганске бронепоезда и огнестрельное оружие. А тут чтоб не наладил какой-то шахтный механизм…
Владимир Ильич с удовольствием следил, за азартным деловым спором двух друзей. Оба среднего роста и, наверное, одного возраста – не молодые, но и не старые. Гудков немного пополней. С загорелым лицом. Как видно, с упрямым характером – в разговоре берёт инициативу на себя. За медлительной же речью Рыбальченко кроется осторожная рассудительность.
– Оказывается, у вас есть кому работать, есть кому налаживать дело, – заметил Ильич, усмехаясь. – А если хорошо поискать там, на шахте, то наверное найдётся…
– Нет, не с кем и не с чем работать, – в один голос сказали посланцы.
– Нужно искать, – посоветовал Ленин. – Обязательно ищите! – и он снова начал расспрашивать, что делается в Донбассе, чем заняты сейчас рабочие. Поинтересовался и тем, как живут, чем занимаются они, Гудков и Рыбальченко, что видели в дороге во время поездки в Москву.
Обо всём, что знали шахтёры, что их волновало, они чистосердечно рассказали Ленину. А вот то, основное, из-за чего, собственно, и ехали сюда, – не сказали. Не сделали этого даже в конце разговора, когда им выдался удобный случай хотя бы намекнуть о своём деле, – это когда Ильич спросил, может, им нужно чем-нибудь помочь и где они устроились.
Посланцы поблагодарили Ленина за внимание, попрощались и вышли из кабинета. Миновав кремлёвские ворота, они очутились на Красной площади. Шли молча, задумавшись – всё ещё были в плену глубоких впечатлений от встречи с Лениным. Шли не спеша, под ногами хрустел, вызванивал, ломаясь, тоненький прозрачный ледок, в воздухе сновали реденькие серебристые искры, белели крыши и окна домов – зима ещё не сдала своих позиций.
– Вся Россия сейчас, наверное, вот так, в холоде, – обронил глухо, будто обращаясь к самому себе, Фёдор Гудков. – И ничего не поделаешь – разруха…
– Выходит, что так, – подтвердил Рыбальченко. – Только неужели нельзя хотя б у него в кабинете как следует натопить? – возмутился Степан Михайлович, упрекая кого-то неведомого. – Когда Владимир Ильич подвёл нас к карте и показал, где наш Донбасс, я стоял около кафельной голландки, пощупал, а она холодная! И у меня даже в груди похолодело. Неужели нельзя было…
– А если ни Дров, ни угля, – заметил с тревогой в голосе Фёдор Иванович. – Дровишки, конечно, нашлись бы. Под Москвою много леса, но чем подвезёшь? А наш уголёк под землёю. Я, друже, тоже проверял ту голландку. Да и без проверки чувствовалось, как только вошли в кабинет…
– Да, чувствовалось. Холодно. А ему ж нужно там работать… А мы со своими требованиями… – укоризненно сказал Рыбальченко.
– И в такое время… – поняв намёк, согласился Гудков.
Они пересекли наискось площадь и направились к Москве-реке. Им хотелось издали, с моста, взглянуть на кремлёвские башни, на панораму города. Опускался вечер, серые громады домов окутывали прозрачные туманы. В такую пору над всеми крышами должен бы подыматься сизоватый и чёрный закурчавленный дымок, но сейчас лишь кое-где вились тоненькие беловатые струйки и внезапно обрывались, таяли. Казалось, там, вдалеке, пустой и очень холодный город, что холод пронизывает землю, воздух, сковывает, давит, и от этого дома теснее прижимаются друг к другу, нижутся в кривобокие хмурые кварталы.
– А что нам скажут земляки, когда мы приедем домой? – спросил вдруг Рыбальченко и себя и своего товарища.
Гудков молчал. Его тоже беспокоил этот вопрос. Шахтёры двух шахт снаряжали их в дорогу, и они, конечно, спросят, как выполнен их наказ.
…Кто первый подал мысль направить посланцев в Москву – неизвестно. Она родилась в гуще народа, и, возможно, даже не в Краснодоне, а где-то в другом месте. И не один человек, наверное, подумал об этом деле, а десятки, сотни, а может быть, и тысячи людей. Ведь онемел, застыл опустошённый бандами генерала Деникина и всяких атаманов донецкий край. Остановились шкивы на копрах, забои заливает вода, в шахтёрских селениях холодно и голодно.
Откуда-то пошли волнующие слухи, что будто бы шахтёры из Крындычевки, а другие говорили – из Горловки, посылали своих представителей в центр, в Москву, и те посланцы добились от правительства помощи. И будто бы уже приходят большие средства, дают денежные авансы тем, кто начинает работать на шахтах.
"И нам нужно действовать…"
"Конечно, чего сидеть, молчать…"
"Попросим помощи…"
"А и действительно, что мы, хуже других?" – заговорили в Краснодоне.
"Да, да, под лежачий камень, как говорится, вода не течёт. Начинаем действовать…"
Подобные разговоры были и в тот день, когда на запустелый двор шахты собрались забойщики, слесаря, крепильщики, коногоны. Совет держали долго, а решение было короткое: послать в центр таких, которые хорошо знают шахтёрскую жизнь, а главное – как следует постояли бы за общественное дело…
– Скажут, поручили недотёпам: поехали, покрутились и, с чем были, с тем и приехали, – заговорил снова обеспокоенный Степан Рыбальченко.
– Несомненно, что так скажут, – отозвался Гудков. – Ну и пусть говорят, ропщут, а я иначе не мог! – заявил он решительно. – Пусть бы мне дали сто наказов от ста обществ, я всё равно повёл бы себя так, как мы, друже, с тобой…
– Да, – сказал многозначительно Рыбальченко. – И если бы кто-нибудь другой был на нашем месте…
– Верно, твоя правда, Степан, – подхватил, перебивая, Гудков. – Будь кто-нибудь другой, он тоже поступил бы так, как мы, да и каждый честный человек…
– Каждый честный, – повторил Рыбальченко, – а как же… Ну что ж, поворачиваем на ту стёжку, которую утоптали.
Гудков молча кивнул головой в знак согласия.
Друзья ускорили шаг по дороге к вокзалу.
За несколько суток дороги от Москвы до Донбасса шахтёрские посланцы имели возможность наговориться вволю, обдумать свои дела. Между ними не раз возникал один и тот же назойливый вопрос: как встретят их краснодонцы? Что скажут, когда узнают, что они прибыли с пустыми руками. Степан Рыбальченко даже предложил возвратить "дорожную субсидию" – сто двадцать миллионов рублей и две сумки хлеба, полученные от общества. Правда, сделать это не так-то легко – надо же иметь те деньги, а они истрачены, и сумки давно уже пустые. Но Степан всё же настаивал: раздобыть деньги и рассчитаться. Гудков решительно возражал, доказывал, что они не виноваты, и шахтёры их поймут.
– А если нет?.. – не сдавался Рыбальченко. – Придётся рассчитываться.
После долгих споров они так и не пришли к согласию. Вопрос остался открытым. Его должны были решить земляки-краснодонцы.
Известие, что посланцы возвратились, быстро облетело посёлок. Краснодонцы тут же узнали, как происходила и чем закончилась их поездка, так как ещё на станции Семенкино, в нескольких километрах от посёлка, посланцы встретились с земляками и, конечно, ничего не утаили перед ними из того, что довелось видеть и слышать в Москве.
Фёдор Иванович и Степан Михайлович договорились между собой, что отчитываться будут завтра или послезавтра, когда хорошо отдохнут и сориентируются, как им лучше себя повести.
Не успел Гудков явиться домой, как к нему начали сходиться соседи, знакомые. Пришлось, наверное, уже в десятый раз рассказывать о поездке. А люди приходили и приходили, и каждому хотелось всё подробно знать, и в первую очередь, как происходила беседа с Лениным.
В тот день в Краснодоне творилось что-то удивительное, необычное. Без оповещения, без вызова шахтёры начали собираться на выгоне вблизи шахтного двора. Там, на возвышенности, на каменном грунте, было сухо, просторно. Погода благоприятствовала собранию: день выдался по-настоящему весенний, чувствительно припекало солнце, местами паровала просохшая земля, и даль сияла широко, бесконечно.
Люди приходили из самых отдалённых уголков посёлка и с ближних соседних шахт. В сопровождении большой группы мужчин, женщин и даже детей не замедлил явиться и Степан Рыбальченко. Гудкову тоже пришлось идти на выгон. Он был уверен: если все шахтёры соберутся, то придётся отчитываться сегодня. Но, к его удивлению, митинг начался как-то стихийно, преждевременно, даже не подождали, пока придут они, посланцы.
Посредине толпы появилась фигура забойщика Гната Ревякина. Он сорвал с головы островерхую, с красной звёздочкой шапку-будёновку и начал говорить о торжестве Великой Октябрьской революции, о том, что стране не даёт покоя преступная Антанта, но что карта империалистов бита и барона Врангеля уже скинули в море. Теперь же наступило время победить разруху. Однако без угля не оживить ни фабрик, ни заводов.
– Да он нужен во всяком производственном деле.
– Молчат заводы.
– А железная дорога? Паровозы застыли.
– Да и люди страдают, нечем согреться.
– Даже у Ленина в комнате сейчас холодно! – слетали сказанные с болью в сердце слова.
– У Ленина…
– Даже у Ленина…
Поражённые таким известием, сотни людей на миг застыли в тревожном немом удивлении.
– Да, холодно! – заявил Фёдор Гудков.
– В его кабинете печь нетоплена! – подтвердили ещё раз Гудков и Рыбальченко.
– А чего ждём, тянем? – спросили с упрёком из толпы.
– Как же так?
– Да, чего?..
– От одних слов, даже горячих, теплее не будет!
– Слова словами…
– Действовать нужно…
– Нужно…
Митинг бушевал, разрастался. Сыпались вопросы, советы, как лучше начинать восстановление хозяйства. Поступило предложение для крепления в шахте использовать пока что всякое дерево, ограды и даже заборы.
– Нужно как-то помочь горю…
– В первую очередь добытый уголь отдадим Москве, для Кремля.
– Ленину!
– Пошлём эшелон.
– Пошлём!..
– Ленину! – произносилось с любовью, искренне, подсказанное сердцем.
Постановление о начале добычи угля в шахте № 1 "Краснодон" первыми подписали посланцы в Москву.
В те минуты никто из шахтёров не знал, что на станцию Семейкино – рудник "Краснодон" – прибывают десять вагонов крепёжного леса и всякое снаряжение, отправленные Советом труда и обороны по указанию товарища Ленина.
На другой день с самого утра шахтный двор наполнился людьми. Взрослые и дети сносили сюда разный инструмент, железо, дерево, которое могло быть пригодным для крепёжных стояков. Посёлок ожил. Слышались звонкие голоса, перестук топоров, скрежет и звон железа.
Заработала слесарная мастерская, потом кочегарка. Её топили углём, добытым из "верхняка" в степи, на дне оврага. Подвозили ручными тачками, несли в мешках.
Наступил день – на копре завертелись колёса, заработала клеть. В шахту спустились шахтёры наводить порядок в штреках, забоях.
Первую выданную на-гора вагонетку с углём встретили радостным "ура". Под восторженные выкрики коногон Иван Белаш, держа красное знамя, проехал на вагонетке вдоль эстакады. И ссыпал уголь в приготовленный вагон.
Такое было начало.
Со временем, когда на шахту прибыли нужные материалы, жизнь начала входить в обычную, нормальную колею.
А время шло… Ослабели морозы. Стихли метели. Наступила оттепель. Степными просторами катила весна. Как ни спешили горняки шахты № 1, а послать уголь во время холодов в Москву не успели.
Миновал март. Начался апрель. Потеплело.
"Успеть бы хотя бы к дню рождения Ленина".
"Нужно поспешить".
"Наверстать упущенное".
"Поспешим", – говорили на собраниях, нарядах, везде, где собирались шахтёры.
Забойщики, коногоны, крепильщики согласились работать сверх нормы, чтобы ускорить добычу. Забоев было маловато. Не хватало зубков для обушков. Туго шёл уголь на-гора. Но уже загрузили им четыре вагона. Потом – пятый. Собрались с силой, поднатужились и добавили ещё два. Правда, один из них неполный. Но оттягивать отправку эшелона дальше было невозможно…
…Весеннюю вечернюю тишину разорвал высокий гудок над шахтою. Ему ответил прерывистый, бодрый гудок паровоза – это было оповещение: эшелон отбывает.
К шахте, к колее железной дороги сошлись взрослые и дети. Не было ни речей, ни высоких слов, ни напутствий. Украшенные красными флагами вагоны, под пение гудков, двинулись с места, покатились скорее, скорее. Было их только семь.
И слышалось среди шахтёров недовольное, сожалеющее:
– Маловато.
– А это ж Ленину…
– Да, послать бы в подарок ему эшелон такой, чтоб длиною километра полтора-два. Вот это было бы!
– Да, маловато послали.
– Пусть извинит нас Ильич, что смогли…
– Со временем добавим…
И добавляли…
1937
Портрет
В дверь постучали. Стук был дробный, тихий. Согнутый палец, наверное, едва касался двери. Вацлав Лискевич, услышав стук, очень обрадовался неизвестному гостю. «Может, заказчик?» – мелькнула обнадёживающая мысль. Сердце забилось ускоренно, громко. Он поднялся с дивана, наспех поправил на себе давно не глаженную одежду, приосанился и гостеприимно крикнул: «Заходите!»
Дверь открылась.
– Извините, пожалуйста, здесь живёт Вацлав Лискович? Художник Лискевич, – поспешил добавить неизвестный, делая ударение на слове "художник".
– Да. Вы не ошиблись, – Вацлав испытующе посмотрел на того, кто переступил порог комнаты, и помрачнел. Человек в старом сюртуке, в кепи, в простых аляповатых ботинках не может быть заказчиком. Наоборот, люди такого сорта частенько заходят в дом непрошеными и готовы услужить вам за бесценок – навязчиво предлагают фотокарточки, зажигалки – замаскированное нищенство. Однако этот…
– Можно присесть? – спросил незнакомец, отходя от порога.
Хозяин молча указал на стул, сам остался стоить, готовый в любую минуту выпроводить гостя.
– А вас, господин Лискевич, довольно трудно найти, – усевшись в кресло, весело сказал гость. – В клубе художников, на Собесского, даже не знают, где сейчас живёт известный художник…
– Я там не бываю, – решительно, гневно произнёс Вацлав. При напоминании о клубе художников к его горлу подкатил горький комок и внезапно забил дыхание. Вацлав ещё больше помрачнел и отвернулся, чтобы избежать взгляда пришедшего.
– Вы извините меня, но речь не об этом. Совсем не об этом. Бес с ним, с тем клубом! – поспешил смягчить создавшуюся неловкость гость. – У меня, извините, дело к вам, очень важное. Я пришёл к вам, господин художник, со срочным заказом. Нужно нарисовать портрет, большой портрет…
– С вашей персоны или с какого-нибудь господина? – поспешно спросил художник, приветливо и искренне улыбаясь.
– Портрет вождя революции. Только вы не пугайтесь слов. И если уж на то пошло, то пусть будет вам известно, что рабочие устраивают забастовку. Мы выйдем на улицу с красными флагами. На нашем знамени должен быть портрет вождя…
– Но простите…
– Стачечный комитет, – продолжал гость, прерывая внезапно побледневшего хозяина, – поручил мне, Яцеку Бондаришину, поговорить с вами и попросить вас об этом. Нужен художественный портрет. А кто может лучше вас?.. Вы мыслящий, честный, и вы лучший художник, – добавил Бондаришин, затем не спеша отвёл полу сюртука, извлёк свёрток кумача, развернул и положил на стол.
– Я, извините, не политик! – не удержавшись, сурово воскликнул Лискевич. – Зачем мне это?! Я хочу быть нейтральным. Искусство выше всяких будничных дел. И ваши демонстрации, господин, меня не касаются. Да, да, не касаются…
Нервный, растерянный Лискевич взмахнул руками так, будто отгонял кого-то от себя, потом глянул на гостя, приблизился к нему и снова отошёл. Ему хотелось сказать, что сегодня, несколько часов тому назад, его вызвали в полицейское управление и тоже предложили сделать рисунок… "Простенький рисуночек, карикатуру… – шептал льстиво и ехидно чиновник управления полиции, – вы же, господин художник, патриот… Вы понимаете дух нации… Вот и покажите, кто есть враг отечества – бунтарь, коммунист… А мы напечатаем".
Лискевич отказывался рисовать – доказывал, что он нездоров, но чиновник настаивал, и вот с часу на час, во всяком случае не позже как завтра, придут из полицейского управления…
Лискевич не стал говорить об этом гостю. Он повернулся и заходил по комнате. Бондаришин искоса следил за художником. Тот, горбясь, выпячивал вперёд тонкое худощавое лицо с русой бородкой, то ерошил волосы, то, щурясь, потирал руки и шагал всё быстрее и быстрее, будто кем-то гонимый.
– Да, да, прошу, запомните, запомните, я – художник, а не политик! – выкрикнул взволнованно Лискевич.
Но вот он снова вдруг глянул на гостя. Неожиданно убавил шаги и семенящей походкой направился к столу. Подошёл и даже наклонился, всматриваясь в фотографию в руках Бондаришина.
– Ленин? – спросил таинственно, понизив голос.
– Да, – ответил твёрдо Бондаришин.
Глаза хозяина и гостя встретились и долго не могли разминуться – спокойный взгляд серых глаз Бондаришина и задумчиво-синих Лискевича.
– Да, это Ленин, – после затянувшейся паузы вторично подтвердил Бондаришин и положил фотографию на полотнище. – Стачечный комитет платит вам, господин художник, за этот портрет двести злотых. Работа срочная, – добавил Бондаришин и замолчал.
– Когда же демонстрация? – будто между прочим спросил Лискевич.
– Завтра утром.
– Утром? – переспросил удивлённый Вацлав.
– Да, завтра, – ответил спокойно Бондаришин, хотя этот вопрос вызвал у него подозрение. – В шесть часов утра я приду за портретом. Желаю успеха в работе, господин Лискевич. Желаю успеха, – весело сказал Бондаришин, прощаясь. Он оставил на столе деньги и вышел из комнаты.
Удивлённый хозяин даже не ответил на прощание гостя. Какое-то время он стоял посреди комнаты, словно оцепеневший. Потом кинулся к окну, выглянул. Кряжистая фигура Бондаришина удалялась. Лискевичу вдруг захотелось крикнуть, возвратить гостя, отдать ему всё, что он оставил здесь, в комнате: это красное полотнище, эти злотые, эту фотографию. И вместе с тем знал, что так не сделает.
А Бондаришин шёл не спеша, словно на прогулке. Повернул в проулок, остановился. Начал изучать расположение домов, входы и выходы вблизи двора Лискевича – запоминал на всякий случай. В глубине улицы показался отряд полицейских. Бондаришин переждал, пока полицейские миновали его, и пошёл вслед за ними по улице в направлении железнодорожных мастерских.
Темнело. На западе таяли последние отблески лучей солнца. Город окутывала осенняя ночь.
Матовый свет падает ровно на укрытые мольберты, на стены и палитры с красками, пламенеют, переливаются цветами дивной радуги картины на стенах, на подставках. И кажется, что художник заплутался в этом густом сплетении тонких красочных линий, радужных лучей. Высокий, в голубом комбинезоне, стоит он перед полотнищем, словно застыл, и только рука, напряжённая и ловкая, то взлетает вверх и в сторону, то резко опускается вниз, и с каждым штрихом карандаша всё чётче вырисовываются контуры портрета. Лискевич сравнивает его с изображением на фотографии – кажется, точно. Но это не удовлетворяет художника. Он должен вложить всё своё умение, постигнуть приёмы великих портретистов – пересматривает свою художественную картотеку.
Лискевич делает несколько эскизов будущего портрета. Это должно быть настоящее произведение искусства. Но так мало времени для работы! Да, да. На кумаче будет нарисован лишь силуэт, а там, со временем, и портрет. Большой портрет…
Лискевич доволен: таких напряжённых минут работы он уже не знал давно. И он несказанно горд, ведь он рисует портрет великого человека. Не каждому художнику выпадает честь писать Ленина. Да, да. Это очень знаменательно. Где-то затевается стачка, а может быть, и восстание, и вот "они" пришли к нему, к Лискевичу, знают, верят, что он наилучший художник.
И вдруг Лискевич спохватился. Но это же политика! Да! Политика! А принцип свободного искусства? "Искусство превыше всего… Однако это творчество, – ищет спасения, будто оправдывается перед кем-то, Лискевич, – это же творчество…"
Уже несколько лет Вацлав не брался по-настоящему за кисть.
– Разве то было искусство? – вскрикнул вдруг Лискевич. Он вспомнил, как, унижая достоинство художника, рисовал вывески для магазинов и дешёвенькие натюрморты для домов развлечения. "Вы патриот… Дух нации…" – вспомнились льстивые слова чиновника из полицейского управления… Отчизна… А он, художник Лискевич, не имеет работы. Голодает. Скитается по людям. Но разве это кого-нибудь беспокоит…
Он знает: несчастье в его жизни началось с тех пор, как он выступил с речью в клубе художников. Да, да. Он говорил тогда об упадке родного искусства, о невежестве, о фиглярничанье художников перед правительством. Он звал их к вершинам искусства, а его освистали…
Как внезапное весеннее половодье, всплывают и растравляют душу воспоминания. А зачем? Сердце давно переболело. Стёжка потеряна. Её уже не найдёшь. А думы – ежедневно и об одном и том же: "Кто виноват? Почему так случилось?" Но ответа нет. Да и кто ответит.
Изнеможённый работой, бессонной ночью, раздумьями, Лискевич тяжело опустился на диван. Сидел застывший, неподвижный. А со стены – из простых и золочёных рам – сверлили глазами юные, красивые и уродливые, кроткие, важные и злые – когда-то изображённые им люди. И ему казалось, что вот сейчас они вдруг задвигаются, заговорят все разом, разноголосо, будут кричать его болями, так как во всех из них частица его самого, его радостен и мук…
Вон та девушка, застенчивая, нежная, с букетом красных роз, и вон тот важный господин, и тот в углу лукаво изогнутый ксёндз – всем им, не задумываясь, отдавал он своё сердце, разум и силу, отдавал свой талант. И может быть, поэтому так и случилось, что он сбился с дороги…
Тихо в мастерской. Лица, затиснутые в багетовых рамах, тускнеют, прячутся. Только с красного полотнища, усмехаясь, смотрят прищуренные умные глаза. Лискевич загляделся на портрет. "Он, Ленин, наверное, сказал бы, где правда", – мелькнула острая мысль.
– Да, сказал бы! – произнёс вслух Вацлав. Он решительно поднялся с дивана и поймал себя на мысли, что ещё мало знает Ленина. Да, да, он много слышал, о нём, но ничего не читал из его трудов. А мог бы знать. Хотя бы от "них", от Бондаришина…
При воспоминании о заказчике Вацлав поднял глаза на часы. Стрелки давно уже миновали цифру шесть. Утро. А где же заказчик? Лискевич отодвинул штору, открыл настежь окно. С прохладным воздухом в комнату поползла утренняя мгла. В городе стояла необычная тишина. Он, притаившись, молчал, и Вацлаву было понятно почему. Но где же Бондаришин? Одно за другим напрашивались предположения, догадки… А вдруг провокация?.. Нет, не может быть. Очевидно, его схватили на улице, по дороге, и он сейчас где-то в полицейском участке…
"А демонстранты?.. Что ж, пусть будет так, как есть. За работу заплачено, – начал точить душу червь успокоения. – Но как же так?" – превозмогая себя, стал искать выход Лискевич. Он представил виденные не раз железнодорожные мастерские: широкие, присадистые, под этернитовыми и стеклянными крышами, постройки. Они всегда наполнены звоном и скрежетом металла, движением, гудками паровозов. А сейчас там, наверное, всё замерло. В цехах ни единой души. Зато на улицах густая волнующаяся толпа решительных и смелых. Рабочие строятся в колонны, готовые выступать, но оказывается – нет ожидаемого знамени с портретом Ленина…
Задумчивый, строгий, Лискевич медленно заходил по комнате. Появившуюся вдруг мысль нужно было взвесить – дело серьёзное.
Наконец он выпрямился, оживился, поспешно накинул на плечи пальто, бережно свернул полотнище с портретом и спрятал под полу. Около дверей, не донеся пальцев до ручки, остановился. Окинул глазами комнату так, будто оставлял навсегда. Заметил: на подоконнике неудачно расположена статуэтка Аполлона. Подошёл, поправил, положил в карман оставленные Бондаришиным деньги и, спокойный, решительный, переступил порог. Снял шляпу, тряхнул чубатой головой и подставил лицо слепяще-нежным лучам утреннего солнца. На мгновение представил себе кратчайшую дорогу, которая вела к железнодорожным мастерским, – площадь, улицу, переулки. По ним, наверное, где-то спешит сейчас Бондаришин, если только его не схватили… "А может, всё же это провокация? – снова забеспокоился Вацлав. – Ладно, сейчас всё выяснится – проверится". И он прибавил шаг.
За несколько минут ходьбы Лискевич дошёл до площади Святого Доменика и остановился. Через три квартала на север находились железнодорожные мастерские. Там наверняка он нашёл бы кому отдать знамя с портретом Ленина, и, наверное, всё же посчастливилось бы там встретить самого заказчика. Вот тогда бы всё и выяснилось. Но пройти к мастерским сейчас невозможно. Все улицы, выходы с площади стерегут полицейские. Даже около входов во дворы и около дверей домов стоит стража.
Выждав удобный момент, когда полицейский, медленно шагая, отдалился и исчез за выступом стены, Лискевич перебежал улицу и стал за углом крайнего от площади дома. В этом, как ему казалось, безопасном месте он решил ждать, пока полицейские уйдут и снова выдастся случай проскочить дальше. К тому же здесь, за углом, в нише между двумя домами, было удобно стоять и следить за тем, что происходит на площади.
Вдруг полицейские ринулись на середину площади, остановились, построились, мимо их рядов, кичась, напыженный как индюк, прошёл офицер-комендант. Он что-то говорил, наверное инструктировал-приказывал. Полицейские разделились на несколько отдельных маленьких отрядов, которые тут же разошлись и разных направлениях, а потом снова собрались вместе и загородили выходы с улиц, что вели от мастерских на площадь.








