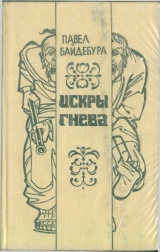
Текст книги "Искры гнева (сборник)"
Автор книги: Павел Байдебура
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
Молитва
Землю укрывала ночь. Яростно вихрила густая позёмка-метелица. Непрекращающийся ветер ровнял степь, нагромождал сугробы, утихал и внезапно снова поднимал и гнал белую завесу куда-то в степной простор. В шальном разгоне он налетал на опустошённое шахтёрское селение, на мгновение останавливался около кранной избы и вершил белую степу до самой крыши.
На холодной печке лежала старая Явдоха. У изголовья она положила краюху хлеба, сумочку с фасолью, несколько картофелин и луковиц – всё, что осталось для жизни.
В избе хозяйничали немцы. Что они делали, старуха не видела. Она только слышала, как шарят по всем углам, переворачивают всё вверх дном и о чём-то по-своему лопочут. Старухе казалось, что в её избу вдруг забежала свора голодных собак и подняла хриплый лай.
Уже несколько раз фашисты подходили к ней, требовали, чтобы она растопила печь. Но Явдоха упёрлась и не желала слезать с печки.
– Больная, – отвечала коротко.
Даже тогда, когда один из немецких изуверов раскричался и ткнул её в ногу штыком, Явдоха не поднялась.
"Да поиздыхайте вы все, ироды, а прислуживать не буду!.." – решила твёрдо. А сердце грызла досада, что она, старая, всё же не сдержала слово, и хотя не прислуживала этим проклятым фашистам, но пьют они воду в её избе и из её кружки. А ведь те приказывали…
Из туманной мглы вдруг выплыли и предстали перед глазами Явдохи свои, невыразимо милые… Вот они идут степью… Катят по дорогам машины, пушки, заполнили всю степь… Дотлевает разрушенное селение, дымит земля… А они идут на восток – где-то из-за горбатого берега Луганки взвиваются сокрушающие молнии.
Над селением, над шахтами кружил огненный вихрь, летала видимая смерть. А она, старая Явдоха, сидела у дороги вблизи родной, чудом уцелевшей избы и угощала бойцов яблоками, поила из кружки водой и молча провожала в дорогу. И хотя каждый, кого угощала, утешал, обещал скоро вернуться и она верила им, жгучая боль всё же терзала изболевшееся сердце, уходили ведь бойцы с родной земли.
Последним подошёл смуглый гоноша. Поздоровался, взял из её рук краснобокое, полосатое, как разрисованное пасхальное яйцо, яблоко и усмехнулся по-детски просто, искренне. Затем глянул на неё и сказал: "Спасибо, мама". Так говорили все, кого она угощала. Но юноша, казалось, выговорил эти слова как-то иначе. В нежном слове "мама" старая Явдоха уловила неизмеримую глубину сыновьего тёплого чувства. И растрогалась, заплакала. Молодой боец смутился, начал успокаивать, показал фотографию уже пожилой женщины – своей матери. Говорил, что скоро вернётся домой этими же шахтёрскими дорогами. А когда уже уходил, сказал сурово и твёрдо:
– А тем, – махнул рукой в ту сторону, откуда подходили немцы, – смотрите, чтоб ничего… Даже воды не давайте… – Затем поправил на плече винтовку и исчез в волнистой широкой степи.
"Даже воды не давайте… – повторила Явдоха. – А что поделаешь? О, если б могла – душила б проклятых!.."
В избе не затихал лающий гомон. Но старуха уже нм на что не обращала внимания. Она погрузилась в свои думы, старческие и грустные, и они, как колышущиеся волны, то уносили её в давнее, отжитое, полузабытое, то возвращали обратно, и едкая скорбь бередила душу. Одна, даже не с кем словом поделиться. Одна, вокруг – враги…
Вдруг старая Явдоха услышала родную речь. Обрадовалась, заволновалась, быстро поднялась и выглянула из-за дымохода. Посредине избы стояли со связанными руками два раненых красноармейца. Стояли простоволосые, разутые. У пожилого на голове и на лице ещё свежие раны. У молодого, почти мальчика, из бессильно свисавшей руки стекала на пол кровь.
Старая Явдоха оцепенела, немигающими глазами смотрела на бойцов – хотела узнать, кто они – может быть, знакомые. Затем перевела взгляд на толстомордого, с отвисшей губой фашиста, который, по-кошачьему выгнувшись, искажая русские слова, что-то выпытывал у пленных. Бойцы молчали. Вдруг фашист взъярился, выскочил из-за стола, а размаха ударил в висок молодого, свалил его на пол, потом сбил с ног пожилого и начал топтать пленных ногами.
Явдоха глухо вскрикнула, припала к поду печи и, чтоб не видеть пытки и ничего не слышать, замотала голову в лохмотья, лежала оцепеневшая, в слезах. А когда выглянула снова, раненые, едва держась на ногах, стояли уже в углу избы. Толстомордый фашист пролаял что-то своим и указал на глухую каморку в сенях. Потом разъярённым взглядом уставился на пленных, предупредил, что если они не сознаются, то завтра до восхода солнца будут висеть на столбе. Хлопнув дверью, фашист выскочил из избы.
Старая Явдоха, не мешкая, слезла с печи. Появление хозяйки немцы встретили презрительным хохотом. Пленные хотели заговорить с нею, старший даже сделал шаг навстречу, но тут же отступил – часовой крикнул на него и приставил к груди автомат.
Старая Явдоха, будто ко всему безразличная, упала на колени в углу, где должны быть иконы, а сейчас висели только сухие пучки материнки да голубели бессмертники, и начала отбивать поклоны. Потом подняла руки вверх и застыла в молитвенной смиренной позе.
Шум в избе затих.
Явдоха что-то беззвучно зашептала, затем снова начала отбивать поклоны. Голос её всё усиливался…
– Сынки мои, деточки милые! Впереди длинная ночь, и я не прозеваю. Слушайте со стороны боковой стены…
Произнеся свою "молитву", Явдоха поднялась и засуетилась около печи, положила в неё дрова, подожгла. В избу вскочил толстомордый фашист. Он снова начал допрашивать пленных и, ничего не добившись от них, ещё раз предупредил, что будет ждать до рассвета. Пленных отвели в каморку.
На дворе не утихала метель. Ветер задувал огонь. Едкий сизый дым забивал дыхание, и хозяйка открыла настежь дверь.
Немцы обрадовались горячей воде, мылись, а когда на столе появился пыхтящий парком кипяток, сели пить кофе. Явдоха прислуживала, выносила из избы помои, управлялась около печи, набирала во дворе пушистого снега и растапливала его в чугунке.
Уже несколько вёдер воды вынесла старуха под боковую стенку, когда глина размокла, продолбила дыру, просунула в неё нож и долото. Пленные в каморке сразу же начали расширять дыру. Явдоха вернулась в избу, подложила в печь дров, глянула на немцев, все ли они здесь, и поспешила снова во двор.
Ждать пришлось недолго. Вот упали последние комья земли, и оба пленных оказались на воле. Явдоха подала им сумку с хлебом, накинула на плечи белые ряднины, проводила до калитки.
– Спешите скорее, мои деточки! – поторопила она красноармейцев.
Взволнованные, растроганные бойцы поцеловали ей руку и исчезли, словно нырнули в сугробы.
– Счастливо, удачи вам!.. – прошептала Явдоха. Поднятой вверх рукою она указывала красноармейцам путь, а по морщинистому, просветлённому радостью лицу её катились слёзы…
Через несколько минут в избе поднялся шум, в сенях тяжело затопали немцы.
Во дворе, вблизи избы, вслед беглецам затрещали выстрелы.
Успокоившаяся Явдоха вдруг покачнулась и упала навзничь на снежную белую постель. Окровавленная поднятая вверх рука её так и застыла в последнем прощальном движении… Порывистый ветер трепал серебристые косы старушки, целовал её в открытый лоб и снова мчался в далёкие, укрытые ночью степные просторы.
1942
Маленький Тимко
Напуганный ворвавшимися в комнату немцами, Тимко забился в уголок между столом и кроватью и внимательно следил за тем, что происходит. Около дверей стояли, будто бы приросли к земле, два вооружённых карабинами рыжих, круглолицых солдата. Третий – долговязый, с длинной, как дыня, мордой – тыкал матери в грудь пистолетом и что-то лопотал невразумительное. Из картавой смешной речи немца Тимко понял лишь два слова – «партизан» и свою фамилию.
Мать стояла около окна неподвижная, бледная как мел и, понурив голову, молчала. Такой Тимко её ещё не видел никогда.
Но вот мать шевельнулась и сказала тихо, но решительно:
– Ничего не знаю!
Она подняла голову и смело глянула на долговязого, Тимко был уверен, что немцы поверили матери и не сделают в доме ничего плохого. Он даже перестал их бояться.
Но вдруг долговязый завизжал, аж захлебнулся, быстро забегал по комнате, подскочил к матери, о чём-то забормотал и начал тыкать пистолетом ей в лицо.
Мать по-прежнему стояла суровая и молчаливая. Тогда долговязый что-то крикнул, обращаясь к немцам, находившимся около дверей, и те стали переворачивать всё вверх дном. Безжалостно трещало всё, что попадалось им под руки, срывали со стен полотенца, с кровати стащили одеяло, перевернули этажерку с книгами, рвали и топтали книги. А потом втроём начали возиться около сундука.
Мать стояла всё такая же неподвижная и гневная. Её руки дрожали, сжимались в кулаки.
Выбрасывая вещи из сундука, долговязый наткнулся на какие-то бумаги и письма отца. Он даже захохотал от удовольствия. Мать подскочила к гитлеровцу, выхватила у него из рук бумаги, порвала их и тут же бросила в помойное ведро.
Долговязый, как кошка, прыгнул, вытащил из воды размякшие в синих пятнах обрывки бумаги и среди них уцелевшую маленькую фотографию отца Тимка. Глянул на неё, что-то выкрикнул и ударил мать пистолетом в лицо. Она пошатнулась, упала на подоконник.
Тимко не стерпел такого надругательства и обиды. Он ястребом кинулся на фашиста, толкнул его, но сил не хватило даже сдвинуть с места. А фашист хрипел; что-то выкрикивал и беспрестанно бил мать. Тимко всё же изловчился, ухватил долговязого за руку и что есть силы вцепился в неё зубами. Но тот рванулся, отбросил от себя Тимка и навёл на него пистолет.
В ту же минуту мать бросилась от подоконника и заслонила собою сына.
– Беги, сынок, прячься! – толкнула она Тимка к двери.
Слова материи заглушили выстрелы. Пули сверлили дверь, впивались в стену. Но Тимко был уже во дворе.
Притаившись за плетнём под кустом сирени, он увидел, как вывели окровавленную, со связанными руками мать: с плеч у неё свисали клочья рваной сорочки. Вслед за матерью немцы вынесли узлы с одеждой и с домашними вещами. В руке долговязого фашиста Тимко разглядел свой любимый маленький кувшинчик, который сделал ему отец из красной листовой меди. Но сейчас этот кувшинчик Тимка не интересовал. Он прикипел глазами к матери; едва-едва ступая, она шла по двору и тревожно озиралась вокруг: наверное, искала его, Тимка.
Да, она искала сто. А он не мог подняться с земли. Лежал неподвижно. Только сердце билось быстро-быстро, и казалось, что бьётся оно не в груди, а в этой холодной и твёрдой земле.
Немцы без конца подталкивали мать. Она отходила всё дальше и дальше. Вот она уже за калиткой, вот уже на середине улицы, остановилась. Оглянулась. Рыжий немец ударил прикладом, мать пошатнулась и снова пошла.
– Мама!.. – крикнул Тимко.
Мать не услышала. Тогда он крикнул снова, крикнул во весь голос. Но она опять не отозвалась, даже не оглянулась. Тимко не переставал кричать. Он говорил нежные слова, просил, чтобы мать не оставляла его одного, что ему очень страшно.
Мать не слышала. Да и не могла она слышать, так как с детских пересохших губ от страха и отчаянии вместо слои слетали только стон и шёпот.
На улице – никого. В соседних дворах пусто. Нет нигде ни одной живой души. Тимко умерен, что здесь в посёлке он остался одни. Тимко заплакал отчаянно громко – и сразу стало как-то легче, он поднялся и побежал.
Только за посёлком Тимко увидел мать. Она шла вместе с мужчинами и женщинами, в окружении немецких солдат. Тимко не видел лица матери, он увидел только её выпрямленную спину и связанные верёвкой руки. Толпа двигалась по на правлению к глубокому оврагу. Двигалась медленно.
Тимко шёл вслед за толпой, не отрывая глаз от высокой фигуры матери. Ему очень хотелось подойти к ней близко, прижаться, вцепиться цепкими ручонками так, чтобы никто не смог бы оторвать. Но он боялся немцев.
Тимко слышал выстрелы и страшные крики людей. Он кричал вместе с ними и плакал, потому что там была мама. Казалось даже, что он слышал её голос.
Фашисты возвращались в посёлок той же дорогой. Тимко спрятался от них в густом бурьяне. А когда гитлеровцы совсем скрылись из виду, он помчался по степи к оврагу.
Мать лежала в заросшей полынью канаве. Неподалёку от неё лежали ещё люди, но Тимко будто не видел их. Он бросился к матери, обнял ручонками и стал целовать её, тёплую и невыразимо родную. Целовал и не находил утешения. Мать не отмечала на его ласки. Она лежала вверх лицом, беспорядочно раскинув руки. На левой руке затянута верёвка, а в горсти правой зажата земля, казалось, мать загребла её вместе с травой, намереваясь бросить её в кого-то, и не успела. На лице кровь и раны. Это, наверное, тот, долговязый, разбил пистолетом…
Тимко решил, что мать спит. А может, и нет? Ведь только правый глаз закрыт, а левый всматривается в небо. Наверное, мать следит за полётом облаков и вслушивается в шум ветра в траве, в пение птиц.
"Пусть немножко отдохнёт, – решил Тимко, – ведь она очень утомилась. Пусть отдыхает".
Успокоившись, он лёг около матери, обнял ручками её шею и стал рассказывать на ухо, потихоньку, как он испугался тех проклятых немцев, как прятался под сиреневым кустом, как страшно было бежать по полю. На бегу наколол пятку, ещё и сейчас болит. Ох, как он быстро бежал, спешил, боялся, что немцы заведут её куда-то далеко и он уже никогда её не увидит. И ещё ему было очень страшно, когда стреляли здесь, в овраге. Но всё это прошло, и они снова вместе. Пусть мамулька не горюет, раны скоро заживут, а там, где у неё болит, он поцелует, и перестанет болеть.
И Тимко целовал мать и снова начинал щебетать. Вспомнил об отце, рассказал, как в тот день, когда отец уходил с ружьём и пистолетом из дома, они долго играли с ним в коня и всадника, носились по комнате, падали на пол, боролись и смеялись до слёз. Вспомнил, как отец посадил его к себе на колени и сказал: "Ты уже достаточно вырос, тебе, Тимко, уже пятый год, будь умным, слушайся маму. На улице ни с кем не заводи драку, а если тебя кто-нибудь обидит, то смело давай ему сдачи…"
Мать слушала молча и всё смотрела в синюю небесную высь.
Наговорившись, Тимко достал из кармана сухарь, немного отломил матери – поест, когда проснётся, а остальное съел сам. Потом подсунул голову под руку матери и не заметил, как уснул.
Вокруг, залитая весенними красками, широко расстилается степь. Ветер плавно катит зелёные волны, лохматит, ласкает и расчёсывает травы: на гребнях волн всплывают перламутрово-белые венчики ромашек, плеснули и застыли мраморные плёсы бессмертников, пламенеют и роняют на землю свои огненные лепестки маки.
Куда ни глянь, цветы и цветы.
Мчат над землёю ветры, взмывают ввысь и уже под самым солнцем звенят серебристыми переливами в песнях жаворонков. Звенят, рассыпаются смехом и снова падают на землю, в травы, или на крыльях степных орлов улетают за горизонт, куда-то вдаль…
Но ничего этого не могут уже увидеть или услышать те, что лежат в овраге посреди степи. Из шахтёрского посёлка сюда был их последний путь. Лежат они в непробудном сне. Кровь и слёзы прожгли землю на месте их гибели. Это место топтал кованый сапог фашиста. Но кровь затоптать нельзя. Она горит, будто перелившись в красные маки. Она зовёт к возмездию. Последний предсмертный стоп убитых ветер будет носить над степью, над жильём живых людей, будет носить и звать к отмщению, к расплате…
Проснувшись, Тимко долго сидел будто ошалелый и никак не мог понять, где он. А на степь тихо надвигался вечер. Большой раскалённый круг-солнце уже коснулся на западе земли. В овраг вползли чёрные тени, и он казался сейчас ещё глубже и длиннее. Тимко прижался к матери, начал её тормошить, просил, чтоб она вставала, так как уже темнеет и пора идти домой. Но напрасно: мать лежала неподвижно.
Тимко всматривался в лицо матери. Застывшее, почерневшее, оно казалось ему совсем чужим. Пятна крови на лице и на руках густо укрыли муравьи. И вдруг Тимко понял, что мать не спит, а умерла. Ему стало страшно. Он оцепенел. Над головой низко пролетела какая-то птица и пронзительно крикнула. Перепуганный Тимко встрепенулся и начал отползать от матери. В бурьяне наткнулся на какую-то женщину. Она тоже была мёртвая, с почерневшим лицом.
Тимко поднялся и стал озираться вокруг. Куда бы он ни глянул – везде лежали страшные, с перекошенными лицами люди. Тимку хотелось кричать, плакать, но грудь будто чем-то сдавило, как тогда, под кустом сирени, и он молчал.
Зажмурив глаза, Тимко выскочил из страшного круга мертвецов и во весь дух помчал в направлении посёлка.
Остановился он только тогда, когда добежал до первых домов. Вон и шахта, а рядом гора породы, под которой он каждый день играл с соседскими детьми. Уже совсем стемнело.
Тимко обошёл террикон и направился к своему дому. Но дома не было. На его месте дымились чёрные руины. На повисших деревянных стропилах вспыхивали, будто живые, жёлтые огоньки. Там, где был палисадник с цветами, торчали обугленные колья и обгоревшие кусты сирени.
По улице, недалеко от пожарища, медленно прохаживался часовой. Дойдя до переулка, он остановился, поднял голову и стал всматриваться в небо. Но вот часовой повернул назад, начал приближаться к Тимку. Уже хорошо было видно его одутловатое безусое лицо.
"Это, наверное, тот, который стрелял в маму", – подумал Тимко. Детское сердце закипело гневом. Тимко вспомнились вдруг слова отца, сказанные ему на прощанье.
Не долго думая, он схватил твёрдый кусок породы, размахнулся, бросил в часового и попал. Немец испуганно вскрикнул, отскочил в сторону, пригнулся и несколько раз выстрелил. Где-то вблизи тоже начали стрелять. А Тимко был уже на другой улице.
Ночь укрыла землю. Тихо. Над посёлком в кружеве облаков купается круглая луна. Тимко вышел в степь и зашагал по дороге, которая вела к матери. Он уже почти дошёл до оврага, но повернул назад. Вернувшись в посёлок, отдохнул под стеной разрушенного дома а снова пошёл в степь. И так много раз. Тимко боялся приблизиться к страшному месту с мертвецами, он не мог успокоиться и всё время плакал. Ему очень хотелось быть около матери. Хотелось увидеть отца, чтобы рассказать ему, что он, Тимко, всё же отомстил за обиду… Хотелось встретить кого-нибудь живого, только где они, люди?..
Ночь укрыла всё густым мраком. Над молчаливой землёй плыла безразличная к людскому горю большая круглая луна и навевала сон.
1943
Встреча
Когда старому Охриму Ивановичу сказали, что на шахте установлены такие приспособления, благодаря которым можно видеть всё, что делается под землёй, он верил и не верил. Это какое-то преувеличение. Как же это можно с поверхности видеть, что делается в лаве, в забое?
Но об этом диве рассказывали свои, близкие люди, и старый шахтёр задумался: "А может быть, и впрямь там есть что-то подобное, ведь теперь на белом свете что ни день, то диво. Может быть, и правда… Но куда ж оно достаёт своим глазом, то диво?.."
В воображении Охрим Иванович не раз спускался в шахту. Перед глазами вставало давно забытое, удалённое годами. Он проходил штреками, выработками, видел себя с обушком или с отбойным молотком рядом с товарищами, друзьями, всплывали события далёких дней. Их было много: одни яркие, будто только что произошли, другие какие-то затуманенные, невыразительные. Всё это волновало, радовало, и сердце, овеянное терпкой, холодноватой грустью, щемило.
Но чаще всего Охрим Иванович попадал мысленно в забой, где в последний раз рубил уголь. Это было впервые послевоенные годы, когда шахту поднимали из руин, когда не хватало машин, а уголь был очень нужен Советской стране. В те дни каждый шахтёр, умевший держать в руках обушок, спускался в шахту.
Но проходили дни. Жизнь пошла радостнее. В шахту спустили врубовки и комбайны. То место, где Охрим Иванович ковырял когда-то уголь обушком, давно разрушено, засыпано породой. Однако он видит его таким, каким оставил в последний день работы: тусклый свет лампы падает на кучу раскрошенного угля, на чёрную, порубленную в серебряных отсветах стену, холодные синеватые лучи, кажется, застыли, но вдруг начинают шевелиться, мигать и бесшумно стекать в раскрытые жерла бесконечных выработок. Работа до изнеможения. И будто на свете никого и ничего не существует, кроме тебя, скорченного в чёрном вырубленном гнезде. Перед тобой угольная степа, и тебе нужно её долбить, долбить и долбить…
Когда воображаемые образы меркли и исчезали, появлялось назойливо интригующее: "Неужели можно видеть с поверхности, что делается там, в глубине…" И однажды Охрим Иванович не вытерпел, собрался и зашагал по дороге, что вела к шахте.
…Двери в комнату были открыты. Оттуда долетало беспрерывное приглушённое монотонное гудение. Охрим Иванович остановился на пороге, осмотрел помещение и не увидел ничего удивительного. На стене, под самым потолком, подвешены большие металлические, похожие на кадки футляры. От них и разных направлениях сбегали струйки труб и кабель. Посреди комнаты, огромный, в несколько метров, продолговатый ящик с выпуклой крышкой, на ней какие-то трубки, колёсики, белеющие зеркала экранов.
– Охрим Иванович! – послышалось удивлённое. – Прошу, заходите. Прошу! – из-за стеклянного ограждения, напоминающего телефонную будку, вышел небольшого роста, молодой, светловолосый, в синем комбинезоне мужчина.
Охрим Иванович узнал его. Это был инженер Николай Геращенко, сосед и внук старого шахтёра-друга Кузьмы Геращенко.
– А я смотрю и сам себе не верю, – подходя ближе, заговорил Николай. – Оказывается, это действительно пожаловали вы, Охрим Иванович! Вот событие!..
Инженер почтительно взял старика под руку и ввёл в комнату.
– Интересуетесь? – Николай обвёл вокруг рукой.
– Хочу дознаться, правду ли говорят про всякие ваши чудеса, – признался старый шахтёр.
– Да ничего диковинного, Иванович, – сказал с нарочито подчёркнутой иронией Геращенко. – Смотрите. Вот эти вот, видите, – показал он на потолок, – приспособления фиксируют, сколько поступает воздуха с поверхности в шахту. А вот здесь, правда, новое в нашем горном деле, – Николай подвёл Охрима Ивановича к ящику и включил ток. Вспыхнули зеленоватые глазки-лампочки, послышался едва слышный шелест в прорези под стеклом, над глазками-лампочками поползла широкая голубоватая, усеянная какими-то значками полоска. На экране тоже появились какие-то мигающие изображения.
– В пятой лаве комбайн работает нормально и находится посредине лавы, – сказал Геращенко.
– Это в самом деле так? – вырвалось недоверчиво у Охрима Ивановича.
– Проверим, – сказал инженер. Он сиял телефонную трубку, позвонил в диспетчерскую, спросил, где сейчас находится машина пятой лавы, и передал трубку Охриму Ивановичу.
Диспетчер доложил.
Геращенко довольно улыбнулся, глянул на удивлённого старика, снова включил приборы, чтобы узнать, что делается на других участках. Затем записал что-то в тетрадь. Охрим Иванович, высокий, сутулый, от удивления разводил руками, топтался на месте, потом начал ходить по комнате, внимательно ко всему прислушивался и присматривался. Когда гудки прогудели второй час дня, он поспешил во двор. В нарядной начинался дневной наряд. У Охрима Ивановича было намерение тоже побывать при случае на таком шахтёрском сборище. Но мысленно он всё ещё находился около тех удивительных приборов. Ему захотелось снова посмотреть на них, и он вернулся в комнату.
Помещение было заполнено учениками ремесленного училища. Пареньки толпились, тихо переговаривались между собой и задавали вопросы. Пояснял Николай Геращенко. Охрим Иванович тоже стал прислушиваться. Кое-что ему было непонятно. Но он решил расспросить Николая немного погодя, когда останется с ним один на один. А время шло, и вскоре Охрим Иванович узнал другую новость. Оказывается, при помощи приборов можно не только следить, что делается в шахте и на шахтном дворе, а и управлять машинами.
– Вся эта техника – нашей эпохи, нашего поколения. Это начало нашего сегодня и широкое будущее коммунистического завтра, – говорил инженер. – Но нам, юные друзья, нужно было начинать знакомство с шахтой не с этой комнаты, а с нашего шахтного музея. Однако это не поздно сделать и сейчас. Побывать же вам там нужно обязательно. Обязательно, – сделал ударение на последнем слове Геращенко.
С экскурсантами Охрим Иванович перешёл коридор и очутился в музее. Увиденное там не поразило его. На стенах, на полу, в витринах – обушки, лампы, топоры, свёрла, зарубные машины, отбойные молотки, всякое оборудование, которое уже вышло из употребления. Старый шахтёр без внимания прошёл мимо тех механизмов, принадлежностей и остановился в углу около больших деревянных, вытертых, словно отполированных углём, саней-короба. Он узнал их, будь они трижды прокляты! Вон те зарубки вырезаны его руками, и жестянка к днищу прибита тоже его руками. Да и как не узнать это чучело, которое он таскал день в день около десяти лет!
Охрим Иванович стоял взволнованный. За долгие годы в его шахтёрской жизни было всякое. Но всё улеглось, много и грустного и тревожного выветрилось из памяти.
В сердце пришёл покой. Но эта встреча вдруг растревожила – на всю жизнь запомнился ему тот первый день работы саночником…
Он, Охрим Юренко, уже знал шахту, знал хозяина, не раз снимал перед ним шапку, потому что пан-хозяин милостиво позволил ему – дал кусок хлеба – работать дверовым: открывать и закрывать дверь на проходе штрека, когда коногоны вывозили партии вагонеток. А потом его определили к артели забойщиков таскать санки. Он насыпал в короб нарубленный уголь, впрягался в ремённую шлею и тащил на карачках, упираясь руками и ногами в каменистый, усеянный щебнем грунт.
В тот первый день, казалось, не будет ни конца ни края этой каторжной работе! Но вот наконец в последний раз набросали ему в короб угля. Забойщики подхватили свои обушки и ушли, а он впрягся в санки-короб и пополз. Этот последний короб, казалось, был самым тяжёлым. Его и в самом деле нагрузили с горой большими глыбами. По дороге Охрим несколько раз отдыхал, а вскоре лёг, и не было у него уже сил подняться. Боль пронизывала, сковывала всё тело. Нестерпимо ныли ссадины и окровавленные колени. Тихо. Жутко. Будто угасая, тускло мигала лампа. Блики света падали на желтокорые стояки крепления, выхватывали из тьмы и будто колыхали низко нависшую кровлю. Он видел торчащий над головой ребристый "корж", который, казалось, вот-вот сорвётся, слышал таинственный треск и шорохи, эти пугающие звуки долетали из густой тьмы выработок: там что-то неведомое двигалось, тяжело переворачивалось, и Охриму казалось, что это какое-то косматое сторукое чудовище приближается к нему. Но боль и усталость глушили страх, одолевало безразличие ко всему, клонило в сон.
– Хлопец!.. Где ты?! – донёсся вдруг чей-то голос.
– Давай!.. – послышалось громче откуда-то снизу, от штрека.
Всё тёмное пространство заполнилось эхом голосов. Нет, это не эхо, это гремит обвал, рушится каменная кровля. Грохот нарастает, приближается… Охрим мгновенно поднялся и рванул за собою санки.
В штреке было тихо, толпились люди.
– Чего задержался? – послышалось недовольное, сердитое.
Хотел было рассказать, что с ним произошло, как намучился с санками, как испугался. Но люди были какие-то чужие, суровые. Охрим чувствовал, что его трясёт как в лихорадке, а в груди что-то сдавило, запекла. На глаза вот-вот навернутся слёзы, а это значит – провал: он не выдержал испытания. Слепил свет ламп – вся артель смотрела на него. Неимоверным усилием превозмогая боль и волнение, он стиснул зубы, проглотил жёсткий, солёный комок и – усмехнулся. Когда же лучи света скользнули в сторону, из глаз его неудержимо хлынули слёзы.
Охриму Ивановичу кажется, что он сейчас в шахте, в штреке. Доносятся какие-то отдалённые, приглушённые звуки. В пучке тусклого света чёрные санки-короб. На их исцарапанном днище видится ему голубоватая полоска с какими-то значками – та самая, которую он только что смотрел в комнате приборов.
– Техника эпохи… – едва слышно повторяет он слова, сказанные Геращенко. – Техника… – И чувствуется, как нестерпимо болят его ноги, будто потревожены давно зарубцевавшиеся раны. Больно… А таинственные звуки из штреков, из выработок кружат, приближаются и вновь отдаляются. Веет влажным, плесенно-сладким воздухом шахты. И лицо старого шахтёра орошается слезами.
– Где вы там, Иванович! – послышался голос Николая Геращенко.
– Сейчас иду! – откликнулся тоже громко, обрадованно Охрим Иванович. И повернулся навстречу слепящим лучам солнца, что били в широкое окно комнаты.
1955








