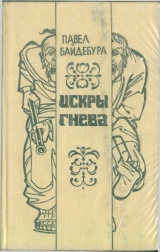
Текст книги "Искры гнева (сборник)"
Автор книги: Павел Байдебура
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Седобородый, наверное, догадался и без переводчика, о чём сказал полковник. Он начал не спеша подниматься.
Молодой таган-бей шевельнулся, что-то недовольно промычал. В тот же момент татарин, стоявший у дверей, подхватил сумку и поднёс её к седобородому. Старик вытащил из неё сначала свёрток дымчатого шелка, потом голубого, как чистое весеннее небо, а затем – багряного, как утреннее солнце. Концы свёртков, лёгкие как пух, ниспадали к полу, струились потоками прозрачной, пронизанной всеми красками радуги воды.
На свёртки шелка лёг маленький, украшенный серебряным узором и самоцветами пистолет. Рядом с ним – большой кошелёк с деньгами.
– Это дукаты, как было сказано в условии, – произнёс громко драгоман.
Седобородый что-то проговорил по-татарски. К нему тут же подбежал стоявший у дверей молодой татарин. Старик схватил его за руку, толкнул от себя, и тот упал на колени перед Шидловским.
– Немой. Без языка. Зовут Гасаном. Будет верным тебе слугою, – вслед за седобородым, только громче, произнёс переводчик.
Шидловский был доволен. Но почему привезли только одного, а не двоих? Он спросил об этом у седобородого.
Тот ответил, что, к их сожалению, они не нашли ещё одного такого же красавца без языка, который пришёлся бы по нраву "ясновельможному повелителю". Но они думают и надеются, что нынешняя встреча не последняя, что это только начало их знакомства. Ведь они могут обмениваться в будущем друг с другом ценностями, различными товарами и этот обмен может быть полезным и для него, "изюмского повелителя", и для них, "верных слуг солнцесиятельного калга-бея"…
– Баша Изюма имеет ненужных ему людей. Мы в Крыму тоже имеем таких. Можем обменяться… – прошептал с придыханием, будто несмело, лукаво усмехаясь и ворочая чёрными, лоснящимися, как омытые водой ягоды тёрна, глазами, молодой таган-бей. А затем уже громче и быстро добавил: – Дадим покорных, здоровых и пригодных к работе.
Такое необычное предложение поразило Шидловского. От удивления он вытаращил глаза, потом заморгал, как это делают, когда в глаза попадает пыль, заёрзал на табурете, поднялся. Его худощавое, скуластое, очень загорелое лицо немного нахмурилось, длинные, закрученные вверх усы слегка шевельнулись.
Гости насторожились.
Что-то бормоча, засопел седобородый. Таган-бей хотя и продолжал по-прежнему улыбаться, но лицо его изменилась, будто он проглотил что-то кислое. Драгоман вобрал голову в плечи и поглядывал на полковника, как испуганная мышь из норы.
Но гнев не разразился.
– Если тебе, повелитель, не нужны люди-рабы, – проговорил таган-бей так же тихо и медленно, будто цедя капля за каплей слова, – тогда бери лошадей… Дадим наших, татарских, быстроногих, а ты, баша, нам – ненужных тебе людей…
Шидловскому не хотелось, чтобы татары заметили его смущение, он отвернулся к окну, выглянул, нет ли кого поблизости во дворе, потом взял в руки со столика пистолет и, казалось, начал внимательно разглядывать его. На самом же деле он сосредоточенно думал: "В крепости действительно есть беглецы, клеймёные и неклеймёные. И наберётся их сотни две или три… Белгородский воевода уверял недавно, что из Петербурга скоро придёт приказ строить "украинскую линию" – фортификационные сооружения от Днепра до Донца, чтобы преградить дорогу татарам. Изюмский слободской полк будет копать рвы, насыпать валы на правом берегу Северского… А линию будут строить казаки, поселенцы и сбежавшие сюда крепостные-беглецы. В Изюме их наберётся человек двести. А позавчера ещё пригнали сюда добрую сотню разбойников из Тора. Сколько их здесь, в крепости, никто толком и не знает. Одни уже отдали богу душу, другие под конвоем возвращены в поместья… Так что, если направить в Харьков или в тот же Белгород… А по дороге… на них наскочит татарский чамбул…"
– Голову за голову? – вдруг спросил он громко.
– Да, баш на баш, – перевёл Юхан.
– Нет, одной лошади за человека маловато, – проговорил Шидловский, – маловато…
– Почему маловато?!
– Голова за голову!
– Голова за голову, – якши!..
Татары повскакивали на ноги, обступили полковника.
– Далёкая дорога…
– Гнать степью.
– Волки…
– Грабители…
– Это верно, но всё же маловато, – продолжал упираться Шидловский.
– Якши! Якши! – начал хлопать его по плечам таган-бей.
И Шидловский согласился.
После короткой паузы гости и хозяин сошлись в тесный круг и заговорили о том, что обмен должен быть абсолютно тайным и происходить ночью, в безлюдном месте. Лучше всего где-нибудь в дебрях урочища Рай-городка. Место назвали татары, но Шидловский, находясь в возбуждённом состоянии, не придал этому значения, хотя в том урочище находился и его собственный хутор.
Во время торга никто не обратил внимания на молодого татарина, который стоял в углу, около дверей, со сжатыми гневно кулаками и молча наблюдал за сделкой людопродавцев.
Но о нём помнили. Когда татары выходили из светлицы во двор, таган-бей, идя рядом с Гасаном, сказал тихо:
– Будешь делать так, как тебе приказано. Присматривайся, запоминай всё, что увидишь в крепости. Валы, башни, подземные ходы. Где именно стоят пушки. Запоминай разговоры хозяина с другими людьми. Когда придёт к тебе наш человек, а может, я и сам приду, то обо всём расскажешь. В общем, делай так, как приказано, и будешь сам жив, и цела будет твоя родня. Пусть помогает тебе аллах!..
Гасан в ответ кивнул головой и ускорил шаг, чтобы быть поближе к своему новому хозяину. Подойдя к полковнику Шидловскому, он услышал, как тот с драгоманом обсуждали, где лучше перегонять через дикопольские степи табуны лошадей и где удобнее татарам перехватить невольников, которых вывезут из Изюмской крепости. Гасан внимательно слушал их и всё запоминал.
Захарка и Гасан встретились у реки. Радостно похлопали друг друга по плечам и стали прогуливаться вдоль берега.
– Я здесь с Хрыстей, о которой тебе говорил, – сказал Захарка. – Она там… – и он показал рукой в ту сторону, где в широкой низине, около городка, находилось поселение Студенок.
Гасан кивнул головой, мол, знаю, затем круто повернулся, положил руки на плечи друга, окинул его радостным взглядом и слегка тряхнул, будто собираясь с ним бороться. Но сейчас было не до шалостей. Гасан отступил от Захарки, пригнул ветку тополя, отломил удобную крепкую палочку, и начался между ними, как бывало всегда при их встрече, необыкновенный разговор.
На мелком, слежавшемся, влажноватом песке Гасан выводил большие буквы. Захарка шёл следом, медленно читал их и сразу же затаптывал. Когда не мог что-нибудь понять или ошибался, Гасан заставлял его перечитывать снова или писал другое, более понятное слово.
Из "рассказа" Гасана Захарке стало известно, что в Изюм снова прибыли седобородый, таган-бей и драгоман. Они уже виделись с Шидловским и разговаривали с ним. К городку приближается табун из двухсот сорока шести лошадей. Их было ровно двести пятьдесят. Но четыре лошади где-то погибли или отбились в пути от табуна. Послезавтра ночью, когда будет всходить луна, на лесной поляне вблизи Изюма произойдёт обмен… Лошадей направят лесной просекой к урочищу Райгородок. А из крепости выведут узников и погонят в Харьков. Но туда они не дойдут. Вдали от Изюма, где-то в степи, возможно вблизи Балаклеи или немного в стороне от неё, где будет удобнее, татары перехватят узников и как пленных невольников погонят их на юг, в Крым.
– А как быть нам? – спросил Захарка и напомнил Гасану позавчерашний разговор об освобождении из крепости Семёна. – Как нам действовать?..
"Ножами", – написал Гасан на песке. Потом нарисовал две человеческие фигуры, связанные верёвкой, и лезвие ножа, которое перерезает эту верёвку.
– И напасть неожиданно? В удобном месте? – будто спрашивал и отвечал сам себе Захарка. – Да, неожиданно! Стремительно!..
Гасан закивал в знак согласия головой. На его кругловатом лице, казалось, не было ни печали, ни радости. Он стал как бы безразличен к тому, что замышляется. Но сердце его сжимала глубокая, безутешная тоска, и ему было невыносимо больно оттого, что он не имеет возможности никому ничего рассказать.
Встреча их на этот раз была короткой. Захарка спешил.
– Ну, Гасан, пожелай мне удачи! – сказал Захарка на прощанье весело, беззаботно, даже немного хвастливо, будто собирался не на опасное дело, а на какую-нибудь прогулку. Он ткнул друга кулаком и грудь, помахал ему рукой, быстро перебежал поляну и исчез в зарослях ольшаника, откуда сразу же вспорхнула станка испуганных скворцов. Птицы покружились немного над Гасаном, затем снова упали в кусты, и опять полилось их весёлое разноголосье.
Гасан долго стоял на берегу и всё смотрел на тихое, едва заметное течение воды, потом отступил несколько шагов, сел в тени под стволом осокоря и застыл в раздумье. Ему некуда было спешить. Шидловский после разговора с прибывшими из Крыма гостями немедленно послал нарочного к харьковскому полковнику Донцу с сообщением, что из Изюма дня через четыре к нему пригонят заключённых. И что пусть, мол, полковник поступает с ними по своему усмотрению: то ли оставляет у себя, то ли переправляет их в Белгород… Когда гонец отправлялся в путь, Шидловский тоже выехал, а куда – неизвестно. Сказал только, что домой возвратится ночью. Так что Гасан, пока нет хозяина, свободен. Он может даже выйти из крепостного замка, но покидать городок не имеет права.
Возвращаться сейчас в замок и встречаться там с мурзами у Гасана не было никакого желания. Наоборот, ему хотелось подальше куда-нибудь спрятаться, чтоб не видеть их, не слышать ни единого их лицемерного слова. Речи этих наглых торгашей, хотя и произносимые на родном языке, всё равно бросают его в дрожь, и ему так хочется крикнуть им в глаза что-то острое, исполненное гнева и презрения… Но он немой и, кроме того, раб…
В первый же день появления в замке Шидловского таган-бей заявил Гасану, что пора уже выполнять поручение.
– Нам необходимо знать, – потребовал он, – где именно расположены пороховые погреба, потайные ходы в крепости, сколько здесь пушек, где хранится полковое оружие. Всё это ты напишешь, когда мы останемся вдвоём. Кроме того, ещё припомнишь всё важное из разговоров и приказов полковника Шидловского своим помощникам-есаулам. Слуга, – проговорил таган-бей тоном, не допускающим возражения, – который ежечасно находится около своего хозяина, должен знать всё, что ой делает и даже что замышляет сделать. Готовься…
Гасан, конечно, знал многое. Шидловский, будучи уверен, что безъязыкий слуга никаких тайн никому не выдаст, ничего от него не скрывал.
Кому-нибудь другому Гасан, может быть, и рассказал бы – написал бы на бумаге всё, что знает, но только не таган-бею. Таган-бей – его заклятый враг. Он вырвал у него язык, причинил ему адские муки, убил горем и свёл в могилу его, Гасанову, мать, пустил по миру отца, насильно отнял, поглумился над расцветшей в его сердце любовью… И теперь вот – загнал его сюда, в Урустан, приказал быть шпионом.
Неожиданно повеял лёгкий ветерок. Послышался шелест листвы, Гасан поднял голову и увидел мелькнувшую вдали, меж редкими кустами, фигуру Захарки. Течение его мыслей сразу изменилось. Гасан почувствовал себя одиноким, будто он давно уже находится на безвестной пустынной земле. Только нет, не на пустынной, вокруг ходят люди, но он для них чужой. Кроме Захарки, у него нет здесь ни одного близкого человека. Лишь с Захаркой он может поделиться сокровенными мыслями, излить ему боль своей души. Вот под этим осокорем они только что сидели. На этом сером песке он выводил слова, чертил улицы и дорогие, знакомые обоим места – дома Кафы. Они показывали друг другу, где жили: Захарка в семье рыбака недалеко от моря, от гавани, там, где начинается каменный мол. А Гасан – в каморке кафского медресе, в котором его отец был сторожем. Захарка рассказывал, как он очутился в этом урустанском крае, как ему живётся в Маяках, не утаил и о своей любви к синеглазой Ганке, рассказал о том, как Скалыга посылал его в Крым, к родным, за согласием-благословением на брак.
Опасной и утомительной была та поездка для Захарки. А Кафа встретила его горем: отца поглотили морские волны, мать тоже умерла, день и ночь высматривая своего рыбака на берегу моря. Старшая сестра Захарки, выслушав, за чем приехал брат, сказала:
– О твоём намерении, Закир, породниться с гяурами я буду молчать перед аллахом и перед людьми. Так как я сама несчастлива. Мой любимый Махмуд уже второе лето как пошёл гребцом на паруснике в море. Поплыл и не возвращается. Как тебе, Закир, быть – посоветуйся со своим сердцем.
И Захарка подался тем же бездорожьем на север. Когда он снова вернулся в Маяки, ему казалось, что всё идёт хорошо, что Скалыга даст своё согласие на его брак с Ганкой, только надо дождаться осени. Ведь у урусов так заведено – обручение справляют лишь осенью, когда управятся с неотложной работой: соберут зерно, овощи, приведут в порядок сады, да и себя обошьют, обуют. Но вот настала осень. Умер Пётр Скалыга. Теперь, по тому же урусскому обычаю, нужно ждать сорок дней после смерти старика, и тогда уж Захарка напомнит Ганке о своей любви, и они сыграют свадьбу.
"Пусть будет счастлив… – желает мысленно Гасан. – А мне…"
Давящая горечь наполняет его сердце. Гасану нестерпимо больно. Ему только двадцать лет. В этом буйнокрылом возрасте всё кажется доступным, грудь наполняет радость, а он уже живёт воспоминаниями о прошлом…
Сколько им пережито! Особенно за последние годы. Изведанное тяжёлым грузом лежит на его душе, и он даже не имеет возможности вылить вместе со слезами перед кем-нибудь из родных или другом свою горечь, свою печаль. Ведь буквами на песке всего горя из сердца не вычерпаешь…
Когда исполнилось шестнадцать лет, его схватили султанские слуги и отвели во двор, где помещался кафский правительственный диван. Там его, к удивлению, угощали мясным душистым пловом, медово-сладким шербетом и такою же сладкой водой. После еды он крепко заснул. Когда проснулся, пришёл в себя, был уже без языка. Лежал в какой-то маленькой, тесной, зарешечённой каморке, весь пронизанный жгучим огнём. Руки и ноги связаны. Голова замотана в тряпки. Рот забит тоже каким-то вонючим тряпьём.
Матери, пробравшейся к изуродованному сыну, таган-бей, очутившийся вдруг тоже в каморке, сказал:
– Это большое счастье Гасана. Теперь он станет охранником кафского дивана, а то был бы простым воином. Его могли бы погнать в неведомые края, и где-то там, на чужбине, он мог бы погибнуть в бою. Теперь же благодари, ханум, аллаха, твой сын всегда будет находиться в Кафе.
Но охранником дивана Гасан не стал. Его постигло ещё большее несчастье…
Кончался летний день, вечерние сумерки спускались с гор. Свет тускнел, фиолетовые тона сгущались и сгущались. День должен был вот-вот уйти прочь, землю постепенно наполнял ночной мрак. На ближайшей к дивану мечети муэдзин пропел в чистое небо своё протяжное "Алла Акбар". С моря доносилось беспрестанное рокотание, словно там без конца вздыхал какой-то могучий сказочный великан. Но и сквозь шум прибоя в каморку с улиц Кафы доносились крики рассерженных ишаков, ржание коней, людские голоса.
Однако Гасан ничего не слышал и не видел, кроме любимой Фатимы, своей подруги детства, которая пришла его проведать. Они сидели рядом. Девушка откинула паранджу и, радуясь встрече, рассказывала всякие новости, а затем начала вдруг вспоминать, как они, ещё детьми, играли во дворе, о чём-то заспорили, подрались и Гасан укусил её за руку выше локтя. Фатима отвернула на плече накидку и показала то место. Гасан припал губами к плечу Фатимы. Затем смутился и почувствовал, как вдруг неистово заколотилось его сердце. Фатима умолкла, глянула на него повлажневшими и вместе с тем радостными глазами. Зардевшееся её лицо приблизилось к Гасану.
– Милуетесь? – послышался хрипловатый ехидный голос таган-бея.
Гасан и Фатима, вздрогнув, отпрянули друг от друга. Вскочили на ноги. Фатима не успела закрыть, как это полагается делать при встрече с мужчиной, лицо паранджой.
– Ты, оказывается, умеешь писать? – грозно, с удивлением спросил таган-бей. – Умеешь?!
Слушая чарующий голосок Фатимы, Гасан чертил прутиком по песчаному грунту разные знаки, силуэты домов и сам не заметил того, как написал имя девушки. А с тереть его позабыл.
В тот же день Гасана допрашивали. И он "рассказал", что грамоте научился у мальчиков в медресе, с которыми дружил, когда помогал отцу убирать школу.
За скрытие, что он умеет писать, а значит, мог бы, если бы был охранником дивана, разгласить какую-нибудь тайну, Гасана должны были казнить. Но его помиловали. Однако помиловали, как выяснилось вскоре, не из милосердия.
Гасан очутился за Кафой, в горах, – в тайном медресе. Там учили его урусскому языку, письму и чертить хитроумные условные знаки, для тайнописи.
Почти два года он ничего не слышал о судьбе своих родителей и любимой. И только перед тем как должен был ехать в Изюм слугой и шпионом, узнал, что мать свело в могилу горе, обрушившееся на него, отец нищенствует где-то на невольничьем базаре, а Фатима в серале таган-бея.
Уже пошёл третий год, как он в последний раз видел свою Фатиму. Но и сейчас Гасан слышит её нежный голос. Она каждую ночь является к нему во сне. Взявшись за руки, они бродят по бескрайним, дивным просторам или парят будто на крыльях над наполненной седыми туманами бездной, над горами, повитыми прозрачной, светлой голубизной…
Иногда Фатима является к нему печальная, вся в слезах и зовёт, умоляет освободить её, взять с собой. А он стоит растерянный, не может осмелиться на такой поступок и тоже заливается слезами. В щебете птиц, в шелесте деревьев, в дуновении ветра – всюду Гасану слышится голос любимой.
Уже здесь, в стране урусов, Гасан много передумал о своей и её судьбе. Он без конца казнит себя за трусость. Вот его однолеток Закир ради любви дважды преодолевал опасный нелёгкий путь между Крымом и Маяками, страдал от холода, изнывал в жару и остался живой. И, наверное, скоро будет счастлив с любимой. А он, Гасан, имел ведь возможность, ещё будучи вблизи Кафы, убежать из того шпионского гнезда, уничтожить таган-бея, забрать Фатиму и… Но он не сделал этого!..
Да и в те дин, когда ехали сюда, в Изюм, он был около своего лютого врага и мог бы задушить эту гадину и повернуть своего коня в Крым.
"Ты, Гасан, – ишак, который хотя и упирается, но всё равно идёт, куда его направляют, и везёт на спине, что положат. Ты шакал, который громко воет, лает, а сам дрожит от страха и прячется в щели, поры. А ты ведь мог бы быть барсом, львом, мог бы быть вольным… Такая возможность тебе представлялась не раз. Даже сейчас, как приближённый хозяина, ты можешь пойти куда захочешь. А на конюшне Шидловского томятся застоявшиеся жеребцы. Неужели ты не воспользуешься удобным случаем и теперь?.."
Гасан рывком вскочил на ноги, оглянулся, посмотрел вверх: скворцы, кружась, набирали высоту, тренировались перед отлётом в тёплые края.
Торопясь в поселение Студенок, Гасан представлял, как будет происходить схватка с охранниками узников, а может быть, и с татарами-людоловами ночью по дороге в Харьков. Схватка эта неминуема. А их будет только трое: Захарка, ханум Хрыстя и он, Гасан. Да, маловато. Кроме того, им необходимо хорошее оружие, быстроногие кони. Нападать, как говорил Захарка, нужно стремительно, неожиданно…
Освободить надо только одного заключённого. Хотя ханум Хрыстя говорит, что, если представится случай, освободить нужно заключённых побольше, даже всех. Что ж, правильно говорит. А кто он такой, тот Семён, что из-за него поднимается такая буча? Урусский бай?.. Нет, в крепость сажают только беглецов, подстрекателей, непокорных мурзам людей. Так что, наверное, и он из таких. Не зря ведь и настоящий урусский мурза Синько, приезжавший на днях к хозяину и рассказавший ему о бунтовщиках, упоминал и имя узника Семёна. Жаль, он забыл сказать об этом Захарке. Надо ему ещё передать и о том, что у хозяина был разговор с прибывшими из Крыма гостями о каком-то опасном бунтовщике Головатом. Татары почему-то обеспокоены, что этот казак подался на юг, – может, побаиваются встречи с ним, когда туда же, на юг, погонят узников? Хотя едва ли. Дороги их, видимо, разойдутся. А наши сойдутся, сойдутся обязательно! Как же всё это будет происходить?..
Битая дорога тянулась и тянулась на запад. Гордей Головатый ехал впереди неизвестного ему чумацкого обоза. Чтобы не удаляться от него, он сдерживал ход коня, часто останавливался и, постояв минуту-другую, ехал дальше.
Темнело. Небо куталось в клубящиеся тучи, и солнце едва просматривалось сквозь них. Сеялся мелким дождик. Травы и листья деревьев, намокнув, становились тугими, блекли, сворачивались и никли. Куда ни посмотришь, до самого горизонта стелились широкие желтоватые пятнистые полосы.
Всё это было привычным и не выливало у Гордея никаких эмоций. Но вот внимание его начали привлекать раскидистые кусты боярышника. Они словно выбегали из бескрайней степи, становились вдоль дороги и красовались своими густыми, будто пылающими тихим ясным пламенем листьями. Гордею казалось, что это буйно трепещущее пламя вот-вот взовьётся высоко в небо и охватит всё необозримое перед ним пространство.
Осень…
На всём тихая задумчивость. Степь готовится к долгому сну. А может быть, она только утомлённо притихла? В вышине и внизу ещё плывут отзвуки лета. В ржавой, привядшей, всклокоченной траве – шелест, писк, птичьи трели… А с неба струится, постепенно отдаляясь, размеренное "курлы". Оно зовёт за собой куда-то в неведомое, загадочное, что находится где-то там, может быть на краю земли…
Кусты боярышника стали гуще. Багрянцевые сполохи затопили весь горизонт. Рядом с боярышником изредка появлялись синеватые запруды тёрна, спутанное сплетение ежевики. Волнистые травы припали к земле, облысели песчаные, омытые дождями холмы.
– Наверное, и там уже всё пожелтело, завяло, – сказал вслух, как привык это делать наедине, Головатый. – А вскоре осыплется лист, поредеет чаща…
И он мысленно перенёсся туда, куда держал путь, к широкой пойме речки Самары, где она дугообразно поворачивает на запад и медленно течёт к Днепру. Там, среди густых кустарников, – зимовники. В тех, из лозняка, хатёнках можно немного отдохнуть, а потом снова – в дорогу, на правый берег Славуты.
"А может быть, у реки, в низине около воды, ещё всё зелено, травы в соку, не полегли, – начал размышлять Головатый. – Но если даже и так, вода всё равно ледяная. Сам бы я ещё смог на лодке или на какой-нибудь колоде переплыть через Днепр… Но как быть с конём? Придётся, наверное, ждать, пока реку скуют морозы. Да, придётся… – вздохнул Гордей. – А пока можно будет спуститься на понизовье, добраться до Хортицы, до Бузулука и земно поклониться… О нет! Лучше не думать о таком, не тревожить, не растравлять свою боль… Там, на пожарище, всё поросло чертополохом, лебедой. А ветер поднимает и гонит из края в край степную пыль с руин и могил моих побратимов…
Нет! Лучше шагать своею дорогой. Через неделю или полторы буду около Днепра, переберусь на Правобережье. А там, на той, теперь уже польской, стороне станет видно, с чего начать, что делать, как действовать. Соберём, наверно, побратимов, и снова запылают фольварки… Только надо было бы выбираться туда в погожие летние дни. Тогда не шатался бы по заливным лугам… Да, запоздал я. Уже подошла осень. Земля вот-вот раскиснет, начнётся грязь. Да, запоздал…
Что ж, пусть будет и так. Но в эти дни вон как дунуло! – Гордей довольно усмехнулся. – Да, завихрило, закружило, щедро сыпануло искрами… Бахмутцы дали хорошую взбучку торским и своим соляным управителям и надзирателям. Не один из них рыл землю носом, чесал помятые бока, а некоторые уже никогда и не поднимутся…"
При воспоминании о тех недавних событиях в городке Бахмуте в воображении Головатого снова предстало…
Взгорья, лесные чащи. Над берегами реки Бахмутки низкий непролазный кустарников, широкой долине избёнки, шалаши, землянки – убогие поселения беглецов со всей России… На левом берегу реки приземистые сараи – солеварни. А на бугре, на каменном фундаменте, за высоким частоколом – большой, с башнями, верандами-пристройками дом управляющего солеварнями.
Над Бахмуткой стелется дым, дотлевают избёнки, шалаши, землянки, сожжённые барскими приспешниками. Слышатся выстрелы, тревожные голоса. Грименко так и не удалось подчинить, поработить бахмутцев. Повстанцы уничтожили его и его дом. Но и сами они не нашли ожидаемого покоя. Из Белгорода, Харькова двинулись к Бахмуту царские каратели. Пришлось повстанцам бежать в дикопольскую глушь. Так им посоветовал он, Головатый.
А что было делать, когда нет другого выхода? Да, люди спрячутся в Диком ноле в чащах, в оврагах… Но надолго ли?..
Гордей окинул взглядом притихшую степь – никого. Оглянулся. За версту-полторы – чумацкий обоз. Слышно поскрипывание колёс, отдалённое негромкое покрикивание чумаков.
"Наверное, негоже вот так торчать и торчать столбом перед людьми, мозолить нм глаза. Если уж свела судьба тебя с ними, то надо присоединяться к их компании", – подумал Головатый. Он свернул с дороги, разнуздал коня и отпустил его пастись.
Обоз приближался. На переднем возу сидел неподвижно и, казалось, дремал в испачканных дёгтем, припорошенных пылью, заскорузлых штанах и сорочке дородный, с чрезмерно широкими плечами и круглым, словно распухшим лицом, заросшим рыжеи до красноты бородой, чумак.
"Атаман", – догадался Гордей. И, сняв шапку, приблизился к возу.
– Здравствуйте! – почтительно поздоровался Головатый.
Рыжебородый лениво шевельнулся, сдвинул на затылок шляпу. Из-под её обвисших полей, казалось, ударило сразу пламя. Но поля шляпы тут же наползли на копну волос – пламя потухло. Кустистые, выбеленные солнцем брови атамана резко поднялись, и он метнул в Гордея пронзительный взгляд.
– С Дона едете?
Атаман опять не ответил. Он выпятил губы так, что даже усы оттопырились, и сверлил Головатого острыми, словно маленькие буравчики, глазами.
А сам, наверное, думал: "И кто это такой объявился здесь, на глухой степной дороге? Не разведчик ли, случайно? Да, да, конечно! Осмотрит всё, а потом, когда стемнеет, когда чумаки улягутся, уснут, подаст условный знак – и ватага отчаянных разбойников обрушится на обоз. Так бывало уже не раз… А грабить будут в первую очередь мой воз, где хранится казна и ценности…"
Волы, тяжело ступая, едва двигались по неровной, в выбоинах дороге. Ни окрики охрипших чумаков, ни посвисты кнутов на них не действовали.
– Бедная скотина обессилела, наверно, отощала. Добраться бы вам к хорошему пастбищу и отдохнуть, – произнёс Гордей, пытаясь разговорить всё же атамана, однако тот продолжал молчать.
Головатый отстал и снова начал пасти коня вдоль дороги, где ещё вился не сожжённый солнцем спорыш и щетинился молодой пырей.
Чумаки, в отличие от атамана, были более общительны с Головатым. Подъезжая к нему, они здоровались, перебрасывались словами. Гордей всматривался в их загорелые до черноты, задубевшие от солнца и ветра лица. И хотя никого из знакомых он не встретил, ему всё равно было приятно слышать немного вызывающее, а то и острое, задиристое:
– Эй, человече, откуда прибился?
– Да он здесь, в буераке, родился.
– А может, и так. Вон какой вымахал!
– Куда стелется дорожка?..
– Приставай к нам, будет веселей.
– Конечно, если по пути.
– Приставай, скушаешь чумацкого…
– Тумака и мамалыги:
– Меняй коня на чебака.
– Сделаем из тебя чумака.
– Так меняем?
– Можно. Если хорошо будете кормить, – отшучивался весело Головатый, – и чтоб на мягком спать.
– Накормим.
– Из лободы юшка, а кулак – подушка.
На переднем возу поднялась тычка с большим пучком бурьяна и красной лентой. Чумаки тут же умолкли. Насторожились. Подъезжавшие новые чумаки уже не здоровались, смотрели на Гордея мрачно, с подозрением. Головатому была понятна такая внезапная перемена в настроении людей, и он не удивлялся этому: атаман подал знак: "Будьте осторожны с ним…"
"Хотя и хотелось, но не свертелось, – подумал с досадой Гордей. – Не смололось на этом камне, сыпь на другой".
Он отошёл немного в сторону от дороги, остановился на видном месте и, прислушиваясь, смотрел на проезжающих мимо чумаков.
Вдруг в конце обоза послышались то высокие, то низкие, то дребезжащие звуки – какая-то странная музыка. Но вот она оборвалась, и тут же раздался тоскливый собачий вой.
Головатый подошёл к дороге.
Из будки последней в обозе мажары выглядывал паренёк лет шестнадцати-семнадцати. Он был круглолицый, светловолосый. Его большие серые глаза смотрели на Головатого доверчиво, улыбчиво. Прижав к губам небольшую продолговатую дрымбу, юноша играл что-то грустное, а две кудлатые собаки, рябая и чёрная, которые бежали рядом с мажарой, то и дело останавливались, вытягивали шеи, поднимали вверх морды и протяжно завывали.
– Пищалка? – спросил Головатый, поздоровавшись.
– Дрымба, – пояснил юный чумак, почтительно кланяясь и не выпуская из рук согнутую в кольцо, толщиной с кнутовище лозину, из разреза которой торчала тоненькая, как лист пырея, пластинка.
– Дрымба? – удивился Гордей. – Самодельная?
Паренёк свесил с воза босые ноги, вымазанные дёгтем, и в одни момент очутился на земле. В это время, свирепо залаяв, собаки набросились на копя Головатого, а потом и на него самого.
Юный чумак утихомирил собак и ещё раз поздоровался с Гордеем. Заметив у него под полой плаща пистолет и ятаган, удивлённо поднял брови.
– Вы запорожец? – спросил, смущаясь.
– Был таким, – признался Головатый.
Паренёк ещё больше смутился. Волы, предоставленные самим себе, остановились. Но собаки, наверное уже приученные подгонять их, завизжали, залаяли. Мажара снова двинулась дальше.
– Пойдёмте скорее, а то отстанем, – проговорил паренёк.
Головатый и молодой чумак ускорили шаг.
– А я до этих пор только слышал рассказы о тех рыцарях. Да, бывало, ещё слушал о них песни кобзарей. А вот теперь… – Юноша замолчал и с восхищением посмотрел на Гордея. Взволнованный такой встречен, он не знал, что и говорить. Но вскоре освоился и начал расспрашивать, куда запорожец едет. Затем, как и его старшие товарищи, стал приглашать присоединиться к их чумацкой компании.
Идя вслед за мажарой, они разговорились. Головатому стало известно, что обоз этот из Прилук. Чумаки были на Дону, на Кривой косе Азовского моря. И вот теперь возвращаются. Везут рыбу и всякий заморский и кавказский товар, но больше всего – различной сушки. Мажар в обозе около сотни. А хозяев только три или четыре. Они всем и командуют. А чумаки – беднота с прилуцких хуторов. Да и он, Санько, тоже наёмный. Уже третий год, как стал погонщиком волов, подручным атамана обоза Дмитра Кавуна. Третий год вот так, как сейчас, в дороге и в дороге. Первая поездка была в охотку. С нетерпением ждал того дня, когда они наконец выедут. Часто выходил за околицу и подолгу смотрел на дорогу, до которой предстояло ехать.








