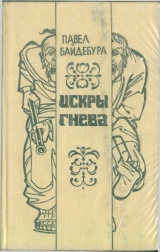
Текст книги "Искры гнева (сборник)"
Автор книги: Павел Байдебура
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
"Птица, наверное, не из простых, – подумал Головатый, – хорохорится, как вельможа…" И, тоже поднявшись на ноги, твёрдо проговорил:
– Я убедился на себе и на своих побратимах, да и видел на своей и на чужих землях: что украинский пан, что русский, что польский или турецкий – один чёрт! И здесь и там: подчинение, оброк, неволя…
– Уважаемый господин! – прервал Гордея белочубый и стал перед ним, наверное опасаясь, что Головатый, рассердившись, уйдёт. – Прошу нас, давайте поговорим о пашем общем.
– Да, да, – поддержал его, уже успокоившись, и пучеглазый, – нужно о деле. У нас же большая затея. Как бы сказать, воскрешение. Да, да! Земли новой сечи будут подслепы на отдельные паланки, и важнейшей из тех паланок должна стать Кальмиусская. Там, на "Кальмиусской Сакме", должна быть и крепость. – Он снова сел на своё место у окна.
Головатого заинтересовало услышанное. Но к чему же они клонят разговор?
– Ходят слухи, – сказал он как бы между прочим, – что замышляется строительство большого вала с крепостями, который называют "украинской линией". Вал этот и глубокий ров протянутся от Днепра до Северского Донца и пересекут Сакму. Говорят, будто изюмский полкковник Шидловский уже начал копать около своего городка…
– Но всё это нас не интересует, – уклонился пучеглазый. – Да если и построят эту линию, то мы всё равно будем впереди, около Азовского моря.
Белочубый развернул на столе большой лист бумаги, испещрённый длинными кривыми тонкими линиями, которые то разбегались в разные концы, то скрещивались, переплетались. Между линиями красовались кружки, крестики, какие-то закавычки и будто случайно наляпанные и размазанные синеватые пятна.
Присмотревшись к бумаге, Головатый легко определил нанесённые на ней земли Правобережья, Слобожанщины и дикопольские степи. А по самой жирной из всех линий узнал "Кальмиусскую Сакму". Она брала начало от Азовского моря, хотя в действительности – от берегов Чёрного моря, из Крыма, огибала ногайскую степь, вырывалась вверх по-над извилистым Кальмиусом, достигала Донца, тянулась до Царьборисова, к Ливнам и дальше… Проклятая, распроклятая дорога! Это по ней, выскочив из Крыма, из ногайских степей, разбойничьи орды стремительно мчат и опустошают всё на своём пути!..
– Преграда должна быть именно вот здесь, – ткнул пальцем белочубый около узла тонких линий и синеватого пятна, – здесь, на Кальмиусе, где была и раньше. – Он подсунул лист поближе к Головатому: – Вот посмотрите, тут будут окопы, засеки… Так что, уважаемый Головатый, – произнёс белочубый заискивающе, – в Алешковском коше, когда мы сюда выезжали, нас напутствовали пригласить вас на совет и на помощь…
"Вот он, оказывается, какой крючок, – улыбнулся Гордей. – Да, остренький…"
– Нам нельзя медлить, – проговорил черноусый, – никак нельзя. Нужно браться за дело. – Он встал, быстро подошёл к плащу, висевшему на шесте, извлёк из кармана небольшой голубоватый лист плотной бумаги и подал, его белочубому. – Это разрешение белгородской канцелярии на постройку сторожевой крепости и зимовников на Кальмиусе.
– Вы, уважаемый, знаете тамошние места – хутора, дороги, – заговорил белочубый вкрадчиво, тихо, наблюдая, внимательно ли слушает его Головатый. – Разумеется, знаете и людей той местности…
– Да, кое-кого знаю, – ответил Гордей, уже окончательно поняв, зачем его разыскивали алешковцы. – Только моя дорога вот сюда… – он ткнул пальцем в бумагу, где было обозначено слияние рек Волчьей и Самары. Затем провёл пальцем линию на запад, которая пересекала степные просторы, реки, прошла вдоль городков и селений, свернула за Днепром немного влево на юго-восток и оборвалась в широком треугольнике, где было начертано слияние двух степных рек на Правобережье – Синюхи и Ятрани.
– Но это же защита от татар…
– Такая крепость необходима… – заволновались алешковцы.
"А что, если бы в тех сторожевых местах, в казацких займищах, да поселить бедняков, беглецов… Тех, которые сейчас ищут убежище в трущобах Дикого поля… – пришла вдруг заманчивая мысль Гордею. – А и в самом деле, – усмехнулся он, – почему бы не воспользоваться таким случаем?.. В свой же родной край можно вернуться и попозже… – Головатый задумался, палец его по-прежнему упирался в бумагу в месте слияния двух степных речек на Правобережье. – Если поставить условие…
Защита работных людей, всех, кто будет строить… Нет, не только тех, а и всех, кто станет оседать в Дикополье, и в первую очередь – около речек Кильмиуса, Крынки, Кальчика…"
Мысли Гордея прорвал раздавшимся под окнами шум.
В светлицу вошёл охранник.
– Там, – указал он на двери, – чумаки, очень обеспокоены…
– Пусть подождут! – оборвал его белочубый. – А сейчас, уважаемый, – обратился он к Головатому, – мы покажем вам то место… – При этих словах черноусый начал расстилать на столе желтоватый, измятый лист.
Двери от внезапного сильного нажима открылись, и в светлицу ввалилась толпа чумаков.
– Человека морите. Взяли в плен или как? – спросил Кривда вежливо. Но в его голосе чувствовалась суровость. – Бросай, Гордей, всё к чертям – и под небо! Заждались!..
Не обращая внимания на решительные протесты алешковцев, чумаки оттеснили Головатого от стола и почти вытолкнули его из светлицы во двор.
По ту сторону частокола стояли уже с кнутами волопасы, подручные атамана. А на дороге, на протяжении почти целой версты, – возы нескольких обозов.
– Пора в дорогу!
– До каких пор будем задерживаться?!
– Пора. Трогаемся! – закричали атаманы.
Гордей догадался, что это из-за него собрались сюда чумаки со всех обозов.
– Говори, Гордей, говори. Тебя ждут, – подтолкнул Кривда Головатого в плечо.
Деваться понизовцу было некуда.
– Друзья! Побратимы! – крикнул Головатый, сняв шапку. – Счастливой вам дороги! Дороги на закат солнца. А я, друзья, поворачиваю на восток. И прошу мне тоже пожелать счастливого пути!
Но чумаки молчали.
– Ты что это?.. Зачем связался с пузанями?.. – зашептал на ухо Гордею Остап и искоса посмотрел на стоявшего неподалёку пучеглазого алешковца. – На что они тебя подбивают? Чего это тебе приспичило на восток?..
Головатый понимал! он не имеет права говорить сейчас, зачем и куда именно едет. Но нужно как-то хотя бы намёками пояснить. Это же хорошие, честные люди, которые считают, его своим, близким. Сегодня при встрече они сердечно его принимали, угощали, назвали побратимом. И он уверил их, что его сердце с ними, что у них общая дорога, и не на один день…
– Товарищество! – снова начал Гордей. – Я поворачиваю назад, туда, – указал он рукой на восток, – ну неотложному и очень важному делу… По нашему с вами, чумацкому… Так что пожелайте, побратимы, удачи!
Но чумаки по-прежнему молчали. Некоторые, бросая хмурые взгляды то на Головатого, то на своего атамана, пощипывали усы.
– Ты говоришь правду? – спросил тихо Остап.
– Да, друже, – ответил тоже тихо Гордей. – Так нужно.
Кривда порывисто рванулся, будто хотел разбросать прочь столпившихся около него чумаков, внимательно посмотрел на алешковцев.
– Возвращаешься? – спросил решительно и недовольно.
– Возвращаюсь, – ответил Гордей и опустил голову.
Остап вышел вперёд и негромко, но так, чтобы было слышно всем, сказал: раз, мол, Головатый принял такое решение, то уж ничего не поделаешь…
– Пусть едет туда, куда постелется ему дорога. И скорее поворачивает на наш Чумацкий шлях, – закончил атаман. – Счастливо тебе, друже!..
– Счастливо!
– Всего хорошего!
– Удачи!
– Счастливо!.. – перебивая друг друга, закричали чумаки.
– А может быть, ещё кто-нибудь вернулся бы с нами на восток? – став впереди Кривды, спросил черноусый алешковец.
Над толпою чумаков прокатился шум.
Из толпы вышел обвешанный двумя сумками Оверко и сказал певуче весело:
– Семь лет я чумаковал, а добра-удачи не узнал.
Хочу хотя бы семь дней показаковать. Эй, друзья дорогие! Не гневайтесь, если виноват. Прощайте и добром вспоминайте! – Он развёл широко руки, словно обнимая чумаков, затем прижал ладони к груди, трижды на три стороны поклонился и, заломив набекрень шапку, твёрдо ступая, присоединился к Гордею.
– Санька, музыканта бы ещё нам, – шепнул Оверке Головатый.
– Я тоже с вами, – послышался голос Санька.
Он выскочил из толпы чумаков и побежал к своей мажаре, обошёл вокруг неё, обнял за шею одного вола, потом другого, погладил нм спины, подхватил сумку, из которой торчали сопелка, дудка и самодельная дрымба, вернулся всё так же бегом назад, взволнованно, как Оверко, поклонился чумакам и стал рядом с Головатым.
– Ну, счастья вам! – сказал Кривда, крепко обнимая всех троих сразу. – А если нужно будет опять подвезти то, чем разить-смалить, – щурясь, хитровато подморгнул он Гордею, – то дай знать, скажи, откуда – с Дона или с Днепра – и куда именно… А вот это на память… Будешь, друже, горло полоскать, – и Остап сунул в саквы Головатого окованную серебром, с замысловатыми узорами тяжёлую баклагу.
– Цепляйте ярма! – раздался громоподобный голос атамана Кривды. В долгополой свитке, подпоясанной широким зелёным поясом с густыми кистями, в смушковой с заломленным верхом шапке, он стоял на переднем возу под длинной, с красной каймою тычкой и следил, как трогаются с места мажары.
Вздохи волов, скрип колёс, тарахтение рассохшихся грядок, громкие переговоры-переклички чумаков будили застоявшуюся холодноватую тишину осеннего дня. Обоз двинулся навстречу, а вернее, вдогонку солнцу, которое начало опускаться на запад.
Головатый вышел из двора корчмы и остановился на обочине дороги. Возы катились и катились. Прощаясь с Гордеем, чумаки снимали шапки, шляпы, сердечно кланялись. Понизовец тоже кланялся нм, желал счастливого пути, удачи, погожего дня. А грудь его наполнялась щемящей грустью. Ведь он тоже мог бы сидеть сейчас на одном из этих возов пли на своём буланом и плыть и плыть степной бесконечностью, овеянной хмельными, душистыми ветрами.
К Головатому подошёл Оверко. Убедившись, что поблизости нет никого, кто бы мог их услышать, он сказал таинственно, доверительно:
– Я знаю, кто они, – и кивнул в сторону корчмы, – знаю. Мне признался один из тех конников. Теперь я думаю и думаю: неужели будет так, как говорят?.. Неужели там, на берегах Кальмиуса, и таким, как я, можно будет осесть: пахать, сеять, косить? – В голосе остроумного затейника, беззаботного весельчака Оверки звучала сейчас глубокая встревоженность и надежда.
– Я тоже об этом думаю, – вздохнул Гордей. – Думаю, надеюсь… Когда мы, друже, очутимся уже там, в том краю, тогда узнаем, что оно и куда оно будет поворачивать, загибаться. Вот там решим всё. А если придётся бороться за то, о чём ты думаешь, о чём спрашиваешь, то бороться, друже, будем все вместе.
– Все вместе! – повторил радостно Оверко и отошёл.
"Много их, таких вот горемык, ищут пристанища, воли и плачут в надежде… А как помочь им? Как облегчить их страдания?.." – думал Гордей, возвращаясь во двор корчмы, где расположился отряд алешковцев, с которыми нежданно-негаданно свела его судьба.
Когда уже совсем стемнело, узников начали выводить из подъёмных каменных темниц во двор. Здесь стражники-надсмотрщики связывали их попарно сыромятными ремнями, как только набиралось десять человек – соединяли кожаным канатом и выводили из крепости на дорогу, что тянулась от Изюма к Харькову. Десятки выстраивали за десятками, и вскоре на дороге стояло двести тридцать человек. Это были молодые, здоровые парни. Редко встречались и пожилые. Многие истощённые, с лохматыми, давно не стриженными головами, небритыми бородами: кто в свитке или в кожухе, а кто только в рваной сорочке или каком-либо лохмотье, по которому уже и не определишь, что это за одежда. Все узники – горемыки крепостные, которые, изнемогая от гнёта, произвола, сбежали из поместий, подняли руку на пана или надсмотрщика или провинились своей непокорностью, острым словом.
Шидловский заранее побеспокоился, чтобы собрать в Изюме побольше беглецов. Уже у себя в крепости он отобрал самых здоровых, согласно условию с татарами: лошади будут на подбор, молодые, резвые, быстроногие, – значит, и люди на обмен должны быть нестарые, способные выполнять любую работу.
Узникам сообщили, что препровождают их в Харьков. Беглецам было, конечно, безразлично, здесь или там, – всё равно тюрьма. По после такого сообщения они всё же немного оживились: хоть несколько дней побудешь не в затхлом подземелье, а под звёздами, под солнцем. И не у одного бедняги начала закрадываться соблазнительная, волнующая мысль: может быть, как-то посчастливится в дороге освободиться от пут. Такие затаённые мысли стали ещё больше тревожить узников, когда они выбрались за околицу городка и пошли в густые заросли кустарника, а потом в лесную глухомань.
Впереди колонны узников двигались три воза с харчами, вслед за ними ехали два вооружённых всадника, два таких же конвоира следили за порядком посредине и два надсмотрщика ехали сзади. Двигались очень медленно. Сначала люди шли молча, но вскоре начали перебрасываться словами. Шум голосов постепенно нарастал и нарастал. Конвоиры окриками-угрозами, а то и пинками пытались утихомирить узников, но из этого ничего не получалось. Разговоры не смолкали.
Конвоиров удивляло: почему для такого большого количества узников, да ещё таких опасных, так мало выделено охраны? Конвоиры, разумеется, не догадывались, не могли допустить даже мысли, что они тоже, как и все эти связанные ремнями люди, обречены, проданы татарам. Одного из них, может быть, двоих мурзаки отправят обратно, как свидетеля неожиданного нападения. А остальные станут невольниками.
В то время, когда узников выводили из крепости, три всадника – Захарка, Хрыстя и Гасан, ведя за собой двух коней – одного осёдланного, а другого – навьюченного одеждой, харчами и оружием, – были уже за городком, на харьковской дороге.
Ждать пришлось долго. Начало закрадываться сомнение: выведут ли вообще этой ночью узников из крепости. А вдруг Шидловский передумал отдавать за лошадей православных людей татарам на мытарство в неволю? Но ведь полковник, как утверждает Гасан, отъезжая в Райгородок, приказал двоим своим есаулам лично проследить, чтобы все, кого назначили к отправке, были своевременно выведены из Изюма.
Чтобы напрасно не терзаться, Хрыстя предложила вернуться, приблизиться к самой крепости и узнать, что там сейчас делается. Захарка и Гасан согласились.
Не доехав версты две до городка, они остановились. В ночной тишине от дороги, что тянулась по-над берегом речки Изюмца, послышался приглушённый говор, скрип колёс. Шум нарастал, приближался. Сомнения не было – ведут узников.
Хрыстя, Захарка и Гасан задумались: сколько же конвоиров их сопровождает? Если много, то как справиться с ними?.. И попал ли в эту группу Семён?..
Беспокоило их и другое: а вдруг татары нападут сразу же, неподалёку от Изюмы? Ведь если узников захватят мурзаки, то освободить их тогда будет почти невозможно…
Напряжение нарастало. Захарке хотелось, чтобы скорее всё это закончилась. Он выполнит последний приказ Петра Скалыги – освободит того хлопца – и всё" После этого он сразу же подастся в Маяки. Захарка с нетерпением отсчитывает почти каждый час из тех сорока дней траура по покойнику. Осталось уже совсем немного, всего двенадцать дней, и они с Ганкой пойдут под венец.
Томительное ожидание угнетало и Гасана. Он боялся всевозможных неожиданностей. Ведь Шидловский может вернуться из Райгородка раньше и, не увидев своего слугу, догадается, что он убежал, и убежал, наверное, с татарами. Гонцы догонят крымчаков и, не найдя среди них Гасана, прочешут все дороги, которые ведут из Изюма, и могут напасть и на этот след.
Думал Гасан и о том, что когда они освободят этого заключённого, то Захарка вернётся в свои, уже родные ему Маяки. А что будет делать он, Гасан?.. Одному, да ещё в такую осеннюю пору, пускаться в дорогу в Крым опасно… Значит, надо будет держаться этой ханум Хрысти и её любимого? А куда они подадутся, неизвестно. Да и возьмут ли его с собою?.. Может, ещё не поздно вернуться в Изюм?.. Но как объяснить, где был? Зачем взял из конюшни Шидловского трёх лошадей, оружие и харчи?.. Начнут пытать, издеваться… И если не убьют слуги полковника, то таган-бей не пощадит уж точно…
Примерно в полночь, а может быть, и немного раньше утомлённые, изголодавшиеся, выбившиеся из сил узники начали падать, и вскоре, словно сговорившись, вся колонна легла на землю. Охранники стали хлестать их арапниками, колоть саблями, но ничего не помогало. Узники не поднимались.
На рассвете похолодало, выпала густая роса. Чтобы не замёрзнуть, узники сами, без понукания конвоиров поднялись с земли и снова двинулись в путь.
Высокие, выстроившиеся вдоль дороги ели загораживали солнце. Лишь изредка оно прорывалось сквозь стволы, улыбалось узникам и тут же снова исчезало. Но вот еловую стену сменили ольха, дубы, осокори… Лес поредел. Дорога стала шире. На узников обрушился солнечный ливень, всё вокруг оживилось, повеселело. Однако лица их оставались по-прежнему хмурыми, унылыми. Крепкие узлы на руках разбухли. Стали твёрже. Прошедшей ночью никто так и не смог освободиться, убежать.
За полдень, когда лучи солнца начали косо падать на землю, колонна вышла на широкую, разрезанную дорогой поляну и остановилась. Узники были рады отдыху и куску хлеба. Конвоиры стали проверять узлы на их руках. У некоторых ремни растянулись, узлы ослабли, пришлось перевязывать. Это отняло много времени. День кончался. Солнце на западе повисло уже над самым горизонтом.
Захарка и Хрыстя уже не в первый раз спрашивали Гасана, где именно должен быть налёт мурзаков. Он, как мог, показывал руками, жестами, чертил в воздухе какие-то знаки, но всё это было непонятно. Тогда Гасан вытащил из сумки небольшую вывяленную и выбеленную шкурку и написал на ней углём:
"На следующий день. В степи".
– Нам нужно обязательно их опередить! – воскликнула Хрыстя.
– Удобнее было бы нападать, когда стемнеет… – проговорил задумчиво Захарка.
"Нужно сегодня", – написал Гасан снова на шкурке.
– Сейчас! – уточнила Хрыстя.
Захарка с ней согласился.
Кто-то из троих должен быть старшим. Но кто? До сих пор командовал Захарка. Значит, пусть и теперь готовит их к бою, приказывает, что им делать. Но Захарка молчал. Он хотя и согласился с Хрыстей нападать на конвоиров сегодня, но в душе не был убеждён, что нужно немедленно лезть в бучу. Может, подождать до вечера, пока стемнеет, а тогда уже…
Видя нерешительность Захарки, Хрыстя начала командовать сама.
– Гасан будет держать наготове коней, а мы, думаю, управимся с двумя передними охранниками, сразу освободим часть пленных, и они уже помогут нам справиться и с остальными конвоирами, – распорядилась Хрыстя.
В этот миг девушка неузнаваемо изменилась. Она словно стала выше, лицо её посерьёзнело, и всё это придало ей ещё больше привлекательности.
Подготовка была короткой. Проверили пистолеты. Взвели на них курки. По два пистолета взяли Захарка и Хрыстя. А четыре запасных положили в сумку Гасана, он должен был держать её наготове.
Хрыстя сняла с головы платок, надела смушковую шапку, подобрала под неё чёрные волнистые косы, поправила на боку саблю и вмиг очутилась на коне. Вскочил на коня и Захарка.
…Хрыстя и Захарка выскочили внезапно на дорогу и набросились на переднего всадника, который дремал, сидя на лошади: отобрали у него оружие, связали. Ещё двух охранников, что находились на возу и ужинали, связали уже освобождённые от пут узники. Напуганные криками и выстрелами, гремевшими из укрытия, где спрятался Гасан, оставшиеся конвоиры погнали своих лошадей обратно к Изюму.
Узники освобождали от пут друг друга, обнимались, целовались. Поднялся неимоверный шум, суматоха.
– Семён!.. Семён из Ясенева!.. – кричали Хрыстя и Захарка.
Но голоса их тонули в гомоне, в выкриках возбуждённых от радости людей.
– Се-мён!.. Се-мён!.. – медленно в один голос, чтоб было слышней, закричали Захарка и Хрыстя.
К ним подошло несколько человек. Однако Семёна Лащевого среди них не было.
Хрыстя направила коня вдоль дороги, ехала не спеша, от группы к группе, пристально всматриваясь в лица узников.
– Хрыстя, ты?.. – услышала она вдруг радостный, удивлённый голос.
Девушка остановила коня. Семён выбрался из толпы узников, подбежал к ней.
Вскоре он сидел на подведённом Гасаном коне.
Освобождённые толпились около возов с хлебом и водой.
– Всадники!..
– Всадники…
– Татары!.. – раздались голоса.
На воз тут же вскочил высокий, с чёрной взлохмаченной бородой узник. Он замахал, словно крыльями, длинными руками и закричал высоким тонким голосом:
– Эй, люди, спасайтесь! Бегите! Разбегайтесь!
Узники оторопели, растерянно озираясь, топтались на месте.
Двенадцать татар вихрем мчались по дороге. Увидев мурзаков, узники бросились врассыпную. Татары стали ловить их, ловко набрасывая на шеи арканы.
– Бегите!.. Люди, бегите!.. – продолжал кричать на мажаре длиннорукий.
К возу подъехала Хрыстя.
– Эй! – выкрикнула девушка и, поднимаясь на стременах, решительно занесла над головою саблю. – Эй, сюда! У кого есть оружие, сюда! Разбирайте возы. К бою!
Татары бросились к ней. Толпа узников расступилась и, пропустив мурзаков, снова сомкнулась. Татары оказались в окружении.
– Наседай! Наседай! – слышался голос Хрысти.
Она уже без шапки, с разметавшимися косами, бросалась от одного места схватки к другому. Рядом с ней татар били обломками дышел, колёсами, осями и узники. Но мурзаки не разбегались. Они тоже смело бросались на узников, рубили их саблями и ятаганами.
Схватка продолжалась долго. Наконец татар стащили с лошадей, отобрали у них оружие.
Только троим мурзакам удалось вырваться и убежать.
Двадцать узников погибло, погиб и татарчук Захарка. Семён положил тело Захарки на своего коня и вместе с Хрыстей и Гасаном, не мешкая, двинулся в путь.
Хрыстя, Семён и Гасан ехали на юг. Они торопились скорее удалиться от места, где разыгралась кровавая сеча, подальше от Изюма.
На другой день, на рассвете, неподалёку от неизвестной речки под одинокой сосной похоронили Захарку.
Гасан сел на землю лицом к восходу солнца, мысленно прочёл все, которые знал, молитвы. Хрыстя положила на могилку букет степных цветов, а Семён – ветку вечнозелёной хвои. Постояли молча у могилы и двинулись дальше.
Перед ними лежал неведомый край. Песчаная земля, редкие, низкорослые буераки. Каменистые бугры. Привядшая ржаво-бурая трава.
Куда же ехать? Хрыстя советовала, даже настаивала повернуть на север, в Ясенево, внезапно ворваться в имение помещика Синька и хорошо проучить этого наглого пана за все его злодеяния. Семён отказался ехать в родное село. Он ещё слаб, чувствует себя плохо. Вот со временем, когда окрепнет, наберётся сил, то, возможно, они и сделают то, что советует Хрыстя.
"Но если не возвращаться к берегам Северского Донца, – стала размышлять Хрыстя, – то дорога наша только на юг, в глубь Дикого поля. А где там приютиться?.."
– Говорили, что ты слышал, – повернула она голову к Гасану, – будто казак Головатый поехал к морю… – О том, кто именно говорил, Хрыстя не сказала, чтоб лишний раз не причинять боль упоминанием имени Захарки.
Гасан утвердительно кивнул головой.
– Гордей из тех людей, которые посоветуют и, когда нужно, помогут, – проговорила, как бы раздумывая, девушка и искоса пытливо посмотрела на Семёна. – Но где его там найдёшь?..
– Живы будем, найдём, – охотно ухватился Семён за мысль ехать на юг. – Найдём, – повторил он громче и ткнул Гасана в грудь, как это делал всегда Захарка, когда был чем-то взволнован или ему хотелось проявить свои дружеские чувства.
Хрыстя была рада, что Семён приободрился, повеселел, и всё же она сожалела, что не настояла на своём: ехать в Ясенево.
Почувствовав дружеское отношение Семёна и Хрысти, Гасан стал успокаиваться. Но в сердце нет-нет, а врывалась тревога: "А как меня примут те, другие урусы на берегу Кальмиуса?.." Однако его радовало, что он едет к морю, что скоро услышит его грохочущий говор, бурлящий, шумный и нежный плеск, увидит, как катят бушующие волны. И пусть хоть ненамного, но всё же приблизится к родному краю.
К устью Кальмиуса лучше всего добираться известной «Кальмиусской Сакмой». Но чтоб попасть на ту, дорогу, нужно было от села Каменки двигаться к берегам речки Берды, а потом в широкой пустынпой степи брать направление на юго-восток, таким путём за два-три дня можно добраться до Азовского моря. Однако ехать на юг и приближаться к ногайцам опасно. Могут напасть ордынцы. К тому же сейчас осень. Пойдут дожди, и легко застрять в непролазной грязи.
Советовались недолго. Головатый настоял ехать Чумацким шляхом.
Путь был немного длинней, отнимал больше времени, но зато не такой опасный. Вдоль Чумацкого шляха встречаются поселения, а в них – свои люди.
В дорогу взяли три котла, несколько сумок с пшеном, сухарями, кожаные мешочки с салом и саквы с овсом для лошадей.
После ранних осенних дождей снова распогодилось. Земля просохла. Из-за низких разорванных туч часто выглядывало, словно приветствуя путников, солнце. Заворожённая тишиною степь молчала. Кончилась пора осенних перелётов. Хоть изредка, холодноватую темень всё же пронизывали запоздалые крики гусей, а над болотистыми низинами, где ещё пышно росла зелень, взлетали стайки уток. Но в буераках, в зарослях кустарника – тихо. Разве что застрекочет иногда заинтересовавшаяся чем-то бойкая сорока. Появится, раз-другой дзынькнет, будто коснётся туго натянутой струны, суетливая синица и тут же снова спрячется среди веток. Дремлет открытый далёкий горизонт. На холмы, будто для того, чтобы покрасоваться, выскакивают сайгаки и через мгновенье, словно трепетный ветерок, исчезают, даже и не проследишь куда. Из-под копыт коня вымчит, озираясь, уже с белыми подпалинами заяц, отбежит в сторону и опять где-то притаится, заляжет.
Степь. Тишина.
Ехали быстро. Расстояние, которое чумацкие обозы обычно преодолевали две-три недели, конные алешковцы проезжали за полтора-два дня.
Дорога вела на северо-восток. За рекой Волчьей начали поворачивать на восток. А недалеко от речки Торец свернули с Чумацкого шляха на юг.
Пробираться степным бездорожьем было почти невозможно. Путаясь в полёгшей, всклокоченной траве, лошади быстро утомлялись, замедляли ход.
Как только останавливались, алешковцы начинали вести разговор о том, чтобы искать лучшую дорогу. Но Головатый упрямо не сдавался. Вёл за собою. При всяком удобном случае заезжал в поселения, встречающиеся по пути. Он убеждался, что повстанцы-беглецы из Бахмута и из придонецких сёл, хуторов нашли пристанище. Жилось им, конечно, очень тяжело, но всё же на воле – нет панских надсмотрщиков, над головой не свистит нагайка. Но долго ли так будет?..
– Боимся, что начнут рыскать арканники.
– А дальше куда бежать?..
– Куда?..
– Мы уже и так словно на краю света…
– Кто защитит?.. – делились люди своим горем с Головатым.
С каждым днём Гордей всё более убеждался: его намерение добиться, чтобы новая сечь взяла под защиту поселения здешних людей, затея хорошая, необходимая. Но как всё это осуществить?..
О чём думали алешковцы – неизвестно. Можно было только догадываться. Пучеглазый полковник, по фамилии Балыга, и белочубый судья, Сторожук, ко всему внимательно присматривались, так как знали, что край этот войдёт в новый округ Кальмиусской паланки и, значит, именно здесь им придётся скоро хозяйничать. Они старательно вписывали в свои тетради названия рек, поселений, их интересовало, сколько проживает в селениях людей, откуда они сюда прибыли и какое у них имущество.
Черноусый молодой алешковец – писарь Олесько – был хорошо обучен обозначать на бумаге условными знаками хутора, реки, глубокие овраги, скалистые гребни и большие буераки. Он старательно занимался этим делом, а листы складывал в небольшую кожаную сумку.
Наконец приблизились к морю. Голос его услышали ещё издали, когда перешли вброд реку Кальчик и поехали по-над широким заливом полноводного Кальмиуса. Сначала донёсся отдалённый шум, казалось, что это ветер раскачивает жёсткие кисти осоки или проносится над полями спелой пшеницы и чиркает колос о колос. Но через некоторое время шум превратился в грохочущий рёв. А вскоре с пригорка открылось и само море.
Колышется, горбится перед глазами седоватая вода. А дальше, к горизонту, она становится как бы покатой и ровною гранью упирается в небо. Вздымаются пенистые волны, словно забавляясь, подгоняют одна другую, куда-то исчезают и появляются снова и уже в каком-то бешеном разбеге катят к берегу. Разбиваясь о камни, откатываются назад и опять яростно бросаются на камни.
– Вот как разбушевалось Сурозское, – проговорил, зачарованно глядя перед собой, Олесько.
– Зачем же по-старинному, – отозвался Сторожук, – Азовское, а не Сурозское.
– Говорят, этим морем запорожцы добирались сюда, к Кальмиусу, – сказал Олесько так, чтобы слышали все.
– Верно, – кивнул Сторожук.
Головатый мог бы рассказать, что таким кружным путём запорожцы добирались не всегда, а только тогда, когда казакам, которые выбирались из Крыма, турки своими галерами загораживали дорогу к Днепру. Но Гордей промолчал, он внимательно разглядывал давно виденную местность.
Не доезжая до моря, Гордей направил коня ближе к Кальмиусу. За ним ехали все остальные. Через некоторое время оказались на широкой песчаной, поросшей редкими кустами гледа и таволги равнине. Среди кустов вилась едва заметная, давно не хоженная тропинка. Она привела к глубокому, местами замуленному и заросшему травой рву. Над ним торчал высокий, уже покосившийся, с зияющими во многих местах дырами частокол.
– Вот и конец пути, – спокойно, как о чём-то обычном, заявил Головатый. – Сейчас найдём лошадям хорошее пастбище, а тогда уже всё и осмотрим. – Он подал знак спускаться в низину, к большой топи, где раскачивались под ветром заросли осоки.
Если выйти на крутой берег и стать лицом к восходу солнца, то с правой стороны будет море, а с левой, внизу, – Кальмиус. Там же, где степная спокойная река сливается с морем, где плещутся уже морские волны, врезается в море овальный клочок земли – "Угловая гора".
Даже не передохнув, все тут же начали взбираться по бугристым склонам к крепости. В неё можно было войти с любой стороны через завалившийся частокол, но Головатый направился туда, где когда-то были крепкие, дубовые, окованные железом ворота, а теперь торчал только один подгнивший, изъеденный шашелем столб.
Разделившись на группы, начали осматривать земляной вал, каменные стены, частокол. Всё, что было когда-то прочным, крепким, сейчас выглядело унылым, запустевшим.
– Да, здесь нужно хорошо приложить руки, – сказал озабоченный Балыга Сторожуку, когда они остались вдвоём.








