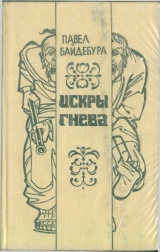
Текст книги "Искры гнева (сборник)"
Автор книги: Павел Байдебура
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Итак, дорога перекрыта. Выйти из своей засады Лискевич уже не мог. Но и здесь в любой момент его могли обнаружить. Оставалось одно: стоять и ждать, что будет дальше.
"Попал, как мышь в мышеловку, – с досадой подумал художник. – Теперь уж наверняка когтей не миновать". Он упрекал себя за неосмотрительность, укорял за этот неразумный поступок: выходить на улицу в такое тревожное, опасное время, да ещё с таким портретом… И снова всплыло знакомое, заученное: "Политика и искусство несовместимы"! Художник должен быть далеко от всего лишнего в жизни. Пусть кто хочет, как ему нравится, бьётся за свои постулаты, политические убеждения, пусть… Это его дело. А художнику нужно быть влюблённым только в высокое и вечное и свободное от всего… Стыдись, Вацлав, ты же ведь сам себя обманываешь. А зачем жить обманом… Будь честным и признан, что всё это нелепость – меж людьми нет равенства. Богач загрёб и поглотил всё, а бедный – его раб. Художник прислуживает богатому, – возражал и убеждал другой Лискевич.
На об этом следует подумать иным разом, а сейчас не до этого. Сейчас ты, Вацлав, впутался в очень неприятную ситуацию. Как выпутаться из неё?.. На душе Лискевича стало тоскливо и холодно.
Над городом занималось тихое и чистое осеннее утро. Голубело высокое небо. Лучи солнца купались в золоте листьев берёз и клёнов. И будто из далёких полевых просторов и редких перелесков долетал дивный звон, словно кто-то неведомый там, далеко-далеко, раз за разом брал на струнах несмелые аккорды. А здесь, над кварталами, висела гнетущая тишина. Всё затихло, насторожилось.
Но вот на площади зашевелились. Примчалось несколько верховых. Поражённый Лискевич вздрогнул и прижался к стене: в окружении верховых стоял Бондаришин. Ошибки не было. Продолговатое, худощавое лицо, в том же, как был вчера, простеньком коротком сюртуке, на ногах, кажется, те же стоптанные ботинки, только на голове вместо кепки – серая шляпа. Руки Бондаришина связаны так, будто он сложил их у себя на груди и не может разнять. От узла на руках тянется длинная, в несколько метров, верёвка, которую держит один из полицейских. Это напоминало картину времён жуткого средневековья – человек в затяжной петле, заарканен людоловами, или – инквизиторы ведут на казнь опасного злодея.
"Поймали, наверное, около моего дома", – мелькнула молниеносно мысль у Лискевича. Но раздумывать над этим долго не было времени. Полицейский дёрнул вдруг за верёвку. Бондаришин упал на колени, но в тот же момент встал, поднял над головою связанные руки и наклонился так, будто подавал кому-то какие-то условные сигналы или прощался. За верёвку дёрнули вторично и, подгоняя толчками, повели Бондаришина с площади.
Издали, словно пробиваясь сквозь стены кварталов, долетел неясный гомон, послышался какой-то глухой шум, и вдруг уже где-то близко взметнулась песня, бодрая, с подъёмом. Можно даже было распознать её мотив – "Варшавянка". Песня всё нарастала и нарастала, казалось, это катили, приближаясь, волны прибоя – бушующие, грозные. В глубине улицы показались первые ряды демонстрантов. Плечо в плечо с рабочими в чёрных, коричневых и синих замасленных и новых блузах шли студенты в форменной одежде, люди неизвестных профессий; шли размеренными медленными шагами, по ступали уверенно, твёрдо. Над передними рядами, колыхаясь в такт движению, будто плыло на волнах красное знамя, И казалось, именно это знамя придавало колонне уверенности и торжественного величия.
– Стой!
– Поворачивай назад!
– Поворачивай!
– Поворачивай!.. – закричали властно полицейские и угрожающе замахали в воздухе длинными, похожими на песты резиновыми палками.
Передние ряды демонстрантов замедлили шаги, по полицейские, не дождавшись, пока люди остановятся, кинулись на них и остервенело заработали своими палками. Послышались крики, яростные угрозы, ругань. Обороняясь, демонстранты вырывали из рук полицейских палки, разбирали ограды около домой, выворачивали камни из мостовой и шли в наступление. Красное знамя, словно широко раскрытое багряное, озарённое солнцем крыло, реяло над колонной, указывало дорогу.
Стычка переросла в бон. Ряды демонстрантов и шеренги полицейских смешались, взрываясь глухим стоном. Сливаясь, толпа бушевала, кипела, и всё на одном и том же месте – при выходе с улицы на площадь. Лискевичу казалось: вот-вот ещё одно решительное усилие – и демонстранты, отбросив полицейских, ринутся на площадь – левое крыло колонны уже удлинилось и продвинулось немного вперёд. Но произошло неожиданное: раскрылись широкие ворота ратуши, и оттуда вымчал отряд всадников. Они с разгона врезались, оттеснили толпу рабочих, окружили и тупыми рёбрами сабель стали валить их на мостовую.
Демонстранты начали отступать.
– Знамя!..
– Берегите знамя!
– Защитите знамя!.. – слышались тревожные голоса.
Рабочий, державший красное знамя, отбросил раздробленное древко, свернул, прижал к груди полотнище и выскользнул из окружения. Но полицейские заметили его и бросились догонять. Знаменосец, ловко маневрируя, перебежал улицу и очутился за забором палисадника. Ещё один шаг, и он спрячется в проходе во двор. Но вдруг раздался выстрел…
Уже из рук мёртвого рабочего полицейские вырвали красное полотнище.
Площадь и прилегающие к ней кварталы тонули в людской суматохе, разноголосом крике и выстрелах.
Когда рабочий упал, скошенный пулей, Вацлав Лискевич, будто кто-то его подтолкнул, тут же выскочил из своего укрытия, промчался мимо шеренг полицейских и очутился в гуще демонстрантов. В одно мгновение выхватил из-под полы знамя и широко взмахнул им над головой.
– Ленин! – во всю мочь выкрикнул Лискевич.
– Ленин!.. – подхватили рабочие.
– Ленин!..
Демонстранты плотнее сомкнули ряды. Сильные руки подняли Вацлава. Он развернул красное полотнище. Тысячи людей увидели портрет вождя.
– Ленин!
– Ленин!.. – гремело, перекатывалось, сотрясало кварталы.
Стремительным натиском демонстранты смяли полицейских и бурлящей полноводной живой рекой двинулись вперёд.
1939
Тепло его руки
После похорон товарища Олексюка они собрались все вместе. Перед ними стоял всё тот же нерешённый вопрос: как быть? что делать?..
Первым заговорил Омельян Гарматюк.
– Ко всем невзгодам, которые мы попытали до этого времени, – начал он глухо, не спеша, – постигло нас чёрное горе – утрата. Нет уже среди нас верного товарища Тихона. Изгнали его с белого света наши враги…
Присутствующие поднялись, склонили головы и застыли, словно окаменели. Часа полтора тому назад они стояли вот так же около свежей могилы. Постепенно насыпали могильный холм, старательно оправили его. Тарахтели, ссыпаясь с лопат, комья промёрзшей земли, пучками падали земные ветки ёлок, белыми искрами сеялся и сеялся сухой, колючий снег – срывалась, крутила позёмка; а от боли в сердце туманились глаза, лицо жгли горячие слёзы. Не хотелось верить, что в глубь земли навеки преждевременно лёг боевой товарищ и побратим. Ещё вчера, на рассвете, провожали его в дорогу, напоминали ему и наказывали, чтоб там, в уезде, куда он шёл, сказал товарищам руководителям:
"Власть в нашей Рубайке установилась советская. Но, как видно, она ещё не укоренилась, не набрала необходимой силы. На селе верховодят кулаки, а беднота будто на задворках…"
"Ждём перемен к лучшему, а когда они будут?.."
"Тяжело живётся, очень тяжело…"
"Как быть дальше?.."
"Да, как быть?.. Волость на этот вопрос не отвечает. Так что пусть там, в уезде, скажут, посоветуют…"
И он пошёл.
В тот же день стало известно: лежит Тихон Олексюк за селом, около дороги, мёртвый – весь изрубленный. В изуродованную руку его вложен клочок бумаги, на котором кровью написано: "Искатель большевистской правды". Кто именно убил, кто написал те слова – неизвестно. Ясным было одно – зловражья кулацкая рука…
– Придёт расплата и им, придёт! – продолжал говорить Гарматюк. – Нас не испугаешь, найдём правду и управу… И задуманное нужно осуществить.
– Что, снова пускаться в ту дорогу? – спросили товарищи.
– Нужно.
– Решили же…
– И надо торопиться, – ответили другие.
Но их заглушило будто рассудительно предостерегающее, а в действительности мелкое, трусливое:
– Чего лезть на рожон?
– Подождём немного.
– Может, и лучше – подождать подходящий момент…
– Конечно…
– А тот, кто стрелял, рубил Тихона, тот тоже думал подождать? – спросил гневным голосом Гарматюк. – Нет, враг ежеминутно подстерегает, где б нам навредить, перейти дорогу, да ещё и нагло издевается – пишет нашей кровью…
– Пишет, проклятый!
– Но мы со своей дороги не сойдём, – заверил и будто кого-то призывал Омельян. – И если уж идти за советом, то пойдём до самого Ленина!..
– Это верно, Ленин дал бы совет.
– Совет и наставление, – согласились товарищи. – А как с мим повидаться?
– Москва вон где…
– И кто в такое время туда подастся?
Пойти согласился Гарматюк. Не долго мешкая, он собрался и отправился в путь.
Село забушевало. Богачи всполошились, злонамеренно пророчили, что ничего из этой затеи Гарматюка не выйдет, что он даже не доберётся до Москвы, а если и удастся ему там побывать, то кого заинтересует какое-то мелкое рубайское дело. А у бедноты поднялся дух. Из хаты в хату передавалось волнующее:
– Наш посланец пошёл к Ленину.
– Наш Омельян будет советоваться в Москве.
– Пошёл к Ленину…
У тех, кто передавал эту весть и кто искренне воспринимал её, теплело на сердце, расцветала радостная улыбка – повеяло надеждой на лучшее, взлелеянное мечтой…
Радовало, что именно в это время, как хорошая примета, произошли изменения и в природе – ослабели морозы, наступила оттепель, зима начала сдавать. Иногда с вечера сеял снежок, покрывались льдом лужи, но днём солнце купалось в синевато-голубой выси, поднималось всё выше и выше. Снег оседал, звенели длинные извилистые ручейки. На полях появлялись чёрные маслянистые проталины – весна победно шла своей дорогой.
За полторы-две недели Гарматюк обещал вернуться. По проходили дни. Уже скоро и месяц на исходе, а посланца всё нет и нет.
Тая тревогу, люди выходили на дорогу, которая тянулась в село с северной стороны, подолгу стояли; встречаясь друг с другом, спрашивали, нет ли какой-нибудь весточки о Гарматюке; когда собирались где-нибудь вместе, то в первую очередь заходил разговор опять всё о том же: скоро ли явится их посланец?
И слышалось утешительное:
– Дорога ж туда далёкая-длительная.
– Два года мучился в Карпатах в окопах, а выжил – воротился.
– А потом был в отряде Щорса.
– Гарматюк – человек с характером.
– Да, это правда. Для своего бедняцкого класса готов сделать всё, что только можно.
И люди будто видели перед собою Омельяна: молодой, бравый, в шинели, с открытым загорелым лицом, с серыми проницательными глазами. Всем запомнилось, как его провожали.
Вышли за село. Омельян пожал товарищам руки, сорвал с головы шапку-ушанку, взмахнул ею и, поклонившись, улыбнулся. Друзья в последний раз пожелали ему счастливой дороги. И чтобы эту искреннюю, тёплую улыбку вместе с их приветом донёс до Ленина.
А донесёт ли?..
Честные люди верили. А в то же время кто-то коварный, хищный распространял смутное, ядовитое:
"Погиб Гарматюк…"
"Видели, лежит на опушке леса порубленный…"
"Не ждите, не вернётся…"
Друзья опечалились. Изнывали сердцем. А были и такие, даже из их круга, казалось близкие, которые говорили:
– Мы же советовали: не лезь на рожон…
– Говорили – не вырывайся, остерегись…
– Что у тебя, семь шкур и не одна душа?..
– Не послушал…
А вражье ползло и ползло:
"Туда ему, проклятому, и дорога. И род его нужно уничтожить".
И угрозу эту начали осуществлять. Однажды ночью в село ворвалась банда головорезов, поднялась стрельба, крики. Запылала хата Гарматюка. Жену его с маленьким ребёнком друзья едва спасли…
Плыла весенняя ночь. Чёрной мглою ещё полнился простор. Только на востоке едва-едва начало сереть – зарождался рассвет. Тихо. Сонно. Но село уже проснулось, зашумело. Из уст в уста передавалось радостное?
– Прибыл!
– Омельян явился!
Люди выходили на улицу, встречали Гарматюка, здоровались, спешили спросить:
– Был там?
– Видел Ленина?
– Советовался?
– Так как же?..
– Видел. Обо всём расскажу, – отвечал охотно Гарматюк и продолжал идти дальше. Каждый шаг приближал к дому. Вон там, в переулке, под высокими грушами, – его хата. А рубайчане подходили и подходили. Запрудили уже дорогу. И все свои родные, одной судьбы – бедняки..
Люди стояли столпившись и с восхищением смотрели на своего посланца. Радовались, что видят его живого, здорового. Казалось, что он даже мало изменился, разве что немного похудел. Ясное дело, дорога нелёгкая, а одежда на нём та же – шинель, только местами порыжела, полы истрепались, а сумка за плечами болтается, как видно, совсем пустая.
Чтобы видеть всех, кто собрался, Омельян взошёл на пригорок. И вдруг бросил взгляд на свою усадьбу. Пепелище! От хаты осталась только почерневшая боковая стена и оголённая, нацеленная в небо труба.
На улице стало совсем тихо. Люди словно окаменели.
– Жена и сын живые?
– Живые, – ответили из толпы.
И снова молчание.
– О том, что произошло здесь, в селе, и что испытал я в дороге, разговор будет, наверное, другим разом, – начал спокойно Омельян. – А сейчас, друзья, спешу вам сообщить главное: я видел Ленина, – затем подчеркнул твёрдо, – и разговаривал с ним…
Лился неторопливый, но напряжённо взволнованный рассказ Омельяна. Люди жадно ловили каждое его слово. Им было радостно. Они с гордостью слушали, как Ильич гостеприимно встретил и принимал их посланца, как вёл с ним задушевный разговор. Попятными и близкими сердцу были слова вождя: "Беднота должна брать на селе власть в свои руки и во всём быть опорой советской власти. Это основное".
– А какой он, Ленин? – спросил каменщик Денис Махотка.
Гарматюк задумался.
– Он необычный, – но, сообразив, что это неточное определение, Омельян добавил, выговаривая медленно: – Искренний и приветливый. Очень, очень душевный. – И, не найдя более весомого определения, сказал решительно, проникновенно: – Он – Ленин!
При этих словах Гарматюк откинул борт шинели, достал небольшой аккуратно свёрнутый лист бумаги, развернул и подал товарищам, которые стояли поблизости. Листок с изображением Владимира Ильича передавался из рук в руки, обошёл всех присутствующих, а затем снова вернулся к Гарматюку.
– …И посоветовал Ильич, – заканчивая свой рассказ, произнёс Омельян, – ехать в Харьков, где сейчас находится правительство нашей республики. Я побывал и там, получил только что вышедший закон об организации комитетов бедных крестьян и личное уполномочие на создание такого комитета в нашем селе. Вот оно. – Он показал мандат с оттиском большой круглой печати и подписью Григория Ивановича Петровского.
– Это очень важно…
– Да, нужно браться…
– А чего тянуть?.. – послышалось требовательное.
– Да, это верно, – согласился Гарматюк. – Теперь нам понятно, что нужно делать. Беднота на селе, как сказал Ленин, – неодолимая сила. Земля и её богатства навеки наши…
Когда обо всём важном было обговорено, Гарматюк сказал доверительно, с теплотой в голосе:
– Вот, друзья мои, прошло уже столько времени, а я всё ещё нахожусь под впечатлением этой встречи. Будто и сейчас слышу голос Ильича и даже чувствую тепло его руки…
– Так что ж ты, Омельян, не поделишься с нами этим теплом?
– Почему?..
– Да, почему не передашь нам? – наседал, упрекая по-дружески, Денис Махотка. – Вон ты какой…
К Омельяну потянулись десятки рук.
А улица полнилась и полнилась народом.
Гобелен
Что бы ни увидела Марьяна, всё это она могла перенести шелками, заполочью на полотно. Из-под её рук выходили на удивление красивые, искусные узоры, расшитые серебром и золотом ковры-гобелены. На гобеленах этих красовались, как живые, деревья, цветы, дивные изображения людей и птиц.
Вытканные Марьяной дорогие ковры украшали покои во дворце господ Браницких, восхищали, ласкали взор. И всегда, особенно в часы пышных приёмов, выставлялись на удивление и зависть соседей-гостей. Росла и ширилась слава о замечательном мастерстве Марьяны, и приезжали смотреть на труд её рук господа из далёких городов и окрестных поместий.
Как-то увидел её вышивание граф Кочубей, отсчитал конский табун в сто голов и пригнал его ко двору пана Браницкого. Но тот не согласился на обмен. Марьяна стоила дороже. Дал Кочубеи в придачу ещё двадцать породистых гончих псов, и опять не сторговались. Упёрся Браницкий, не хотел отдавать Марьяну. Однако не успокоился Кочубей и всё же добился своего. Однажды, играя в карты, проиграл Браницкий Кочубею вышивальщицу. И тогда же договорились они между собой, что перед тем, как уйти Марьяне со двора, она выткет давно задуманный паном Браницким большой портрет его дочери Брониславы.
Услышав об этом договоре между панами, Марьяна осмелилась зайти в покои и попросила самого пана Браницкого оказать ей милость: разрешить взять к Кочубею свою единственную дочь – маленькую Ярынку.
Браницкий слушал и удивлялся просьбе вышивальщицы.
– Когда продаётся борзая, – сказал пан строго и поучительно, – то не годится отдавать в придачу и щенков.
Презрительно и спокойно смотрел он, как около его ног на коврах убивалась в горе Марьяна. А потом велел гайдукам выбросить вон заплаканную женщину.
Однажды ночью Марьяна тайком собралась и с дочерью на руках убежала из фольварка. Думала пойти далеко, за реку Днестр. Там, говорили тайно дворовые, благословенный край: жизнь привольная, без панов и плетей… Но не судилась Марьяне воля. Сам пан Браницкий снарядил выезд на лов. Подобрал верных, ловких, преданных гайдуков. Ловцы выехали на лошадях. А вслед беглянке пустили гончих псов. В степи, в густых бурьянах, разыскали гайдуки Марьяну, скрутили ей верёвками руки и привезли назад на панский двор.
Двое суток стояла Марьяна на людном месте, привязанная к позорному столбу. Столб находился на перекрёстке дорог, которые тянулись с далёких сёл и хуторов. И каждый, кто проезжал или проходил мимо, имел право подойти к женщине и безнаказанно глумиться над нею. Но проклятый этот столб обходили и старые и малые. Только ветер, солнце и холод томили тело Марьяны, а единственным утешением для несчастной женщины было то, что на дорогу из села выносили маленькую Ярынку и показывали ей. Показывали издали, чтоб не увидел кто из панских приспешников. Марьяна видела поднятую вверх дочурку, ей казалось, что она даже слышит знакомые любимые слова, сама же не могла, не имела сил отвечать, стояла неподвижная, отяжелевшая, залитая слезами…
После этого Марьяну истязали плетьми. По приказу пана неизуродованными остались только руки. Они были ещё нужны.
Марьяну заперли в старую башню, возвышавшуюся над панским дворцом. Сюда же поставили простой деревянный верстак, принесли свёртки полотна, нитки и образцы узоров для вышивания.
– Четыре недели срока, – сказали Марьяне. – И вышить красиво!
Два дня лежала изуродованная женщина в тяжёлом раздумье и даже не дотрагивалась до полотен, дорогих шёлков, грезетов, отводила глаза от верстака, где стоял нарисованный портрет пани Брониславы, оправленный резьбой из серебра и белой кости. Панна сидела в кресле холёная, нежная. Пышные русые косы волнисто спадали на плечи, окутывали тонкое прозрачное лицо. Сквозь опущенные ресницы лукаво смотрели озорные глаза. Чёрный цвет одежды оттенял перламутровую нежность лица. На руках у панны резвилась пушистая белая собачка.
Каждый день по нескольку раз наведывались к вышивальщице надсмотрщики и понуждали к работе. Но Марьяна упрямилась. Просилась на волю, не ела, умоляла принести к ней ребёнка. Днём и ночью, словно призрак, стояла она у окна, всматривалась в далёкий простор. Там, за частоколом, за панским садом, желтело жито, золотилась под солнцем пшеница. Зелёные волны хлебов катились, набегали и никли, будто разбивались о жестокие, холодные стены. Ветры доносили отзвуки полевых шумов, запахи трав и стихали, не рассказав Марьяне, что делается за стенами башни…
Внизу будто застыла гладь реки, разрастался белый цвет ромен-зелья. Марьяне хотелось выйти, окунуть ноги во влажную траву и шагать по ней далеко-далеко… Но двери – на замках, а от окна до земли – восемь сажен. И никто в эти дни не подходил к башне. Такой приказ. Никто не подавал голоса. Тихо вокруг. Только пушистые облака плывут в вышине да птицы пролетают мимо одинокой, опечаленной женщины в окне…
На третий день Марьяна попросила хлеба и воды. Слух о том, что вышивальщица покорилась, разнёсся среди челяди, перекинулся в село. Никто этому не удивился, все понимали, что протест невольницы был бессилен, что ей осталось одно – покориться и проклинать свою тяжёлую судьбу…
Прежде всего Марьяна отрезала большой кусок полотна от лучшего дорогого материала. Отобрала самые красивые шёлковые нити и стала мережить, вышивать причудливые узоры по краям полотна. Украсив края, Марьяна начала ткать очертания дворца Браницких с башнями, пристройками и парком. Удивительно красивым было это изображение. Сама панна Бронислава приходила смотреть на работу и осталась очень довольна. Марьяна работала в одиночестве, ткала даже ночами, при чадящих каганцах. Вставала на заре, когда только начинало светать, и не бросала работу дотемна. И, на удивление челяди, из запертой комнаты иногда слышалась грустная протяжная песня.
Шло время. В имении с нетерпением ждали портрет панны Брониславы. Он должен быть выткан ко дню её обручения. Среди челяди даже пошёл разговор, что тот портрет повезут куда-то в город, на господское сборище. Но разговоров этих Марьяна не слышала – в башне никто не появлялся.
На пятнадцатый день работа Марьяны подходила к концу. Сердце её разрывалось от боли, что всё это впустую, неизвестно кому попадёт в руки. Но Марьяна не поддавалась настроению, спешила, увлечённая работой. Легко, нежно ложатся краски, вырисовываются тонкие узоры. Марьяна спешит и холодеет от мысли, что скоро минует срок и к ней явятся паны…
Тихо уплывает июльская ночь. От села уже дважды доносилась перекличка петухов. На востоке заметно сереет, прячутся звёзды. Марьяна разматывает последний моток шёлка, но натруженные руки словно онемели, из пальцев выпадает иголка. Утомлённая Марьяна подходит к окну, отодвигает миску с водой, в которую смотрится по утрам при восходе солнца. Вглядывается в предрассветную мглу. Тихо и темно. За окном под стенами башни жуткая бездна. Марьяна отшатнулась, прошлась по комнате и села за работу. Вдруг у неё закралась мысль изменить задуманное. Но нет. И Марьяна подбирает чёрные, розовые и дымчатые шелка, спешит закончить работу.
На востоке занимается красное зарево, оно полнит небо. В окно вползает влажное утро. Марьяна, будто опьяневшая, через силу поднимается со скамьи, подтягивает вверх гобелен и уже на ощупь, сонная вешает его на деревянную планку. Усталым взглядом обводит вытканное. Кое-где ещё нужно заткать край затянутого тучами неба, но нет уже сил. Марьяна медленно сползает на пол и засыпает здесь же, на обрезках полотна и размотанных нитках.
Дверь внезапно распахнулась. В сопровождении свиты и гайдуков вошла панна Бронислава. Она переступила порог и остановилась поражённая. Изображение на полотне показалось ей в первый момент непонятным, ужасающим видением.
– Что то есть? – удивлённо вскрикнул кто-то из свиты. Но никто из присутствующих ничего ему не ответил.
Бронислава стояла словно окаменевшая и широко раскрытыми глазами смотрела на полотно.
На мелко отороченном серебристыми гроздьями гобелене в орнаменте дивных узоров высился дворец, доподлинный дворец Браницких. А из его окон клубился чёрный дым, вырывающиеся огненные вспышки багрянили небо… Казалось, что огонь вот-вот Поглотит дворец, пристройки, деревья – всё испепелит. На пожарище никого. Только по дороге от дворца в полевой простор идёт высокая стройная женщина. С её наклонённого плеча свисает перекинутая наискось свитка и едва прикрывает вышитую серебром красную плахту. В стройной гордой осанке женщины твёрдая непреклонность и сила. На бронзовом округлом лице гордая усмешка. Из-под дугообразных чёрных бровей проникновенно, строго смотрят серо-голубые глаза. На руках у женщины маленький ребёнок. Он прильнул к ней, обнял ручонками шею. Идут… По сторонам дороги стелется густой спорыш, бушует пышный ковыль и цветы полевой ромашки. Идут в ясную даль…
Лёгкий ветерок колыхнул полотнище, и женщина на гобелене будто ожила и в самом деле пошла вперёд.
– Езус-Мария, – зашептал кто-то, – она идёт…
Свита отшатнулась назад, в коридор. Испуганная Бронислава тоже было попятилась, но тут же моментально выпрямилась, подбежала к гобелену, и ударила в грудь ногой спящую Марьяну. Та поднялась, высокая, стройная, в убогой рваной одежде. Окинула глазами столпившуюся панскую свиту и стала рядом с полотнищем, непреклонно гордая, суровая.
Бронислава рванула гобелен, схватила иголку и, с натугой выворачивая холёную руку, стала вонзать иглу в глаза женщины и ребёнка.
– Не тронь! – гневно крикнула Марьяна и оттолкнула панну прочь.
Бронислава ойкнула, попятилась. На крик в комнату вбежали гайдуки. Трясясь от ярости и злости, панна не могла говорить. Вместо слов из её горла вырывались лишь прерывистые хрипы и стоны. Лицо синело, кривилось в нечеловеческой злобе. Протянутая рука панны показывала на Марьяну, которая пятилась к окну.
– Хватайте её! – выдавила, захлёбываясь от злобы, панна и бессильно опустилась на скамью.
Марьяна остановилась у окна. На миг она окинула взглядом широкий простор полей, где начинались уже первые зажинки пшеницы. На солнце сверкали лезвия кос, долетали голоса жнецов. Холодеющая в смертельной тоске Марьяна почувствовала щемление горячего сер та, оно рвалось туда, в поле…
Гайдуки подходили. Марьяна уже стояла в проёме окна, запуганная и беззащитная, прижимала к груди гобелен. Руки гайдуков протянулись – вот-вот схватят. Марьяна отступила, качнулась – и за окном прозвучал её короткий жуткий крик…








