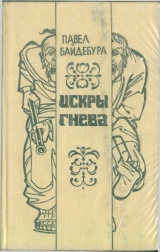
Текст книги "Искры гнева (сборник)"
Автор книги: Павел Байдебура
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
Лаврин разбил молотом большую глыбину и насыпал на сухие сосновые щепки маслянистое крошево.
В кузню набилось полно людей. Любопытные толпились и во дворе, и даже на улице.
Лаврин поджёг щепки. Люди затаили дыхание. Пламя увеличивалось и увеличивалось, но потом начало затухать и вскоре совсем зачахло. Кузнец подкинул дров. И снова – то же самое. Несколько угольков начали было тлеть, однако тлели, тлели – и всё равно потухли.
Савка вспомнил, как было в степи в то утро, когда полыхал костёр около лагеря, а чумаки хотели его потушить. Метнулся в угол кузницы к бочке, набрал в кружку воды и покропил ею чёрное крошево.
– Вот так придумал…
– Чтоб не воняло.
– Ага, а то вишь какой запах…
– А может быть, дёгтем подживить…
– А ещё лучше было бы салом, – переговаривались шутники.
От кучки угля тем временем потянулись слабые сизые дымки, а когда мощным дыханием засопел кузнечный мех, из горла вырвались, взлетели густыми роями золотые искры, и в тот же миг уголь вспыхнул пламенем. Каменчане, которые уже начали было расходиться, снова набились в кузницу.
– Горит!..
– Горит! – передавали тем, кто на дворе.
– Вот это земляная сажа. Прямо диво…
– Это таки уголь…
– Да, диво дивное, будто земля, а горит.
– Берите-ка, хлопцы-молодцы, железо на серпы, – приказал Лаврин, – да попробуем, насколько жарок этот горючий камень.
Два молодых кузнеца погрузили в пылающий горн несколько заржавленных железных обрубков и ещё сильнее заработали мехом.
Вскоре выхваченный из огня обрубок они положили на наковальню и начали расплющивать его, удлинять, выгибать. Лаврин тоже стал выравнивать и заострять какую-то полосу, похожую на длиннющую подосину.
Перестук молотков неожиданно взволновал Савку.
Он мысленно перенёсся в далёкий степной хутор Зелёный в кузницу Данилы. Как наяву перед ним в отблеске пламени возникла Оксана, и ему даже будто послышалось её – тогда язвительно-острое, а сейчас такое милое: «Разве ж так бьют!..»
– А мне можно? – спросил Савка, беря в руки молот.
– А чего ж, – согласился немного удивлённый Лаврин. – Только надень сначала на себя фартук, а то мать потом не отстирает твою сорочку, надень и пробуй, – и он указал место около наковальни, против себя.
Зазвенели звучные удары.
– Не спеши, – сказал Савке Лаврин, – рукоять держи покрепче, а молот опускай свободно, размеренно и плавно. Вот так, вот так, – и он ударил своим молотом раз, второй, третий…
Лязг, высокий звон в кузнице с каждым мгновением нарастал. Работа у Савки шла весело.
Молодые кузнецы остановились первыми и начали подбрасывать в горн уголь.
– Вишь какой моторный, задал всем жару, – вытирая пот со лба, проговорил Лаврин. – Хорошо. Ей-богу, хорошо! – И он по-отцовски обнял смутившегося Савку. – Только знай, сынок: в кузнечном деле, как и во всяком другом, если хочешь быть мастером, а не портачом, нужно упражняться и упражняться, накоплять и приобретать умение. А ещё запомни – железо поддаётся настойчивым и сноровистым. Не зря же говорится: «Куй, пока горячо». Железо – вещь очень важная, из него – и лемех и копьё. Пистоль и плужный нож. Замок и ключ. Коса и я гага н. Вот как… Но для умелых рук нужно ещё и горячее сердце… Хорошо было бы, если б из железа выходили только косы, серпы, наральники…
– И гвозди, топоры, – подсказали молодые кузнецы.
– Да, всё, что для людского добра… А где ты взял этот горючий камень? – спросил вдруг Лаврин Савку.
– Там, – показал юноша на восток, – в степи, в краю каменных баб.
– Где именно? – сделал ударение Лаврин на последнем слове.
– Говорю ж вам, в краю каменных баб, – сказал во второй раз Савка. – Недалеко от берегов Северского, вблизи хутора Зелёного и Савур-могилы.
– Около той, о которой поёт наш кобзарь Стратин? – спросил один из подмастерьев.
– Да, около той, – подтвердил Савка, – по дороге из Азава. Как в той думе, вы ж слыхали, наверное?
Ой, в святое воскресенье
Рано да ранёхонько,
Когда туманы сизые вставали,
Когда ветры буйные повевали,
Когда тучи чёрные наступали,
Когда дожди дробные накрапали,
Тогда три брата из Азова,
Из тюрьмы турецкой, басурманской,
Ой, да из неволи утекали.
– Заслушались, заговорились, а железо-то перегревается, – спохватился Лаврин… – А ну-ка, хлопята-соколята, за молотки!..
Кузница снова наполнилась натужно-задыхающимся сопением кузнечного меха, пронзительно-высоким перезвоном молотков.
…Домой Савка шёл не спеша. Ноги отяжелели и гудели. Такое состояние обычно бывает, когда без отдыха вымолотишь хорошую копну пшеницы или когда без привычки в первый день косовицы нарвёшь косою руки и натрудишь спину. Но это утомление не угнетало Сапку, не клонило его к земле. Он ступал бодро, голову нёс высоко, даже гордо. Да и весь его вид будто говорил: «Смотрите! Я ковал в кузнице!..»
Савко было радостно и приятно: наконец-то осуществилась мечта его детства. Ему вдруг вспомнилось: зима, на дворе белым-бело. Морозно. Метель. Окна в хате покрыты льдом, замурованы. Снег заползает в оконные щели внутрь избы. Нестерпимо нудно сидеть день за днём на печи. Эх, выбежать бы за порог, на воздух или хотя бы в сени! Да куда там – холодно.
Но вот наконец потеплело. Окна оттаяли, в них уже не вмещалось золотое половодье. А солнце так и манит на простор.
И он выбежал из хаты как был – босой, без шапки, в одной сорочке. На дворе тепло. Завалинка уже высохла, парует, шастай по ней туда и обратно сколько хочешь. Около порога тоже сухо, да и на грядках, как видно, подсохло. А вон там далеко, под грушею, где виднеется пожелтевшая прошлогодняя трава, уже щетинится зелень. Как интересно смотреть на неё! А ещё лучше коснуться рукой…
В один момент он перебежал на то манящее под грушей место, и вскоре в руках у него был целый пучок зеленоватых, продолговатых и таких милых травинок. А вон, немного дальше, у вишняка, ещё зеленее. Ой, как там хорошо!., И желтобокие неугомонные синицы из того вишняка зовут: «Сюда, сюда, сюда…» А вон далеко за рвом, по ту сторону улицы, повторяется такое же: «Дзинь-дзинь – сюда, сюда…» – но только громче и беспрестанно: «Дзинь-дзинь…»
Что ж это такое?..
И он махнул туда.
В небольшом, без потолка, с глиняным верхом хлевушке около толстенного, как бочка, пенька стоял незнакомый дядька. Он был в засаленном до черноты тулупчике, подпоясан фартуком. Дядька топтался около пенька и беспрестанно бил и бил молотком. От раскалённого, красного железа во все стороны с шипением, как осы, брызгали искры. Они летели аж во двор, и вместе с ними вылетало это самое «Дзинь-дзинь – сюда, сюда». От ударов молотка железо гнулось, сворачивалось в кольцо, и вскоре из бесформенного, неуклюжего куска получилась новенькая подкова.
– Васелино? – донеслось откуда-то. – А твоё дитё голое-голисенькое, вон топчется около кузницы.
Потом послышалось материнское встревоженное:
– Савко!..
Он стрекотнул улицей, перепрыгнул через ограду и очутился на огороде. Вдруг поскользнулся и упал в какую-то колдобину. Но она была неглубокая. Савка выбрался из неё и что было духу помчался огородами.
Уже в сенях мать ошпарила его ладонью ниже спины, и он в тот же миг очутился на тёплой печи. Руки и ноги кололо, грязь расползлась по всему телу и холодила.
Его выкупали в корыте, напоили чем-то очень горьким и закутали в тёплый тулуп. Но это не помогло. Грудь распирал кашель, становилось то холодно, то жарко. Около него всё время была мать. А потом она начала почему-то отдаляться, исчезать в густом до черноты тумане, а на её месте появился в тулупе, подпоясанный фартуком кузнец: он то вырастал, то становился совсем маленьким, но беспрестанно бил молотком в темя, в грудь, да так, что в голове даже гудело, а искры наполняли хату, роились, жужжали и нестерпимо пекли тело.
Болел он долго, но всё же выздоровел.
Позже, уже будучи взрослым, Савка не раз бывал в кузне, брал в руки молот, но по-настоящему помахать им ему ещё не приходилось. Однако ту мечту – месить железо – не погасили ни годы, ни работа с серпом или косою, ни даже чумакование. Когда же Савка попал в кузницу Данилы, то желание стать кузнецом разгорелось ещё больше. И вот сегодня наконец-то он по-настоящему поработал у наковальни. Савка, конечно, понимал, что ему далеко ещё до мастерства, но приятно и то, что хоть в охоту намахался молотком, А когда же он сам, без помощи Лаврина, согнул в кольцо раскалённое железо, то почувствовал, как радостно ойкнуло сердце в груди, и он, Савка, вдруг стал каким-то другим – будто сразу повзрослел, у него прибавилось сил, и он поверил в себя, поверил, что и он на что-то способный…
В ушах. Савки до сих пор звучали слова Лаврина о железе: «Из него и наральник, и копьё…»
– Савко! – послышался голос матери. Обеспокоенная долгим отсутствием сына, она вышла на улицу в надежде встретить его. – Савко! Где ж ты был так долго? Ждала тебя к обеду – не пришёл. И в полудник – тоже. Уже ведь вечер. Ой, какой же ты? – всплеснула она вдруг ладонями. – Будто побывал в печной трубе или в кузнице.
– В кузнице, мама, в кузнице! – воскликнул радостно, с гордостью Савка, целуя мать в седеющие виски. – Я – кузнец.
Просторная, в три окна, комната со времён старого Петра Кислия, который построил её, называлась «голодной» или «кладовой»: туда складывали разные домашние вещи и товар, иногда зерно. Отпрыск Петра – Саливон – превратил эту комнату в гостиную. Её побелили в светло-голубые тона, на стенах развесили ковры, а на них – пистолеты, сабли, портреты каких-то военных и неизвестных панов; у стен вместо лавок поставили табуреты. Большой стол, который находился раньше в святом углу, сейчас красовался посредине комнаты, заваленный всякими побрякушками, трубками и разных размеров поставцами[7]7
Сосуд для питья.
[Закрыть]. Всё это, по мнению молодого Кислия, было на манер панских гостиных и отличалось от обыкновенных казацких и сельских комнат, показывая зажиточность и достоинство хозяина.
Сегодня утром по приглашению Саливона его посетили бывшие казаки – дуки[8]8
Богачи (разг.).
[Закрыть] Чуб и Саломата. Угощая гостей крепкой брагой, хозяин признался, что с тех пор, как в кузнице Лаврина загорелся тот удивительный чёрный горючий камень, он не знает покоя и думает-гадает, как бы этот камень завезти сюда, в Каменку, и вообще в эти края.
– В кузне – видали. А горит ли он в пени? – спросил предусмотрительный Саломата.
– Пробовали уже. Горит, – заверил Кислий. – В моей винокурне пробовали.
– А будет ли он дешевле дров? – вёл своё тот же Саломата.
– Если вывозить большими мажарами, то будет даже дешевле древесного угля, – сообщил Саливон. – А добираться туда не так уж и далеко… И лежит ничей. Бери сколько хочешь.
– Надо же, ничей! Бери и вези? – удивлялся Чуб. – Это, наверное, потому, что мало кто знает о нём.
– Довольно того, что знаем мы. И упустить его не должны! – решительно заявил Кислий. – Поэтому я и позвал вас.
– Да, если такое дело, то зевка, разумеется, давать нельзя, – согласился Саломата. – А всё-таки давайте подумаем, какая нам будет от этого польза.
Кислий снова стал убеждать, что такое чумакование очень выгодно, вот только набрать надо в дорогу побольше мажар.
Начали подсчитывать: набралось тридцать возов.
– Маловато, – вздохнул Саливон. – Нам ещё бы десятка два-три наскрести и чтоб мажары были большие.
Всё можно было бы решить, конечно, очень просто – привлечь к участию в новом обозе чумаков-камеичан, как это делалось раньше. Но Кислий не хотел общаться с беднотой.
Посоветовавшись ещё, решили: день-другой подумать, а потом сойтись и снова потолковать.
Не успели дуки выйти со двора, как приехали паны: сосед-помещик, молодой Казьо Пшепульский, со своим родственником, который при незнакомых называл себя, подчёркивая свою знатность, Йозеф-Януш Кульчицкий. Молодые люди подъехали к дому, слезли с лошадей, кинули поводья женщине, которая проходила поблизости, и начали подниматься на крыльцо. Саливон поспешил к гостям, едва успев выхватить из сундука и надеть праздничный жупан.
Чтобы всё было так, как Кислий видел у знатных панов, он ударил несколько раз в ладони, а потом крикнул:
– Гей, сюда!..
На вызов вошёл мальчик лет двенадцати-тринадцати, в белой с расшитыми оплечниками рубашке, в широких чёрных шароварах, подпоясанный зелёным поясам.
– Вина и мёду! – приказал Саливон.
– А где ж оно? – невозмутимо, с безразличием спросил мальчик.
– Пусть Одарка позаботится. Быстро! – крикнул Кислий.
Мальчонка, зевая, переступал с ноги на ногу и не уходил.
– Быстрее! – уже багровея, приказал Саливон.
– Так тётки Одарки нет в хате, они в куря шике. Курен щупают… – начал было мальчик, но Кислий не дал ему договорить.
– Прочь отсюда! – загремел он. – Господа, очень извиняюсь, – обратился Саливон мягко к гостям, – придётся выйти, дать приказание.
Уже в сенях, на ходу Кислий отпустил мальчику оплеуху, метнулся к погребу, налил в кувшины несколько жбанов вина и мёду и всё это отнёс на кухню и поставил на поднос. Когда вернулся в гостиную, снова захлопал в ладоши.
– Вина и мёду! – проговорил Саливои твёрдо и небрежно, пытаясь быть спокойным и в то же время изображая из себя важного господина.
Мальчик нёс поднос неумело. Налитое в кувшины доверху вино переливалось через край, стекало на руки, на рубашку. Увидев это, Саливон от злости изменился даже в лице, он готов был уже ястребом кинуться на мальчишку, но в этот момент вдруг услышал:
– Пан Кислинский!..
Саливон застыл, прислушиваясь, лицо его расплылось в радостной улыбке, – это ж подтверждение того, к чему он стремится, что даже снится ему во сне; да, подтверждение того, что он не какой-то казак или гречкосей, а пан… пан Кислинский… Вот если бы ещё подтвердить это официальной бумагой, а там прибавилось бы и заветное, давно желанное – шляхтич, а может, и дворянин…
– У меня к вам, пан, небольшая просьба, прошу пятьсот злотых… Такой случай: у его светлости был банкет, чудесный банкет! – повысил голос Казьо и начал потирать довольно руки. – Но мне пошла не та карта… – Выгибаясь, кривляя тонкое, красивое, но очень бледное лицо, Казьо заходил по гостиной. – Пошла не та карта, а рубли и злотые ложились, сыпались и сыпались на стол…
– Казьо, милый, оставь! – проговорил Йозеф. – Оставь… – Йозеф уже успел осушить бокал вина, да и приехал подвыпивши. Постояв около окна, он повернулся, подошёл к столу, выпил ещё бокал, сдвинул в кучу трубки, пепельницы, перевёрнутые бокалы и уселся на свободном месте, задумчивый, с вытаращенными посоловевшими глазами.
Сообразив, чего хочет Казьо, Кислий уже не прислушивался особенно к тому, что он говорит. Просьба обеспокоила Саливона, и ему было над чем подумать. Кислий дорожил знакомством с Пшепульским. Несколько раз он уже бывал у него, вернее в имении его отца. В прошлом году купил у них по сходной цене два котла и кое-какое оборудование для своей винокурни. Бывал он и в доме помещика, но за стол там ему ещё не приходилось садиться. А его затаённым желанием было – попасть на пышный банкет, войти в панский круг. «Если вести дружбу со знатным панством, – размышлял Кислий, – легче будет выбиться в вельможи. Но пятьсот злотых… Где гарантия, что не на ветер? Да и самому сейчас, когда затевается снаряжение обоза в Дикое поле, нужны деньги. Как же быть?..»
– Панове! Прошу поднять бокалы! – кланяясь, пригласил Саливои гостей к столу.
– Значит, пан согласен? – спросил, улыбаясь, Казьо.
– Дело важное. Необходима взаимная выручка и выгода, – уклоняясь от прямого ответа, проговорил Кислий. – Прошу пана Казимира дать мне хотя бы временно, на месяц-полтора, несколько пар волов с возами. И всё! – почти выкрикнул последнее слово Саливон.
Казьо нахмурился, надулся, поднятый бокал небрежно поставил на стол, жидкость плеснула, залила скатерть.
– Волы до дзябла! – пробурчал Йозеф. – Быдло! – вдруг закричал он. – Быдло! – повторил ещё раз и уставился на Саливона помутнелыми, будто стеклянными глазами.
Кислий побледнел и отвернулся.
– Волы – в компетенции эконома! – заговорил громко Казьо, будто, пытаясь заглушить оскорбительные слова Йозефа и осуждающе поглядывая на него. – Да, да! Разговор должен быть с ним, с экономом!..
– Едем?! – решительно выпалил Саливои.
– Едем, – неохотно согласился Казьо.
Кислий тут же захлопал в ладоши. В гостиную вошла Одарка. Саливон приказал ей запрягать лошадей и немедленно позвать чумака Тымыша Вутлого, которого он предполагал назначить атаманом нового чумацкого обоза, а сейчас решил взять с собой отбирать волов и возы в поместье пана Пшепульского.
Мартын Цеповяз, в белой сорочке, в белых штанах, в постолах на босую ногу, сидел на завалинке. Около него с одной стороны стояла миска, наполненная вишнями, а с другой – с просом вперемешку с пшеницей. Поблизости топтался, заглядывая в руки Мартына то одним, то другим прищуренным глазом, чумацкий «будило» – петух.
Вечерело. Но вокруг ещё было достаточно светло. Воздух чистый, прозрачный. И Мартын хорошо видит ближние, соседние и даже отдалённые, аж по ту сторону яра, хаты, сады. А за селом, на выгоне, поднял растопыренные руки великан ветряк. А там, вдали, у самого горизонта, манит взор широкая синеватая кайма леса.
Цеповяз вспоминает: тот лес раньше шумел вблизи его хаты, а поселение это называлось Каменным зимовником. Летом казак-понизовец – в походе или где-то странствует, гуляет, а как только ударят морозы и появятся белые мухи – добирается сюда, в зимовник, под крышу, в хату. Здесь вылёживается, отдыхает, а весною, когда просохнет земля, повеет тёплый южный ветер и утопчется дорога, – снова подаётся на юг, к Лугу. Но всё проходит. Теперь в селе Каменке живут потомки тех, кто однажды пришёл сюда и больше не соблазнился пребыванием среди низового товарищества. Они осели. Пустили корни и живут. А некоторые и наживаются. Как Кислий, например.
При мысли о Кислии Мартын переводит взгляд на середину села, где виднеется знакомая усадьба. Кого-кого, а род Кислиев Мартын знает хорошо. Он помнит, как впервые явился сюда их родоначальник Пётр. Говорили, будто на Сечи это был вначале неплохой казачина. Да только со временем стал очень загребущим: тянул всё, что попадало ему под руки. Наверное, это и было причиной, что выгнали его вскоре из низового товарищества. Поселившись в Каменке основательно, Пётр начал чумаковать, шататься по ярмаркам и становился всё более загребущим, жадным. Он готов был содрать всё, что есть, с живого и мёртвого. Чумацкие обозы Кислия ходили в Крым, на Дон и в Молдавию. Сам же он, когда разбогател, в дорогу уже не выезжал. За него это делали подчинённые, такие, как Цеповяз. Они чумаковали, а деньги ссыпали в мошну Петра. В отца пошёл и его сын – Саливон.
«Пусть их, богачей, пекучие боли в животе крутят!» – выругался старик. Затем поднялся, оставил завалинку и направился на огород. Отсюда виднее окрестность. Низинная часть села как на ладони: на добрые десятки вёрст протянулись сенокосы, перелески; навстречу, из-за леса, будто журавлиные стаи, выплывают пепельные, с белой каймой, облака и, не дотянувшись до крыльев мельницы, тают и тают. А вон выше, в поднебесье, облака, пронизанные солнцем, будто прочёсанные большим розовым гребнем, зубья-полосы которого достают до земли, словно указывая, где должно садиться небесное светило. Над селом сеется прозрачная синяя мгла, а зелень садов густеет, чернеет. С востока крадётся ночь.
Цеповяз принимается полоть бурьян на огороде и вскоре, утомившись, снова садится отдыхать на том же излюбленном месте – на завалинке.
Ему хорошо видно отсюда, кто проезжает или проходит улицей. Вон и сейчас кто-то идёт… Кажется, знакомые?.. Так и есть. Двором, заросшим спорышом, к хате идут двое из его, цеповязовского, бывшего обоза. Это не удивляет старика. Последние дни почти все чумаки перебывали у него в гостях. Это радовало – не забывают, спасибо им. И в то же время печалило – напоминало о прошлом. Ему стало известно: Кислий готовит в дорогу новый большой обоз на Дон – и что поведёт его Тымыш Вутлый, ученик Мартына Цеповяза. Имя это называют потихоньку, наверное, чтоб не уязвить старого атамана. Только от такой заботы ему не легче. Никто не знает и не догадывается, что в тихие лунные ночи, а бывает, и в тёмные, и в непогоду он выходит на Чумацкий шлях, чтоб там развеять свою печаль, отдохнуть сердцем, ибо что поделаешь, когда у него теперь в жизни только минувшее – воспоминания о том, что было, скитания чумацкие только снятся.
– Низкий поклон атаману! С субботою вас! – поздоровался первым Семён Сонько.
– Будь здоров, атаман! – словно луговой деркач, проскрипел Гордей Головатый.
Мартын не ответил, будто пришедшие обращались не к нему. Он сидел неподвижно и продолжал кормить с рук петуха.
– Ты оглох или не признаёшь нас? – повысил голос Гордей.
– Да какой же я теперь атаман? – сурово сказал Цеповяз. – Если надумали насмехаться-дразнить, то поищите другого дурня. Идите той дорогой, какой пришли сюда! – Мартын швырнул на землю зерно и показал рукою на тропинку, которая вела на улицу.
– Не закипай! Пришли по делу! – проговорил тоже сурово Головатый. – И как раз затем, чтоб имя атамана Цеповяза славилось и дальше. Вот так!
– Думаем снова снарядить свой чумацкий обоз, – поспешил пояснить Семён.
Мартын с достоинством выдержал такое неожиданное сообщение, он сидел как закоченевший, не повёл даже бровью.
– Наберётся возов двенадцать – пятнадцать, – продолжал Семён. – Все наши каменские, не богачи-дуки, но имеют ноги и руки, – вставил он присказку. – И по паре волов, а то и по две. А если поднатужимся, то, может, соберём и двадцать возов. Оно, ежели подумать, конечно, немного, маловато. А что поделаешь…
«Да, маловато, – мысленно согласился Мартын, – хотя б полсотни набралось. Чем больше обоз – тем больше чумаков и, значит, безопасней дорога. Саливон, говорят, в супряге с паном Пшепульским да ещё с кое-какими богачами готовит шестьдесят – восемьдесят мажар…» Цеповязу хотелось спросить, что именно повезут каменчане на Дон или в Азов и какая будет охрана обоза: найдутся ли гаковницы, пистоли, копья? Но вместо этого он сказал безразлично, с неохотой:
– Я уже, как видите, осел в гнезде, приглядываю за буряками. Да, приглядываю… Собака. Осел!.. – Он вздохнул. – Что ж вы стоите? Прошу садиться вот тут, на завалинке. Сегодня утром прибежали из села молодицы, девчата, побелили. Садитесь, здесь чисто, и берите свежие ягоды, – сердечно пригласил Мартын Семёна и Гордея и повёл разговор о сенокосе, о том, что люди начинают жнива, а за Каменкою на солнцепёке уже и копны видны.
Гордей начал было опять слово за словом клонить разговор к снаряжению обоза, но старик не поддерживал его. Он отмалчивался или твердил одно и то же: «Я уже подбитый, подтоптанный, пусть другим стелется далёкая и счастливая дорога…» Дело не клеилось.
– Да садитесь же! Чего торчите столбами?! – почти выкрикнул вдруг Мартын и уже тише добавил: – Пришли, будьте гостями, садитесь, угощайтесь. В этом году хорошие ягоды уродились, – он подсунул гостям миску с вишнями.
– Хорошая закуска, – сказал Головатый, попробовав ягод. – А мы, дурни, идя сюда, не захватили даже полжбанчика.
– Я непьющий, вы же знаете, – запротестовал Мартын.
– Ну, хотя бы пригубил или понюхал для чести, – отозвался Семён. – У горилки ведь бывает и вкус и дух приятный.
– Да, для чести! – поддержал решительно Гордей. – Только ради этого катай-ка, Семён, до корчмы и возьми полштофа. Вот деньги.
– Зря, друже, магарычишь, – недовольно сказал Мартын, когда Семён ушёл. – Зря тратишься.
– Деньги как полова: откуда б ни повеял ветер! – развеет, – ответил Гордей весело.
– Верно. Но тратить нужно разумно, – заметил Мартын, – не на всякую чепуху.
– Твоя правда, – сдался Гордей. – Но хоть крутись, вертись, а магарыч выпивать придётся… Хотел иметь с тобою, Цеповяз, разговор с глазу на глаз.
Мартын внимательно посмотрел на Гордея.
– Выезжать на Дон тебя просит, – начал доверительно Головатый, – кроме каменчан и низовое товарищество. Просьба от коша.
– От коша, – задумчиво повторил Цеповяз. – Знаю, ты, бывало, говорил «кош», а в мыслях, у тебя был Сирко, Иван Сирко…
– Да, бывало, – проговорил глухо Головатый, – бывало… Вечная память славному рыцарю, кошевому Ивану Сирку! – Он снял шапку и склонил голову.
– Вечная память!.. – торжественно повторил и Мартын, становясь рядом с Гордеем.
– Кошевой Сирко завещал нам, – заговорил снова Головатый, – продолжать святое рыцарское дело – стоять за родную землю, за парод, громить наших врагов – басурманов и панов! Нот так!..
– Вечная слава ему в веках! – добавил Цеповяз.
– Похоронен он недалеко от Чертомлыка, в Канулевке. А святое рыцарское дело – среди людей! Так что не годится нам с тобою, Мартын, – повысил голос Головатый, – не годится сидеть на огороде около буряков!.. – Он на какое-то время замолчал, о чём-то раздумывая, и уже тише продолжил: – Пусть будет тебе известно: кроме тех возов, о которых говорил Семён, десятка четыре, а может быть, и больше, в одном обозе под видом чумацких пойдут возы и из Запорожья. Будет конная охрана… Какой именно товар они повезут, я не скажу, так как сам не знаю. А с Дона, есть такая думка, забрать всякое необходимое казаку снаряжение. Наши братья донцы, как известно, имеют от Москвы хорошие гаковницы и всё другое, нужное в походе… А ещё, атаман, возьмём с собою того чёрного камня. Скажу тебе: этот камень, может быть, самое важное. На Запорожье очень им заинтересовались. Вот так!
Головатый замолчал и стал ждать, что ответит ему Мартын. Но тот – ни слова. Гордею хотелось знать, какое впечатление произвело на Цеповяза известие о снаряжении такого необычного чумацкого обоза. Он доверил старику почти всё, надеясь, что Цеповяз всё же станет командовать обозом. Не сказал он Мартыну лишь о том, что под видом чумаков с ними будет несколько человек, которые поедут на Дон на переговоры. А о чём именно – и ему неизвестно, можно только догадываться. На Сечи готовятся к походу, сзывают на Луг добровольцев, и доверенные-гонцы поедут держать совет. Ибо так уж издавна ведётся: когда затевается какая-то буря, а тем паче когда должны двинуться на извечного врага – крымских ордынцев, то запорожцы и донцы всегда договариваются о совместных действиях. Так было и недавно, когда брали у турок Азов.
– А когда ж отправляться? Или Кислиев обоз пойдёт раньше? – спросил наконец Цеповяз. И Гордею стало ясно, что Мартын не безразличен к тому, что он ему сообщил.
– Мажары из Запорожья уже в дороге, направляются сюда. А Кислию дорогу нужно преградить… Преградить! – повторил решительно Гордей.
– Преградить? – удивился старик. – Но там же возы уже упакованы, волы подобраны и обозы отправляются завтра или послезавтра. Ты, Гордейка, видно, ничего не знаешь, поэтому и говоришь на ветер.
– Нет, не на ветер! – сказал уверенно Головатый.
– Заходил недавно Тымыш, – продолжал Мартын, – хвалился, что везут они полотна, поташ… Говорил, что якобы такой товар сейчас в хорошей цене на Дону. А когда будут возвращаться, с Дикого поля вывезут тот горючий камень. Слышал я, что Саливон очень уговаривал Савку Забару, чтоб тот ехал с обозом и показал, где именно лежит этот камень.
«Сообразил, чёртов мироед, на чём можно погреть руки!..» – подумал с возмущением Гдрдей.
– Нет, этот земляной уголь возьмём мы! – сказал он решительно. – Об этом я сам побеспокоюсь!.. А ты, батько Мартын, – понизил Гордей голос, – наверное, понимаешь, что весь наш сегодняшний разговор, как говорят, «только между нами, панами». Тебе доверяет наша беднота, и товарищи с Луга тебя знают: не раз был полезным низовому товариществу…
– Последнее поручение на Дону не выполнил, – вздохнул Мартын. – Как-то так получилось, что оруженосца есаула из Черкасского так и не удалось мне найти.
– Зато я с ним встречался, – сказал Гордей.
– Ты?! Встречался?! – удивлённо воскликнул Цеповяз. – Вот это дело! Так вот какой был у меня чумак?!.. – " И он с такой силой ударил Гордея по плечу, что тот едва удержался на ногах.
Золотоперый "будило", который уже было умостился на груше, вдруг слетел на землю и закричал во всё своё петушиное горло.
– "Будило", наверное, спрашивает: возьмём ли мы его на передний воз? – усмехаясь, заметил Головатый.
– Возьмём, – поняв намёк, ответил Цеповяз и первым пошёл навстречу Гордею с раскрытыми руками для объятья.
На улице показался Семён. Он был уже, как видно, подвыпивши, ноги его не совсем слушались, но в правой, вытянутой руке он крепко держал небольшой глиняный поставец, а в левой – огромного чебака. Он шёл слегка покачиваясь и о чём-то непринуждённо-весело разговаривал сам с собою.
– Ты уж, батько, здесь сам принимай гостя, – сказал Головатый, освобождаясь из объятий Цеповяза, – а мне нужно идти.
– Вот это уж нет, – запротестовал Мартын, – заказал – пей, пей хотя бы чарку.
– В другой раз не откажусь даже от кварты. А сейчас и маленькая чарка может стать помехой. Мне сегодня нужно иметь ясную голову, – проговорил Гордей и, попрощавшись, исчез на огороде, в густом вишняке.
Выйдя на улицу, Головатый направился не домой, хотя хата его была недалеко от двора Цеповяза, а в переулок, к усадьбе Забары. Там его уже ждали нарочные с Низу – Максим Чопило и Михаил Гулин.
Казака Гулого Головатый не знал. Но когда знакомился с ним, ему показалось, что он его уже будто где-то видел, где-то вроде уже слышал его шепелявый говор. Но где, когда – он не мог вспомнить. Да и некогда было ему над этим раздумывать.
Настроение у Гордея было приподнятое. Его радовало, что Цеповяз дал согласие быть атаманом. Что и говорить, без него было бы трудно в дороге. Мартын – опытный вожак и знает, где и как проехать, где лучше остановиться. Да и на торге не прозевает. На Дону у него много своих людей, которые, когда нужно, посоветуют и помогут. Радовало Гордея и то, что сегодня наконец будет решён и ещё один вопрос: как задержать, а то и вовсе не пустить в Дикое поле Кислиев обоз.
"Чёрный горючий камень должен вывозить не Кислий, а каменская община, и низовое товарищество. Только так…" – думал Гордей, бодро шагая по улице.
Готовый к отъезду обоз расположился на кислиевском дворе и прилегающих к нему улицах. Завтра, в воскресенье утром, после того как отец Танасий торжественно освятит-благословит, возы, поскрипывая от тяжёлого груза, тронутся в дорогу.
Обоз поведёт Тымыш Вутлый. Каменчане не раз, особенно в последние дни, говорили ему, чтобы он подумал, отказался от атаманства, – мол, куда лезешь, справишься ли с такой обязанностью. Намекали ему и на то, что нехорошо становиться на место Цеповяза, пользуясь случаем, что Мартын попал в немилость к Саливону. Но Тымыш не хотел никого слушать. Он рвался в дорогу и был уверен, что справится. Ведь сколько раз уже он направлял под присмотром атамана Цеповяза чумацкий обоз и на ярмарках вёл торг с покупателями и продавцами. Цеповяз даже хвалил его за расчётливость, за бойкость. Кроме того, Тымышу было приятно, что ему доверяет такой хозяин, как Кислий, и плату даёт большую, нежели давал до сих пор Цеповязу. А перед Мартыном он – чистый, вины в его судьбе-беде нет. Почему же он должен отказываться от атаманства?








