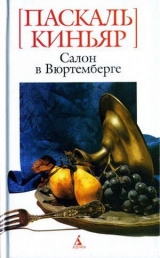
Текст книги "Салон в Вюртемберге"
Автор книги: Паскаль Киньяр
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Быть музыкантом, без сомнения, означает попытку овладеть звуками, попытку обуздать их силу, смягчить извечное звуковое страдание. Друзья частенько подшучивают надо мной, видя, как я записываю малоизвестных музыкантов на плохо продающиеся диски, как я составляю их биографии, даю уроки раз в неделю и при этом никогда не хожу в Оперу, в «Плейель», в церкви, имею бедную, просто жалкую фонотеку, не слушаю передачи Франс-Мюзик. Они не понимают, что для меня главное бедствие мира воплощено в звуках. Хотя, если подумать, и здесь найдется несколько приятных исключений – увы, ныне почти уже забытых. Это праздничные дни в Бергхейме, когда до меня долетали издали обрывки игры городского духового оркестра. «Вот оно! Вот настоящая музыка!» – думал я, трепеща от радости и с омерзением вспоминая триоли с двойными восьмушками, которые мы, все пятеро, по воскресеньям после обеда пытались – безрезультатно, до нервных срывов, до истерического хохота – исполнить в лад. Я мчался туда, где ревели трубы, но, случалось, ветер относил звуки в сторону, сбивая меня с пути. А я все бежал и бежал. Поворот за угол, неожиданная изгородь – все не давало мне ходу. Наконец я приближался к цели, взъерошенный, пьяный от усталости, переполненный этой музыкой, уже звучащей у меня в груди, и гонимый вперед острым волнением, которого сам боялся до такой степени, что иногда вдруг останавливался посреди дороги, на розовых плитах мостовой Бергхейма. Или же замедлял шаг. Мне казалось, что этот восторг, так властно, так болезненно переполнявший мое тело, и в самом деле не знает никаких границ.
Я решительно отказывался от свиданий с Изабель в домике Шату. Мы встречались в скверно отапливаемом номере маленькой гостиницы на полдороге между Сен-Жерменом и Шату, в которой мне уже приходилось жить во времена военной службы. Гостиница стояла в районе Везине, у самой Сены, но нам чаще всего доставался номер с окном, выходящим на церковь Святой Паулины. В таких случаях мы ютились под цинковой крышей, по которой звонко барабанил дождь; голуби и воробьи садились на нее, чтобы отряхнуться, а потом стремглав, точно бомбы, срывались вниз. Слабосильный электрокамин как-то странно щелкал или вдруг начинал икать – в общем, больше шумел, чем грел. Мне вспоминаются октябрьские утра, когда влажный замерзший носик Изабель напоминал холодную мокрую «пуговку» Понтия Пилата; перед тем как открыть глаза, она просила меня обнять ее, растереть, расцеловать, согреть.
Раздеваясь, мы украдкой, как дети, разглядывали друг друга. То ли в комнате было слишком холодно, то ли мы были слишком стыдливы, но мы спешили поскорее юркнуть под одеяло, поверх которого наваливали красную перину, в свою очередь прикрытую нашими плащами. Все это весомое хозяйство казалось нам гарантией тепла – и, быть может, невидимости.
Мне никак не удавалось заснуть в этой крохотной комнатушке. Всякий раз я выходил оттуда простуженным. И всякий раз на следующий день после любовного свидания клялся себе, что больше никогда не буду заниматься любовью.
Если до сих пор наша жизнь была просто адской, то теперь она стала еще и унылой. Даже вид ребенка, который, присев на корточки и печально глядя в пространство, сосал пальчик, казался нам обвинением. Мы из кожи вон лезли, лишь бы хоть как-то развлечь Дельфину. Например, садились оба на пол в разных концах коридора, широко расставив ноги, и гоняли взад-вперед игрушечные машинки. Но смех звучал не часто. «Камень раз, камень два – отвалилась голова, камень три, четыре, пять – где нам новую занять?» – декламировала Дельфина; как правило, Изабель хохотала над этими детскими считалочками, но сама Дельфина забавлялась ими все реже и реже, а ведь раньше ей никогда не надоедало подолгу твердить их.
Потом испортилась погода, и мадемуазель Обье перестала брать к себе Дельфину.
«Ах, друг мой, – сказала она мне, – по осени я превращаюсь в полную развалину и уже ни на что путное не гожусь!»
Нам стало совсем трудно встречаться. Впрочем, Дельфина и сама отказывалась ездить в Сен-Жермен, хотя получила от Мадемуазель несколько подарков – старый лакированный пенал гранатового цвета, линейку красного дерева с бронзовым ребром, эбеновую вставочку для пера. Возможно, ребенок инстинктивно угадывал, чем заняты наши дни. Что касается мадемуазель Обье, я всегда был уверен, что она тотчас же все прочитала на моем лица И стала разговаривать со мной раздраженным тоном, едкими намеками. То вспоминала какую-то Каролину Ребу, проживавшую в доме № 28 по улице Мира, то сетовала, что ее матушка, да и она сама, были недостаточно богаты, чтобы одеваться у Пакена, и в то же время исподтишка следила за мной, глядела осуждающе. Любая мелочь становилась поводом для стычек.
«Мы посещали концерты в Шатле, ими дирижировал господин Колон, – рассказывала она. – И ездили туда в фиакре на резиновом ходу. Кучер высаживал нас у фонтана „Пальмы", а там уж мы пешком переходили улицу…»
Я отвечал, что улица сохранила свой прежний облик, и она тут же вскипала:
«Нет! Она давно уже не такая!»
«Такая же».
«Ничего подобного! Там даже не пахнет лошадиным навозом!»
И начиналась ожесточенная перепалка. Я стал избегать мадемуазель Обье.
Мои свидания с Изабель прервались на целых десять дней. Ибель рассердила эта пауза в нашей любви. Она потребовала, чтобы я приходил к ней по выходным, но чтобы Сенесе не знал об этих свиданиях, чтобы ноги моей не было в гостинице Везине. Ибель решительно не желала, чтобы нас где-нибудь застали вместе. Она уговаривала меня встречаться тайком у нее дома, в Шату. Я отказался, мне было страшно. Достаточно того, что я предал дружбу Сенесе, – не хватало мне еще совать голову, руки или ноги в гордиевы узлы галстука, шнурков и в прочие путы, которые ему так нравились!
На первой неделе октября я дважды побывал в гостинице Везине, но Изабель так и не смогла выбраться туда. Потом наступили выходные, и мне поневоле пришлось ехать в Шату. Все это время мы жили в какой-то горячке. Я даже не могу вспомнить точные даты. Нами владело жадное нетерпение подростков, вырвавшихся на волю после шестнадцати месяцев тюрьмы, только наша тюрьма – или раззолоченная клетка – была в Сен-Жермене. К одиннадцати часам Сенесе принимал снотворное, которое, в смеси с алкоголем, совершенно одурманивало его. Затем они с Изабель шли спать. Однажды в субботу вечером Ибель как-то странно взглянула на меня. И, целуя в щеку – после того, как я пожелал спокойной ночи Сенесе, – вдруг шепнула: «Я приду».
«Нет!»
«Да! Я приду».
Она произнесла это тоном упрямого ребенка. Не знаю почему, но этот вечер подарил мне еще более острое наслаждение, чем в первый раз.
Трижды наши свидания проходили таким образом, – мы сливались в объятиях, сжав зубы, чтобы не крикнуть, насторожившись, точно испуганные звери, забившиеся в нору. Изабель приходила ко мне в час, в два часа ночи. Я слышал, как скрипят ступени, как она медленно, крадучись, взбирается наверх. Она поворачивала белую фаянсовую дверную ручку, холодную и чуть липкую. Она не зажигала свет. Я даже не слышал, как она подходит, не слышал ее дыхания. Сначала я чувствовал ее запах, потом тепло и, наконец, тело. И мы любили друг друга – поспешно, неуклюже, боязливо, как все существа, презревшие наслаждение и свято верящие в любовь. Мы едва дышали. Мы обменивались машинальными, нервными поцелуями, и любой посторонний звук прерывал наши неловкие, жалкие ласки, которые сопровождались лишь сумасшедшим сердцебиением да редкими приглушенными стонами.
Возле двери стоял старинный туалетный столик для умывания. Приезжая, я складывал на нем свои ноты. А Ибель каждую субботу ставила туда же вазу с цветами. Третьего ноября, в два часа ночи, Ибель споткнулась о футляр моей виолончели, взмахнула руками, стараясь удержаться на ногах, и опрокинула на пол вазу с водой и большим букетом золотистых хризантем, которые принесла сюда утром. Падение вазы наверняка произвело оглушительный грохот, но, честно говоря, я этого совершенно не помню. Мы застыли на месте. На шум никто не прибежал. В доме по-прежнему царила мертвая тишина.
Сняв простыни с кровати, мы вытерли ими пол. Ибель приоткрыла дверь: внизу было темно и тихо. Она решила остаться у меня. Я не смог отговорить ее от этого решения. Она лежала, не спуская глаз с зеленых стенных часов. И плакала, молча глотая слезы. Всю ночь мы клялись друг другу в вечной любви. И терзались страхом. Так не могло больше продолжаться. Утром мы вместе спустились вниз, серьезные и смущенные, с твердым решением разрушить прошлое, сказать правду, усугубить несчастье и боль, которые, как нам казалось, мы больше не в силах переносить одни. Флорана в кухне не было. Он уже ушел. Куда – мы не знали. Он увидел – если так можно выразиться – отсутствие Изабель в постели. И, без сомнения, услышал грохот падения белой вазы с золотистыми хризантемами – яркими, как яичный желток, – когда та вдребезги разбилась у наших ног.
В десять утра он как ни в чем не бывало позвонил домой и велел нам купить дораду на ужин. Утром он видел на рынке дорад, которые продавались довольно дешево и выглядели, по его словам, великолепно. Кроме того, он напомнил, что ждет нас у Мадемуазель к обеду с последующим концертом. Нам пришлось второй уик-энд подряд играть эту жутковато-грустную комедию, и опять мы ничего ему не сказали. Мы держались так, словно нас не терзала душевная боль, не мучила совесть. Ночью Изабель снова поставила на своем и пришла ко мне. Мы лежали, пристально глядя на зеленые часы, чутко ловя шорохи на лестнице и втайне истово надеясь, что вот сейчас скрипнет ступенька и наш страх отыщет наконец свою добычу. Мы не занимались любовью: занимаясь любовью, мы слушали тишину. И могу признаться, что это не доставляло нам никакого удовольствия. Сходясь вместе, мы, все четверо, беседовали с одинаковым, приветливым безразличием людей, которые стригут себе ногти, болтая при этом о том о сем:
«Кажется, Анни собиралась зайти».
«Мадемуазель сегодня без конца рассказывала мне о мирном договоре в Трансваале».[33]33
В Трансваале (Южная Африка) в 1902 г., после победы Великобритании в англо-бурской войне, был подписан мирный договор, оставивший эту провинцию за англичанами.
[Закрыть]
«Ну вот, кажется, я запорол свой беарнский соус».
Сенесе сидел за столом, нетерпеливо предвкушая трапезу. Склонившись над тарелкой, он пробовал соус, который готовил – и которому действительно было далеко до беарнского, – сдабривая его то перцем, то укропом. В тот вечер мы снова ели рыбу – барабульку с укропной подливкой. Меня знобило, я без конца чихал. Изабель обратилась ко мне. Ибель сказала:
«Дай-ка мне еще соли… Можешь взять бутылку. И откупорь ее».
Внезапно глаза Сенесе наполнились слезами. Я стоял, протягивая Ибель соль. У Сенесе болезненно исказилось лицо.
«Что такое?» – спросила Ибель, испуганно глядя на него.
«А-ах!» – простонал он.
«Да что с тобой?» – опять спросила она. Он скорчился на стуле.
«Ну что с тобой, Флоран? Тебе плохо?» – воскликнула она, тоже со слезами.
Сенесе указал на меня пальцем.
«Ты… ты говоришь ему „ты"!» – выдохнул он.
Мы переглянулись. Как описать эти взгляды? Я могу сравнить их разве что с дождевыми каплями – тяжелыми, необыкновенно медлительными первыми каплями грозового дождя, возбуждающими какое-то лихорадочное ожидание хаоса, катаклизма, потопа, который неспешно набирает силу за тучами, на небесах.
Малышка Дельфина вошла в комнату, почувствовала приближение грозы и тотчас разыграла из себя младенца, попросив отца «посадить ее на стульчик».
Мне вспоминается клеенка на столе, в мелких фиалках и мелких жонкилях, одни ярко-синие, другие лимонно-желтые; она была уже довольно потертая, но блестящая, почти светящаяся, подобно некоторым зловонным, почти удушливым лакам, и вдобавок липкая: если можно так выразиться, более чем липкая – почти липучая, более чем липучая – почти прилипчивая, более чем прилипчивая – почти неотрывная, как улитки или желтые слизни, плотно приникающие к ладони, когда выпалываешь или засеиваешь грядки. Не помню, что стояло на столе и поели ли мы. Кажется, все-таки поели. Но нам так и не удалось нарушить молчание. А молчание было поистине гробовое. Оно захлестнуло даже Дельфину, которая усугубила его своим собственным, очень нечастым молчанием. Я помню, как она старательно посыпала сахаром дно тарелки и расчленяла вилочкой мандарин, точно снимала ягоды с грозди смородины, – тугие дольки медленно, бесшумно падали в сахар, поблескивая в свете висевшей над столом лампы.
Безмолвие было до того гнетущим, что меня обуял смех – я вообще страдаю этой ужасной, почти ненормальной способностью хохотать не к месту – при виде того, как Дельфина в пятый раз промахнулась и очередная мандариновая долька внезапно шлепнулась на пол. Я, конечно, не рассмеялся вслух, но не смог удержать позывы нервного внутреннего хохота, вырывавшегося наружу то ли кудахтаньем, то ли стонами.
– Что тут смешного? – завопил вдруг Сенесе, ударив кулаками об стол так, что подпрыгнули тарелки и бокалы.
Дельфина уткнулась носом в свой стакан с водой, роняя слезы в воду. И тут мне уже не удалось задавить в себе этот безумный хохот, каждый взрыв которого ранил, точно удар штыка, причиняя жгучую боль, но зато освобождая наконец от мучений совести. Флоран испустил страшный крик.
Глава третья
Вилла в Сен-Мартен-ан-Ко
Мы молчали. Это было одно из тех молчаний, о которых принято говорить – странно, но очень метко, – что его «можно ножом резать», ибо оно и впрямь наводит на мысль о ножах, висящих над головой, как дамоклов меч, как угроза отложенной, но неминуемой казни. Все сидели, уткнувшись в тарелки, с одним-единственным желанием – избежать чужих взглядов. Казалось, мы настороженно вслушиваемся в голос этой мертвой тишины.
Именно тем вечером мы и расстались – расстались в этом молчании. Мы не произнесли ни слова и почти не взглянули друг на друга: в нашем разрыве с Сенесе было что-то роковое. На краю блюда застыла рыбья голова в укропе. Она была мертвенно-серого цвета. Я помню ее выпученный слепой глаз. Мы все были некогда рыбами. Но самые мудрые из нас так и остались жить в озерах каменноугольного периода. И доныне пребывают в числе позвоночных, которые предпочли молчание.
Дельфина открыла жестяную коробку, достала леденец, и я в последний раз увидел, как она протянула леденец своему отцу. И хотя я не испытываю особой любви – а, скорее, питаю презрение – к этим конфеткам, которые, в общем-то, являют собой всего лишь жалкий вторичный продукт экономной утилизации остатков сладкого сиропа, послужившего для изготовления засахаренных фруктов; хотя они сохранили, как отрицание своего первородства, цвет тех самых фруктов, которые погружаются в вязкую расплавленную массу; хотя мое презрение никоим образом не оправдывает само это воспоминание, но тут, в тоненьких розовых липких пальчиках Дельфины, сующих леденцы в рот отцу, они показались мне такими же изысканными, такими же прозрачными, как некоторые витражи – голубые, розовые или желтые – старинной церкви, куда приходишь порой в ненастный день, а они вдруг вспыхивают яркими огнями в пронзившем их солнечном луче. Но если продолжить это сравнение, то мне запомнилось, что больше всего я восхитился даже не пестротой леденцов, подобной разноцветью стекол в темных свинцовых обводах, а изяществом белых волнистых линий, какие тянутся по декам старинных виол, а также пронизывают леденцы; эта белая филигрань не исчезала при сосании и была явственно видна, когда Дельфина вытаскивала изо рта липкий кубик, чтобы со странно озабоченным видом созерцать его блеск в свете электрической лампы.
Ибель и Флоран развелись. Мое имя – Франсуа Равальяк.[35]35
Равальяк Франсуа (1578–1610) – убийца французского короля Генриха IV. Был судим, подвергнут пыткам и четвертован.
[Закрыть] Я приехал из Тувра. Я ждал на улице Ферронри. Высокое колесо кареты было облеплено грязью. Я вскочил на подножку. В руке я сжимал нож. Говорят, Франсуа Равальяк с видом крайнего довольства заявил председателю суда Арлэ: «Я совершил благое дело!» У Ибель был не совсем такой вид. Зато у меня – именно такой. Скажу больше: в течение трех или четырех недель я испытывал чувство, близкое к экстазу – который, впрочем, старался умерить, упрятать поглубже, – и удовлетворение, только острое, полное, какое приходит после того, как драма, долго назревавшая, но отодвигаемая, сдерживаемая, вдруг вырывается наружу, сметая все барьеры. Это чувство было сродни тому радостному ощущению катастрофы, той жажде катарсиса, тому почти физическому облегчению и бурному религиозному восторгу, с которыми мы встречаем грянувшую наконец грозу во всем ее божественном великолепии.
И верно, было что-то от катастрофы в этой нашей последней трапезе. Например, мертвец: я помню тот слепой глаз на отсеченной рыбьей голове. Что касается самого ужина с его поистине грозовой атмосферой, мы, кажется, ели картошку под беарнским соусом – вернее, с укропной подливкой, приготовленной Сенесе, – и тут я вспоминаю, как мама в Бергхейме, приучая нас правильно выражаться по-французски, строго говорила Лизбет: «Эти изъяны на картофелинах называются глазками». А мне чудилось, будто она учит нас снимать шкурку с людей, а не с картошки и вырезать у них глаза острием ножа. Да почти так оно и было: когда она устремляла на нас свой пронзительный или осуждающий, но всегда магнетический взгляд, то словно вырывала из наших голов все недостатки, все упущения, все самые мрачные угрозы и мстительные мысли, как бы глубоко мы их ни скрывали.
Итак, они решили расстаться. Я сбежал. По крайней мере, четверть часа спустя меня уже там не было. Сенесе сидел с ужасным, искаженным лицом. Его пальцы мертвой хваткой вцепились в край стола и тарелки. Он стиснул их с такой силой, что у него побелели суставы. Лицо перекосила и обезобразила нелепая гримаса, свойственная особенно робким людям – людям, поклявшимся никогда не плакать. Позже Ибель рассказала мне, что спустя какое-то время они встретились, чтобы решить судьбу Дельфины и обсудить условия развода, но разговор не получился. Они не могли вымолвить ни слова. В конце концов Сенесе подошел к ней с едва заметной иронической, напряженной улыбкой – под которой тщетно пытался скрыть отчаяние и которую бессилен был сдержать, наклонился и тихонько поцеловал ее полные слез глаза. А потом вышел, сотрясаясь от нервных спазмов в спине и странных всхлипов, больше напоминавших птичий клекот.
Последующие обсуждения этой темы проходили более ожесточенно, поскольку Сенесе пытался добиться – и в конечном счете добился – опеки над Дельфиной. Ибель бушевала, она была в отчаянии. Рыдая, она бессмысленно твердила прерывающимся голосом: «Мне нужно сунуть ноги… ноги в туфли. Мне нужно сунуть ноги… ноги в туфли!» Она целыми часами повторяла эту фразу или что-нибудь подобное убитым, безнадежным тоном.
Оба строили свои обвинения на каких-то пустяках, на давно забытых обидах, не стоивших выеденного яйца или, скорее, остатков сиропа из-под засахаренных фруктов; они вытащили эти липкие отбросы на свет божий, свалили в адский котел своих мстительных амбиций, смешали и расплавили. Результатом стало это убийственное решение. Суд вынес окончательный вердикт только весной 1965 года. Мне помнится, что это случилось за несколько дней до смерти Прекрасной Отеро.[36]36
Отеро Каролина (Прекрасная Отеро) (1868–1965) – испанская танцовщица, актриса, дама полусвета.
[Закрыть] Увы, смерть Прекрасной Отеро не значится в маленьком еженедельнике, который я просматриваю. Они несомненно страдали и, в каком-то смысле, так никогда и не оправились от этих встреч, больше похожих на безжалостные, смертельные схватки. Но при этом, как позже признавалась мне Ибель, ее очень удивляла одна вещь: страдания, которые мучили ее, доводя до безумия, очень долго ни в чем не проявлялись. Да, ей было больно, и эта душевная боль не отпускала ее ни на минуту, но ей казалось, что горе должно было терзать ее, как чисто физическая рана, как всепожирающая, смертельная мука, – быть может, именно такой кары она себе и желала.
В марте 1963 года мы с ним встретились в парикмахерской Генштаба. В мае 1964-го нас мобилизовали, и к тому времени мы уже были лучшими в мире друзьями. В ноябре 1964-го мы расстались, не сказав друг другу ни слова, в после моего дурацкого смеха над блюдом с мертвой рыбой. В конце ноября Ибель спросила, хочу ли я жить вместе с ней. Я поспешил ответить согласием. Наступил день, когда она разлучилась с Дельфиной. Ночью прошел снег. Небо почернело. И снова в воздухе зароился легкий снежок. Ибель протянула мне два чемодана. Малышка Дельфина стояла у коричневой изгороди садика в Шату; она не плакала, упорно не смотрела в мою сторону, просто помахала рукой, а вернее, подняла руку в знак прощания, затем отошла на несколько шажков от дома, запрокинула голову и начала ловить открытым ртом белые хлопья. Еще несколько минут она то махала рукой, то хватала губами снежинки – или, может быть, последние слезы облака, падавшие с небес. Наконец она вернулась в дом, к Флорану, старательно облизывая мокрые губы.
Ибель завершала учебный год в лицее Рюэйля. Иногда, если занятия на следующий день начинались рано, она ночевала у Андре и Луизы Валасс. Я видел ее по выходным. На Рождество мы поехали в Альпы, в одну из деревушек Валлуара. Мне нравилось это селение, его старинный, не затронутый прогрессом вид. Снега не было, зато шли дожди. Мы пили. Проводили время за выпивками. Странную любовь внушал я Ибель: она содрогалась от рыданий. И думала только о Дельфине и Сенесе. Как же нас увлекает эта игра – заставлять себя плакать! Мне очень не нравилась такая жизнь, наши нескончаемые поездки на внедорожнике в погоне за удовольствиями, почти не доставлявшими удовольствия, наша страсть, не приносившая подлинной радости, далекая от искренней жажды счастья, эти стоны и причитания за столиком в кафе, на краю постели, словно на берегах Ахерона или у входа в царство теней. Ибель спала одиннадцать-двенадцать часов подряд, а я стерег ее сон. Как будто нечто, однажды соединившее два существа, требует охраны или защиты. Я вспоминаю, как однажды целую ночь напролет анализировал вместе с Дидоной трудную проблему – вернее, скорбное, нетерпеливое желание разрыва – под всеми углами. А углы эти были ох как неровны – некоторые даже остры, точно шипы акации.
Дидона была очень строгой кошкой с непреклонным характером – настоящая янсенистка или того хуже. И так же как они, никому не выдавала своих истинных чувств. Мне кажется, она считала, что у Господа нет избранных среди людей. Этот постулат не вызывал у нее ни тени сомнения – разве что тень колебания, да и та была чистой данью вежливости. Всем своим видом: пухлыми, как у величавого, дородного епископа, щеками, двойным подбородком, как у монаха, принадлежащего к богатой конгрегации, безжалостным взглядом, как у психоаналитика, изничтожившего собрата по профессии, пышным – разве что без плеч – бюстом, в котором было что-то материнское, – она выражала мне свое неодобрение. Дидона, которую я любил больше всего на свете, была кошкой, которая не говорила, хотя в это трудно поверить. Но, отказываясь возражать вслух, она молчаливо упрекала меня в том, что я решил перевернуть всю свою жизнь, что вздумал порвать с молодой и в высшей степени достойной особой, своенравной и такой же высокомерной, как она сама, к которой она в конечном счете притерпелась; вдобавок она систематически давала мне понять, что осуждает мою новую привычку не спать по ночам, беспрерывно нарушая мирное течение часов, дней, времен года и всего нашего прошлого уклада.
Я никак не мог принять решение. Трусливо откладывал его. В тот год я одержимо играл на виолончели, отрабатывая с Уве sostenuto[37]37
Состенуто (муз.) – сосредоточенно, умеренно (um.).
[Закрыть] и осваивая смычок Турта, потом внезапно бросил это занятие и начал специализироваться, вместе с Клаусом-Марией и Станисласом Аррокуром, в игре на барочной вилончели и на виолах да гамба, теноровой и басовой. Я перевел биографию Форкере для издательства «Сёй» и биографию Дженкинса для «Галлимара». В феврале, а затем в начале апреля 1965 года я занимался правкой корректуры в офисе на улице Себастьена Боттена – крошечной, темной каморке, расположенной на антресолях комнаты, которая без них выглядела бы великолепно и куда Ибель в конце дня иногда заходила за мной, купив перед этим пирожные в кондитерской «У Констана». Окно выходило в сад, где зябли оголенные липы и акации. Конец зимы странным образом украшал эту усыпанную снежной крупой землю, высокие голые деревья, влажный гравий, безводный, темный фонтан, павильончик с ложной перспективой, похожий на покосившийся театральный задник. Узкие, мрачные, извилистые коридоры издательства «Галлимар» напоминали монастырские. В них было боязно говорить громко, и мы шептались. Мы были подобны ящерицам, забравшимся в развалины дворца, чтобы избежать дневного света.
Помнится, именно в том году в Нормандии, куда мы поехали во время пасхальных школьных каникул, я впервые увидел вблизи, на скале, в четырех шагах от себя, поморника – большую серо-коричневую чайку, которая расхаживала среди прочих морских птиц; потом она громко закричала, потом встрепенулась, потом взмыла в небо и бесконечно долго парила в нем. Ибель владела красивой виллой близ Сен-Мартен-ан-Ко, с видом на долину и на море. Мы провели на ней Пасхальную неделю, а потом вернулись и на лето. Уборкой в доме, а также приготовлением обедов и ужинов заведовала некая Жоржетта, коренастая особа пятидесяти пяти лет с обликом квакерши, дубленым лицом и строгим взглядом прозрачных голубых глаз, всегда ходившая в цветастых блузах. Она жила в сторожке, довольно далеко от ворот; Ибель утверждала, что раньше этот домик служил мозаичной и переплетной мастерской. Вначале «мадам Жоржетта» – ее следовало величать именно так, а не просто Жоржеттой – терроризировала меня своими грубыми повадками и резкими, язвительными суждениями, но, возможно, моя память утрирует ее черствость, ее настырность и неотесанность. У нее была весьма своеобразная манера пересказывать увиденные фильмы, изображая все черты героев, вплоть до мелочей, иллюстрируя их речи и общий сюжет своим телом – головой, руками, ляжками (толстыми и могучими). Это не только наводило страх на слушателей, но еще и отнимало массу времени: пересказ полуторачасового фильма, который ее жертва спокойно могла бы посмотреть в местном кинотеатре Сен-Мартен-ан-Ко, длился не менее двух, а то и трех часов. Она была, как мне теперь кажется, одним из тех обезьяноподобных существ – если предположить, что к другим людям этот эпитет уже не относится, – которые нагишом, дрожа от холода, преследовали зверя по пятам и уподоблялись ему до такой степени, что надевали на тело его шкуру, а на лицо – его маску. Добыча, воплощавшая собой их суть вернее, чем они сами, и побудила эти первобытные создания так искусно изображать животных на стенах пещер – пока глаз охотника еще помнил свою единственную цель, свою единственную пищу, – в облике вечно ускользающей приманки, что с тех пор и именуют живописью; при всем том они были не способны запечатлеть на камне самих себя, ибо не являлись в собственных глазах тем надежным источником питания, какой видели в кормившей их добыча и украшали свои картины разве что примитивными геометрическими фигурками с символами пола, до смешного пуританскими.
Одно из первых высказываний, которые я услышал от мадам Жоржетты, едва мы приехали – она даже не позволила нам вынуть из машины вещи или хотя бы мою виолончель, сразу же погнав к столу, куда торжественно водрузила дымящуюся супницу с похлебкой из соленых овощей, которые томила в горшке, добавляя в них воду, вино и сухари, – звучало так: «Уж эта штуковина вам задницу не повредит!»; оно поразило меня до глубины души: я вдруг осознал себя таким же пуританином, как какой-нибудь троглодит из плейстоцена, даром что в этом шокирующем заявлении, честно говоря, имелось некое рациональное зерно. В другой раз она уже всерьез напугала меня, когда, пересказывая фильм, увиденный накануне вечером по телевизору, внезапно вскочила с места, опрокинув стул, и, размахивая перед самым моим носом острым ножом, вскричала: «Нет, господин комиссар, живым вы меня не возьмете!» Добродетельная, набожная, чванливая, она, при всем при том, была довольно проницательной или, по крайней мере, остроглазой, как рысь, и колкой, как морской черт;[38]38
Морской черт – рыба с острыми шипами.
[Закрыть] ее могучее тело было неизменно облачено в фартук с рукавами и воротником до самой шеи, усеянной мелкими коричневыми родинками.
По утрам, глядя в сторону долины, я следил, как утреннее солнце рассеивает туман и смутные, темные, неотвязные видения ночного сна. Солнце постепенно пронизывало этот туман, словно сотканный из волокон и слез, и он волшебно преображал все сущее – деревья, кустарник, небосвод, дома, силуэты, делая их одухотворенными и волнующими. Иногда этой красоте трудно было подобрать название. Любовь тоже обладает этим свойством – хотя я, даже по долгом размышлении, не могу сказать, какая именно любовь преображает того, кого мы любим. Любовь – первая стадия любви – в чем-то подобна этим туманам, пронизанным солнечным светом: она изменяет облик вселенной. Она творит истинные чудеса, заставляя забыть о прошлом, забыть о будущем. Я знаю, что любил по-настоящему одну только Ибель. Ибель-поистине-красивую,[39]39
Имя Ибель (Ibelle) созвучно французскому «belle» (красивая).
[Закрыть] Ибель-стройную, такую тоненькую и высокую, такую обнаженную. Она раздевалась со смущением и величием, каких я не встречал ни у одной раздевающейся женщины. Когда она снимала одежду – стыдясь своей наготы, стыдясь своего желания, – то возникало впечатление, что ей никогда не удастся обнажиться до конца. И эта стыдливость тотчас возбуждала такую страсть, что она и впрямь мешала увидеть ее действительно голой, торопя вслепую, ничего не видя, овладеть ею. Сама нагота Ибель прикрывала нечто безымянное, – я говорю так вовсе не ради красного словца. Ибо мне кажется, что, желая кого-то, жадно упиваясь его наготой, мы ищем в этом другом теле то, чего нет ни в одной статуе, ни на одном костяке. Быть может, эта тайна кроется в нас самих, и, однако, ничто и никогда не обнаруживает ее в нашей собственной наготе, когда мы принимаем ванну, разоблачаемся перед энтерологом или дерматологом, проходим вереницей под струей воды во дворе казармы. В этих случаях нас ничто не волнует.
Ибель спала с чуть приоткрытым ртом, с широко раздутыми ноздрями. Ее сон то и дело сопровождался резкими движениями, пинками в пустоту. Небольшие, упругие, горячие груди подрагивали, точно щеки жующего человека. Я всегда поднимался с постели еще до рассвета. Легко касался поцелуем ее груди, ее волос. Но ее тело находилось где-то далеко, не со мной – что я считал вполне справедливым, – оно было всецело обращено к сновидению, всецело охвачено старой ненавистью или старым страхом, который давал ей, таким образом, уверенность, что она не изменилась, осталась прежней. Внезапно это длинное женское тело сотрясала судорога. Вслед за чем она испускала глубокий вздох – заставлявший опасаться, что я ее разбудил, – и меняла позу или тяжело переворачивалась на живот. Все ее отягощенное сном, разомлевшее тело доверчиво отдавалось нездешним видениям, посвящало красоту своих членов нездешнему миру; я ощущал под пальцами теплую, бархатистую нежность кожи между ее ног, щекочущее дыхание ее рта на своих щеках или губах. Близился рассвет. Я проворно выскальзывал из постели, осторожно прикрывал за собой дверь. В кухне стоял утренний сумрак. Я кипятил воду на старинной печке, где нужно было разгребать угли в топке кочергой и снимать специальным крючком чугунные конфорки, лежавшие на плите, – безмерное, райское удовольствие в первые дни и подлинное наказание – в последующие; вся эта процедура – наложить угля, скомкать газеты, развести огонь и поскорее вернуть на место конфорки – производила адский шум, пламя вырывалось из круглых отверстий на плите, рассыпало искры по всей кухне, жгло руки. Я ставил на огонь чайник, выкладывал на стол масло, хлеб, яйца, фрукты, соль, конфитюр, мясо. Затем шел принимать ванну. После завтрака, в течение трех-четырех часов, я читал партитуры и биографии музыкантов. По условиям договора с «Сёй» и «Галлимаром» я должен был переводить с английского или немецкого по одной биографии в год. Этим я и занимался, надиктовывая текст на магнитофон, до сорока лет, вплоть до того момента, когда у меня появились собственные диски, что позволило мне расстаться с этой работой, плохо оплачиваемой, очень интересной для переводчика, но совершенно не нужной другим людям, а кроме того, довольно трудоемкой, поскольку она принуждала меня без конца штудировать французские, английские, немецкие и американские журналы по музыковедению, крайне занудные, изобилующие ругательными статьями, парадоксальными суждениями и пугающими вердиктами; Часам к восьми-девяти я делал перерыв и шел варить лапшу или картошку. Ибель заявляла, что от кухонных запахов ее мутит по утрам, однако, уступая врожденному аппетиту, благоволила отведать, если можно так выразиться, Kipper,[40]40
Копченая сельдь (англ.).
[Закрыть] или паштет по-татарски, или четвертушку апельсина, запивая еду капелькой токая. Ибель упрекала меня в том, что я встаю, как она выражалась, «засветло»; при этом Ибель была убеждена, что я ставлю ей в вину долгий сон и поздние пробуждения, из-за которых она пропускает утреннюю зарю и лучшую, первую половину дня, поскольку привык жить по своему расписанию – наследию бессонницы детских лет. Подобный упрек я и прежде часто слышал от нескольких женщин, снизошедших до совместной жизни со мной, но точно так же, как в случае с Ибель, мне никогда в голову не приходило винить их в крепком сне, которым они имели счастье наслаждаться, – меня ничуть не задевало и не обижало то, что им так повезло и они могут еженощно надолго умирать в постели. Утренние часы одиночества всегда были высшим блаженством моей жизни. Любящие полагают свое постоянное присутствие необходимым: для них эта неотвязная близость – дело принципа, а эксклюзивное отношение к себе – главная цель. По моему же мнению, нет ничего слаще нескольких часов разлуки с любимым человеком, так же как нет ничего разумнее смены партнера, когда страсть становится предметом расчета.








